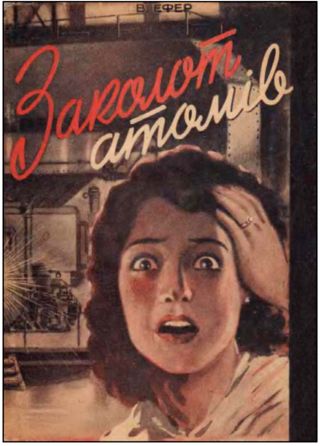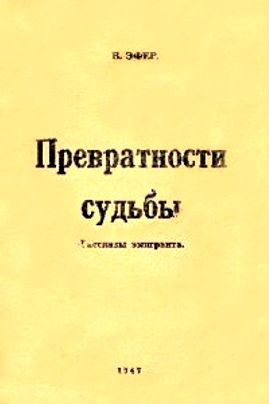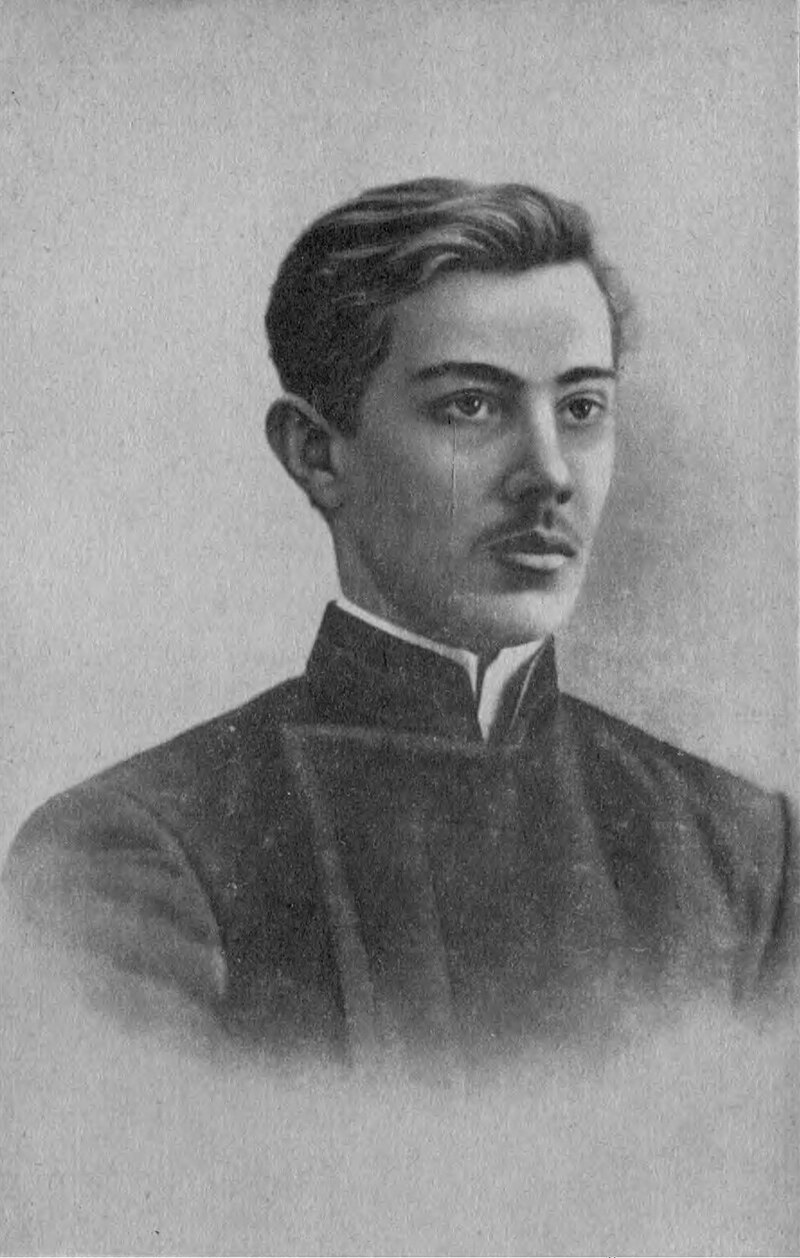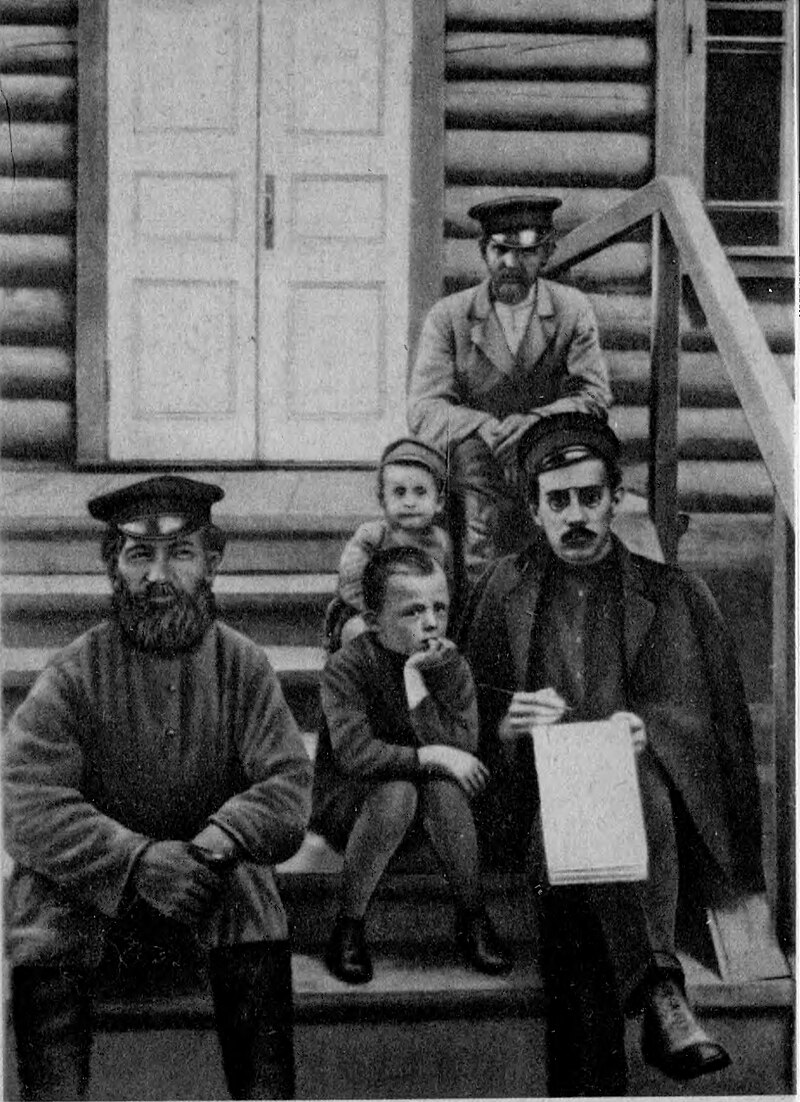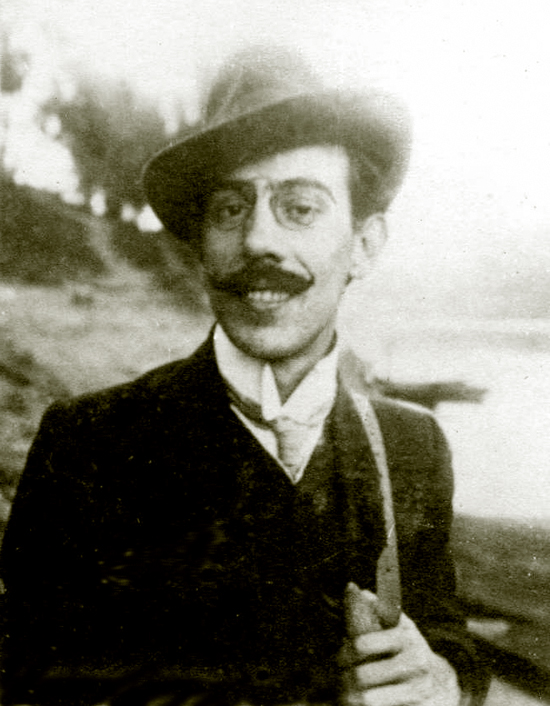| |
| Статья написана 22 марта 2018 г. 20:46 |



Иностранец, иногородний вошедший, вдруг обнаружившийся в городе впоследствии — очень распространённое начало произведениий с мистическим элементом (И. Кочерга — произведения с персонажем Карфункель, Ильф/Петров — об Остапе Бендере (сыне турецко-подданного), Лагин — Старик Хоттабыч, Гайдар "Судьба барабанщика" — дядя (иностранный шпион)... https://fantlab.ru/blogarticle31402 https://fantlab.ru/blogarticle31367 1938 год, как вы понимаете, не самое благоприятное время для фиксации того, что происходит вокруг. Мы поговорим, собственно, о двух книгах этого года, и обе детские. Это «Старик Хоттабыч» Лагина и, понятное дело, «Судьба барабанщика» Гайдара. Они образуют, вообще все эти книги 1938 года, такую своеобразную тетралогию. «Судьба барабанщика», «Хоттабыч», «Пирамида» Леонова, начатая тогда, и, естественно, «Мастер и Маргарита». У трех книг были проблемы с публикацией, только «Хоттабыч» был опубликован легко и сразу. А повествуют они о вторжении в Москву потусторонних сил. В повести Лагина находят джинна, в романе Леонова прилетает ангел, или ангелоид, как он там назван. В романе Булгакова Москву посещает сатана, а в повести Гайдара в Москву приезжает такой инфернальный, тоже со свитой, дядя, шпион западный, как выясняется впоследствии. На вопрос о происхождении этого дяди НКВДшник показывает куда-то в сторону, куда садится солнце, стало быть, с Запада приехал. Но дядя, он тоже, как и все остальные инфернальные персонажи, Воланд, в частности, он обладает свитой, обязательно. У дяди есть старик Яков, помесь Паниковского и Коровьева, и есть роковая старуха, бывшая, видимо, аристократка, с которой встречаются герои в Киеве. Помешанная такая страшная баба, которая потом перекочевала в рыбаковскую «Бронзовую птицу». https://fantlab.ru/blogarticle50089 — Гигант мысли, отец русской демократии ....Он думал! Как Ваше имя? Спиноза? (И-П. 12 стульев) Потный и красный, проскочил я на площадку своего вагона. Дядя вырвал у меня сумку, сунул в нее руку и, даже не глядя, понял, что все было так, как ему надо. – Молодец! – тихо похвалил меня он. – Талант! Капабланка! (Гайдар-Судьба барабанщика — дядя) свита Воланда (Азазелло, Коровьев, кот Бегемот, Гелла) — свита старика Хоттабыча — Волька, Женька (в первых редакциях — ещё и Серёжка) — свита Бендера (Балаганов, Паниковский, Козлевич) — свита дяди (брат Шаляпина, старик Яков, киевская старуха) Тринадцатилетний Серёжа Щербачёв из "Судьбы барабанщика" м его ровесник Волька Костыльков из "Старика Хоттабыча". Из конца в конец романов в начале мира, в разгаре действия или под занавес тянутся, летят пожарные обозы. Где пожарный обоз, там всегда пожар, а где пожар — там бесы, и, стало быть, отец Федор один из них. Бесы, бесы... Сколько их, куда их гонят авторы? А в свиту Главного. Вот Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Даже не знай мы о его кошачьих повадках, по одному только имени должно понять, что он — Бегемот: Киса. Рыжий широкоплечий Балаганов — Азазелло. Его дублер — кроткий Адам Казимирович, поскольку Козлевич — «козел отпущения»: Азазел. Все на того же Азазелло указывает и золотой зуб Паниковского. Если человек хочет иметь эффективную компанию, ему нужно создать архетипическую бизнес-семью, в которой обязательно должен быть отец — вожак (причем не назначенный, а естественно выделившийся); мать — человек с моральными устоями, ограничивающая власть отца; и дети, среди которых старший — умный, а младший — озорник. Именно в такой группе возникает высочайшая эмоциональная поддержка. Возьми любое произведение, и ты найдешь следы той же архетипической семьи. Например, в «Мастере и Маргарите»: Воланд — отец, Азазелло — мать, Клетчатый — старший, Кот Бегемот — младший; в «Золотом теленке»: Остап Бендер — отец, Козлевич — мать, Балаганов — старший, Паниковский — младший. https://fantlab.ru/blogarticle49755 Г. В. Балашов. Как стать авантюристом? *** Два любопытствующих иностранца в Москве 37-го года. Первый написал об этом книгу, второй стал героем повести. В 1937 году Лион Фейхтвангер посетил Москву и написал об этой поездке книгу. Само собой, Фейхтвангер не был тогда единственным иностранцем в Москве: и другие тоже навещали наш стольный град. Вот я и хочу рассказать о пребывании здесь одного заморского чудака. Он оказался в СССР в тот же год, что и Фейхтвангер, и ему в Москве до того понравилось, что он решил натурализоваться. Случай, как известно, далеко не единственный, но стоящий того, чтобы о нем рассказать. Звали иностранца Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб. Нечего и говорить, что у имени этого не было тогда никаких иных коннотаций, кроме сказочных. В отличие от Фейхтвангера Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, которого мы в дальнейшем вослед за мудрейшим из отроков будем по-простецки именовать Хоттабычем, не оставил письменных свидетельств о пребывании в столице страны победившего социализма. За Хоттабыча это сделал его жизнеописатель — автор одноименного бестселлера Лазарь Лагин. «Старик Хоттабыч» был опубликован в тридцать восьмом — естественно считать, что Гассан Абдуррахман прибыл в Москву годом раньше и, может быть, даже (почему бы и нет?) столкнулся как-то на улице Горького с Фейхтвангером, но они не обратили друг на друга ни малейшего внимания. Фейхтвангер был западным еврейским интеллигентом, эмигрантом, бежавшим от нацистских преследований. Все это отразилось и в его московских заметках. Книга Фейхтвангера представляет собой попытку понимания со стороны: социальный и культурный опыт автора внеположен советской действительности. В каком-то смысле он тоже был Хоттабычем. Хотя в отличие от него не захотел в Москве задержаться. Из соображений симметрии Лазаря Иосифовича Лагина (Гинзбурга) следовало бы назвать советским еврейским интеллигентом (ничего, что я раскрываю псевдоним? в этом нет ничего безнравственного?), однако национальная характеристика, столь важная в отношении Фейхтвангера, в отношении Лагина (во всяком случае, здесь) совершенно бессмысленна. Лагин родился в 1903 году в Витебске, и у него, разумеется, был еврейский опыт, но этот опыт никак не сказался в его книге. Не был востребован. То есть, возможно, если специалист станет смотреть в микроскоп, он что-то и заметит, но я как читатель без сверхзадачи не вижу здесь ни следа, ни тени какой-то национальной подоплеки. Лагин типичный советский столичный интеллигент тридцатых, человек, смотрящий изнутри советского социума, Лагин воспевает прекрасную советскую жизнь, показывает ее огромные достижения и преимущества, он талантливо делает это в своей приключенческой фантастической повести для подростков — случай, когда социальный заказ счастливо совпадает с пафосом самого автора. Фантазии невинные и винные Тем не менее некоторые образы Лагина представляются достаточно амбивалентными. Вот, например, знаменитая сцена экзамена. Парализованный чужой волей Волька вынужден повторять кажущиеся ему чудовищными слова только потому, что этого хочет дядя за дверью: «Волька вдруг почувствовал, что какая-то неведомая сила против его желания раскрыла ему рот». Дальше еще сильнее: «. . .отвечал убитым голосом Волька, и слезы потекли по его щекам», «. . .продолжал против своей воли отвечать наш герой, чувствуя, что ноги у него буквально подкашиваются от ужаса». Сцена из кошмарного сна. В одноименном фильме, снятом, кажется, в пятидесятых, уже после смерти Сталина, гротескность ситуации усилена: Хоттабыч диктует несчастному Вольке ответы не из-за закрытой двери, а с портрета! С портрета-то как раз все и диктовалось! Экзамен смотрится внятным эвфемизмом больших процессов. Такого рода черный юмор был уж совсем несвойствен Лагину. Надо полагать, он бы вознегодовал (и вострепетал! о как бы вострепетал!), услышав подобную интерпретацию своей невинной фантазии. Однако же написал текст, из которого естественным образом извлекается содержание, которого он как бы и не вкладывал. Сознательно не вкладывал. Причем эпизод этот не единственный. Чего стоит превращение москвичей («меньше чем в полминуты») в стадо «печально блеющих баранов», которых направляют в исследовательский институт — для опытов. «Стадо дружно заблеяло. Бараны хотели сказать, что ничего подобного, что они вовсе не подопытные бараны, что они вообще не бараны и что несколько минут назад как они перестали быть людьми, но вместо слов из их широко раскрытых ртов вылетало только печальное «мэ-э-э». Само собой, интересному эксперименту будет посвящена статья в журнале с не случайным названием «Прогрессивное овцеводство». Хоттабыч: «Не могу без смеха вспомнить, о мудрейший из отроков, как эти люди превращались в баранов! Сколь забавно это было, не правда ли?» Кому забавно, кому нет, кошке игрушки — мышке слезки: «Волька не находил в происшедшем ничего забавного. Его страшила судьба новоявленных баранов. Их свободно могли зарезать на мясо». Вот Пушкин, например, Александр Сергеевич, нисколько не разделял опасений воспитанного в демократической традиции советского мальчика: К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич! То есть считал, что бараны ровно для того и созданы. И Иосиф Виссарионович Сталин придерживался того же мнения. Я набираю этот текст на компьютере. В текстовый редактор встроен лексический контроль: слова, не известные редактору, подчеркиваются волнистой красной линией. Это позволяет избежать множества ошибок, которые я по незнанию или невнимательности допускаю. Каких слов не знает редактор? «Жизнеописатель» ему неизвестен, писателя Лагина не знает, «Хоттабыч» для него просто набор литер. Но что куда интереснее, ему неведом и «Виссарионович»! Иосифа знает, Виссарионовича — нет! Господи, да можно ли было вообразить такое полвека назад! Изощренная (хотя и неумышленная) месть объявившему кибернетику лженаукой. Но вернемся к нашим баранам. В отличие от книги Лагина, где для них все кончается хорошо, в реальной жизни не сыскать было доброго сердцем Вольки, обладающего неограниченным влиянием на мага; кроме того, кремлевский маг в отличие от сравнительно добродушного Хоттабыча любил резать и получал от этого удовольствие. Предшественник Абдуррахмана Незадолго до появления Хоттабыча в Москве столицу посетил другой иностранный специалист, причем тоже явился при водах: правда, возник не из пучины реки, а на берегу прудов. Эти явления сопровождались подчеркиваемым обоими авторами безлюдьем места действия — совпадение, как бы диктуемое ситуацией. Однако у «Мастера и Маргариты» и «Старика Хоттабыча» вообще полно совпадений. Воланд выступает в варьете, Хоттабыч — в цирке. Воланд сбрасывает с небес деньги, Хоттабыч — тоже. У Булгакова есть сюжет изъятия золота — и у Лагина есть! И Булгаков, и Лагин тяготеют к фельетону. Оно и понятно: рука сама писала фельетон — школа «Гудка» и «Крокодила» (у Лагина). (Кстати, А. Беляев публиковался в "Гудке" в 1924-1926 гг.) Лагин переносит сюжет изъятия золота в Италию. Там происходит много интересного, чего ни при каких обстоятельствах не могло бы произойти в СССР: ведь в стране победившего социализма зло уже уничтожено, а отдельные фельетонные недостатки («пережитки прошлого») по природе своей неспособны породить драматического конфликта — вот и приходится искать его за морем. Кроме того, это небольшое путешествие очень в духе социального заказа. В Италии Хоттабыч стремительно проходит путь русской социал-демократии — от благородного сочувствия униженным и оскорбленным до изготовления фальшивых банкнот. Большой проект купца русской революции Парвуса: всеобщая стачка, фальшивые рубли — и Россия повержена. Мудрецы из германского генштаба качают многодумными головами: стачка — ладно, но фальшивые деньги?! Невозможно! Протестантская этика не велит. http://www.jewniverse.ru/modules.php?name... *** 20 нояб. 2014 г. — И. Кочерга — Песня в бокале (1910), Зубний біль сатани (1922), Майстри часу (Часовщик и курица ) (1933) — Карфункель — прототип Воланда (немец, предсказатель, появляется в самом начале произведения). А. Чаянов "Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей" (1921) ... slovar06: Іван Кочерга — Лаборатория Фантастики https://www.fantlab.ru/blogarticle33513 slovar06: Іван Кочерга. ... До свого улюбленого романтично-алегоричного, майже казкового світу драматург повертається 1919 р. в одноактівці «Вигнанець Ваґнер». Із тогочасними ...... Так, цей іноземець дуже виразно нагадує Воланда з відомого роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Уточнимо: не ... https://www.fantlab.ru/blogarticle33475 *** Повесть Александра Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей», главный персонаж которой носит фамилию Булгаков, была известна М. А. Булгакову; её экземпляр был подарен писателю в январе 1926 года художницей Наталией Ушаковой. Согласно утверждению второй жены Булгакова Любови Белозерской, прочитанная Булгаковым повесть Чаянова послужила толчком к написанию им первоначального варианта «романа о дьяволе». *** 6. Ильф — Петров. 12 стульев. М. АСТ-Олимп.2002 ( Критика и комменты- в т.ч. Мастер Гамбс и Маргарита). Ильф — Петров. Золотой телёнок. Двенадцать стульев (авторская редакция).М. Текст. 2006. 7. М. Чудакова. Новые работы: 2003-2006 гг. М.Время.2007 ("Три советских нобелевца"; ассоциации,взаимосвязи,переплетения, -Капитанская дочка+Тимур & команда; Мастер & Маргарита+Старик Хоттабыч ). 8. М. Золотоносов. Слово и Тело. М. Ладомир. 1999. 9. Каганская М., Бар- Селла З.- Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив. 1984. 10. Лурье Я.- В краю непуганых идиотов. СПб. 1997. 11. Петровский М. Уже написан Бендер. Литература №13. 1997. 12. Сарнов Б. Что же спрятано в 12 стульях ( там же). 13. Одесский М., Фельдман Д.- Москва Ильфа и Петрова. Легенда о Великом Комбинаторе, или Почему в Шанхае ничего не случилось. Долгов А. — Великий комбинатор и его предшественники. 14. Левин А. Б. «Двенадцать стульев» из «Зойкиной квартиры». http://masterclub.at.ua/forum/63-177-1 15. А. Н. Барков — Роман МБ "МиМ": альтернативное прочтение. К. 1994. 16. Д. Клугер — Дело гражданина Корейко http://kackad.com/kackad/?p=12834&fb_...... 17. Д. Клугер — Потерянный рай шпионского романа http://www.rf.com.ua/article/952. Штандартенфюрер Румата Эсторский. 19. Петровский М. Книги нашего детства. 20. Петровский М. Городу и миру. 21. http://samlib.ru/s/sapiga_a_w/tolstoj_ael... ** Анри Барбюс **** Г. Уэллс Возможные истоки романа «Мастер и Маргарита» (1929-1940) В дополнение к уже известным исследованиям. И.-В. Гёте «Фауст» (1808) Мефистофель — Воланд, Фауст — Мастер И. Кочерга — Песня в бокале (1910), Зубний біль сатани (1922), Майстри часу (Часовщик и курица ) (1933) — Карфункель — прототип Воланда (немец, предсказатель, появляется в самом начале произведения) А. Чаянов «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1921) — замыслы и сюжетные ходы МиМ М. Булгакова ( М. Чудакова ) В. Брюсов «Огненный ангел» (1908) Вопрос. Кто научил тебя колдовству, сам дьявол или кто из его учеников? Ответ. Дьявол. – Кого ты сама научила тому же? – Никого. – Когда и в какое время дьявол с тобой справил свадьбу? – Три года назад, в ночь под праздник божьего тела. – Заставил ли он тебя, в пакте с собой, отречься от Бога Отца, Сына и Святого Духа, от Пречистой Девы, всех святых и от всей христианской веры? – Да. – Получила ли ты второе крещение от дьявола? – Да. – Присутствовала ли ты на танцах шабаша, три раза в год или чаще? – Гораздо чаще, много раз. – Как ты туда переносилась? – Вечером, под ночь, когда собирался шабаш, мы натирали свое тело особой мазью, и тогда нам являлся или черный козел, который переносил нас по воздуху на своей спине, или сам демон, в образе господина, одетого в зеленый камзол и желтый жилет, и я держалась руками за его шею, пока он летел над полями. Если же не было ни козла, ни демона, можно было сесть на любой предмет, и они летели, как самые борзые кони. – Из чего состояла мазь, которой в этих случаях натирала себя? – Мы брали разных трав: поручейника, петрушки, аира, жабника, паслена, белены, клали в настой от борца, прибавляли масла из растений и крови летучей мыши и варили это, приговаривая особые слова, разные для разных месяцев. – Видала ли ты на шабаше Злого Духа, восседающего в виде козла на троне, должна ли была поклоняться ему и целовать его нечистый зад? – Это мой грех. Притом мы приносили ему наши дары: деньги, яйца, пироги, а некоторые и украденных детей. Еще мы кормили своими грудями маленьких демонов, имевших образ жаб, или, по приказанию Мастера, секли их прутьями. Потом мы плясали под звуки барабана и флейты. – Участвовала ли ты также в служении богопротивной черной мессы? – Да, и дьявол как сам причащался, так давал и нам причастие, говоря «сие есть тело мое». – Было ли то причастие под одним видом или под двумя? – Под двумя, но, вместо гостии, было нечто твердое, что трудно было проглотить, а вместо вина, – глоток жидкости, ужасно горькой, наводящей холод на сердце. – Вступала ли ты на шабаше в плотские сношения с дьяволом? – Дьявол выбирал среди женщин ту, которую мы называли царицею шабаша, и она проводила время с ним. А другие все, в конце пира, соединялись, как случится, кто к кому приблизится, женщины, мужчины и демоны, и только иногда дьявол вмешивался и сам устраивал пары, говоря: «Вот кого тебе нужно», или: «Вот эта подойдет тебе». – Случалось ли тебе быть таковой царицей шабаша? – Да, и не один раз, чем я и бывала очень горда, – господи, помилуй мою душу! http://www.litmir.net/br/?b=113969&p=... А. Беляев «Властелин мира» (1926-1929) : В «Гудке» роман начинался со второй половины четвертой главы второй части — с репортерской заметки «Массовый психоз»: «Вчера вечером в городе наблюдалось странное явление. В одиннадцать часов ночи в продолжении пяти минут у многих людей появилась навязчивая идея, вернее, навязчивый мотив известной немецкой песенки „Ах, мейн либер Августин“. У отдельных лиц, страдающих нервным расстройством, навязчивые идеи или мотивы бывали и раньше. Необъяснимой особенностью настоящего случая является его массовый характер. Один из сотрудников нашей газеты сам оказался жертвой этого психоза. Вот как он описывает событие: — Я сидел со своим приятелем, известным музыкальным критиком, в кафе. Критик, строгий ревнитель классической музыки, жаловался на падение музыкальных вкусов, на засорение музыкальных эстрад пошлыми джаз-бандами и фокстротами. С грустью говорил он о том, что все реже исполняют великих стариков: Бетховена, Моцарта, Баха… Я внимательно слушал его, кивая головой, — я сам поклонник классической музыки, — и вдруг с некоторым ужасом я заметил, что мысленно напеваю мотив пошленькой песенки — „Ах, мейн либер Августин“… — Что, если бы об этом узнал мой собеседник, — думал я, — с каким бы презрением он отвернулся от меня? Он продолжал говорить, но будто какая-то навязчивая мысль преследовала и его… От времени до времени он даже встряхивал головой, точно отгонял надоедливую муху. Недоумение было написано на его лице… Наконец критик замолчал и стал ложечкой отбивать по стакану такт, и я был поражен, что удары ложечки в точности соответствовали такту песенки, проносившейся в моей голове… У меня вдруг мелькнула неожиданная догадка, но я еще не решался высказать ее, продолжая с удивлением следить за стуком ложечки. Дальнейшее событие ошеломило всех. — Зуппе. „Поэт и крестьянин“! — анонсировал дирижер, поднимая палочку. Но оркестр вдруг заиграл „Ах, мейн либер Августин“… Заиграл в том же темпе и том же тоне!.. Я, критик и все сидевшие в ресторане поднялись, как один человек, и минуту стояли, будто пораженные столбняком. Потом вдруг все сразу заговорили, возбужденно замахали руками, глядя друг на друга в полном недоумении. Было очевидно, что эта навязчивая мелодия преследовала одновременно всех… Незнакомые люди спрашивали друг друга, и оказалось, что так оно и было. Это вызвало чрезвычайное возбуждение. Ровно через пять минут явление прекратилось. По наведенным нами справкам, та же навязчивая мелодия охватила почти всех живущих вокруг Биржевой площади и Банковской улицы. Многие напевали мелодию вслух, в ужасе глядя друг на друга. Бывшие в опере рассказывают, что Фауст и Маргарита вместо дуэта „О, ночь любви“ запели вдруг под аккомпанемент оркестра „Ах, мейн либер Августин“… Несколько человек на этой почве сошли с ума и отвезены в психиатрическую лечебницу. О причинах возникновения этой странной эпидемии ходят самые различные слухи. Наиболее авторитетные представители научного мира высказывают предположения, что мы имеем дело с массовым психозом, хотя способы распространения этого психоза остаются пока необъяснимыми. Несмотря на невинную форму этого „заболевания“, общество чрезвычайно взволновано им по весьма понятной причине: все необъяснимое, неизвестное пугает, поражает воображение людей. Притом высказываются опасения, что „болезнь“ может проявиться и в более опасных формах. Как бороться с нею? Как предостеречь себя? Этого никто не знает, как и причин ее появления. В спешном порядке создана комиссия из представителей ученого мира и даже прокуратуры, которая постарается раскрыть тайну веселой песенки, нагнавшей такой ужас на обывателей». Для массового газетного читателя Беляев дает перевод: «Ах, мейн либер Августин» — «Ах, мой милый Августин!» Мы привели столь обширную цитату по нескольким причинам. Во-первых, чтобы указать на ошибки: песенка об Августине названа «пошленькой» и, наряду с «пошлыми джаз-бандами и фокстротами», должна служить образцом современного «падения музыкальных вкусов». Беляев почему-то забыл, что в своей сказке «Свинопас» Андерсен назвал «Милого Августина» старинной песенкой, а сказано это было в 1841 году — за пять лет до появления увертюры Франца фон Зуппе «Поэт и крестьянин» («Dichter und Bauer»)… Да и сама песенка не немецкая, а австрийская… Короче, Беляев ошибся абсолютно во всем… — и при этом попал в точку! Слова «болезнь», «заболевание», поставленные в спасительные кавычки, — это не пугливая ирония газетного репортера, а самая суть: песенку «Ах, мой милый Августин!» сочинили в 1679 году в Вене, пораженной эпидемией чумы. И рассказано в песне про то, как пьяница Августин свалился в яму, а проснулся в окружении трупов. Его и самого приняли за бездыханный труп: Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck, O, mein lieber Augustin, Alles ist hin. Нет одежды, трости нет, Августин лежит в дерьме… Ах, мой милый Августин, Вот и всё, тебе кранты! Вот и в нынешнем 1926 году на Берлин катится новая чума… С одной только разницей — куда страшнее. Психическая! Когда люди перестают быть собой. А теперь вторая причина обширного цитирования — сравните два отрывка, приведенный выше и такой: «Городской зрелищный филиал помещался в облупленном от времени особняке в глубине двора и знаменит был своими порфировыми колоннами в вестибюле. Но не колонны поражали в этот день посетителей филиала, а то, что происходило под ними. Несколько посетителей стояли в оцепенении и глядели на плачущую барышню, сидевшую за столиком, на котором лежала специальная зрелищная литература, продаваемая барышней. В данный момент барышня никому ничего не предлагала из этой литературы и на участливые вопросы только отмахивалась… <…> Поплакав, барышня вдруг вздрогнула, истерически крикнула: — Вот опять! — и неожиданно запела дрожащим сопрано: Славное море священный Байкал… Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе с барышней незвучным, тусклым баритоном: Славен корабль, омулевая бочка!.. К голосу курьера присоединились дальние голоса, хор начал разрастаться, и, наконец, песня загремела во всех углах филиала. <…> Слезы текли по лицу девицы, она пыталась стиснуть зубы, но рот ее раскрывался сам собою, и она пела на октаву выше курьера: Молодцу быть недалечко! Поражало безмолвных посетителей филиала то, что хористы, рассеянные в разных местах, пели очень складно, как будто весь хор стоял, не спуская глазе невидимого дирижера»… http://www.litmir.net/br/?b=196944&p=44 А. Беляев «Борьба в эфире» (1928) : Но был у романа еще один читатель… Вспомним начало: «Я сидел на садовом, окрашенном в зеленый цвет плетеном кресле, у края широкой аллеи из каштанов и цветущих лип. Их сладкий аромат наполнял воздух. Заходящие лучи солнца золотили песок широкой аллеи и верхушки деревьев». А теперь сравним: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина… Попав в тень чуть зеленеющих лип… …пуста была аллея». Читаем дальше: «Это не могло быть сном. Слишком все было реально, хотя и необычайно странно и незнакомо». Сравним: «Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера»… Героя Беляева мы застаем уже сидящим в садовом кресле, а Берлиозу с Иваном Бездомным это только предстоит… Но вот и они «уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной». После этого Беляев описывает «[с]овершенно пустячный случай: мне захотелось курить. Я вынул коробку папирос „Люкс“ и закурил». А у Булгакова так: «— Вы хотите курить, как я вижу? — неожиданно обратился к Бездомному неизвестный, — вы какие предпочитаете? — А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились. — Какие предпочитаете? — повторил неизвестный. — Ну, „Нашу марку“, — злобно ответил Бездомный. Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному: — „Наша марка“». У Беляева: «Это невинное занятие произвело совершенно неожиданный для меня эффект. Несмотря на то, что все эти юноши (или девушки) были, по-видимому, очень сдержанными, они вдруг целой толпой окружили меня, глядя на выходящий из моего рта дым с таким изумлением и даже ужасом, как если бы я начал вдруг дышать пламенем». Потрясены и Бездомный с Берлиозом: «И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно „Наша марка“, сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник»... http://www.litmir.net/br/?b=196944&p=51 Наблюдения М. Чудаковой из «Жизнеописания Михаила Булгакова»: Появление же дьявола в первой сцене романа было гораздо менее неожиданным для литературы в 1928 году, чем через десять лет — в годы работы над последней редакцией. Эта сцена и вырастала из текущей беллетристики, и полемизировала с ней. «26 марта 1913 г. я сидел, как всегда, на бульваре Монпарнас...» — так начинался вышедший в 1922 году и быстро ставший знаменитым роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». На следующей странице: «Дверь кафе раскрылась и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером непромокаемом пальто». Герой сразу понимает, что перед ним сатана, и предлагает ему душу и тело. Далее начинается разговор, получающий как бы перевернутое отражение в романе Булгакова: «Я знаю, за кого вы меня принимаете. Но его нет». Игерой добивается у сатаны ответа: «Хорошо, предположим, что его нет, но что-нибудь существует?.. — Нет»; «Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть?» — эти безуспешные взывания героя-рассказчика у Эренбурга заставляют вспомнить как бы встречный вопрос «иностранца» в первой главе романа Булгакова: «Кто же распоряжается всем этим?» (редакция 1928 г.) и последующий спор. Мы предполагаем в первой сцене романа Булгакова скрытую или прямую полемику с позицией героя-рассказчика романа Эренбурга, нарочито сближенной с позицией автора (само собой разумеется, что и та, и другая сцены проецируются на разговор Федора Карамазова с сыновьями о боге и черте). Непосредственное ощущение литературной полемичности подкрепляется и тем фактом, что отрывок из романа Эренбурга печатался в том же № 4 «Рупора», где и «Спиритический сеанс» — один из самых первых московских рассказов Булгакова; здесь же помещен был портрет автора — возможно, первый портрет Булгакова, появившийся в печати. Не будет натяжкой предположить, что этот номер был изучен писателем от корки до корки. В дальнейшем личность Эренбурга быстро привлекла не слишком дружелюбное внимание Булгакова: роман Эренбурга в 1927 году — накануне обращения Булгакова к новому беллетристическому замыслу — был переиздан дважды. В том же 1927 году в московском «альманахе приключений», названном «Война золотом», был напечатан рассказ Александра Грина (знакомого с Булгаковым по Коктебелю) «Фанданго». В центре фабулы — появление в Петрограде голодной и морозной зимой 1921 года возле Дома ученых группы экзотически одетых иностранцев. «У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест...» Три человека «в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу», составляют его свиту и называют его «сеньор профессор». «Загадочные иностранцы», как называет их про себя рассказчик, оказываются испанцами — делегацией, привезшей подарки Дому ученых. Яркое зрелище — экзотические иностранцы в центре города, живущего будничной своей жизнью, — использованное Грином в качестве завязки рассказа, не могло, нам кажется, не остановить внимания Булгакова. Замечается сходство многих деталей сюжетной линии Воланда в романе и рассказа «Фанданго»: например, описание сборища в Доме ученых, где гости показывают ученой публике привезенные ими подарки, заставляет вспомнить сеанс Воланда в Варьете, так поразивший московских зрителей в более поздних редакциях романа: «Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал, набились они все сюда постепенно, привлеченные оригиналами-делегатами». Глава их «сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь... Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня» и т. п. («Фанданго»). Прозу Грина Булгаков, судя по воспоминаниям друзей, не любил, что не исключало возможности взаимодействия. Фигура «иностранца» как сюжетообразующего героя возникла в прозе той самой московской литературной среды, в которую вошел в 1922—1923 годах Булгаков, в эти же годы формирования новой литературы. Появляется герой, в котором подчеркивается выдержка, невозмутимость, неизменная элегантность костюма, герой, который «брит, корректен и всегда свеж» (А. Соболь, «Любовь на Арбате»). Это иностранец или квази-иностранец (скажем, приехавший со шпионским заданием эмигрант, одетый «под иностранца»). В нем могут содержаться в намеке и дьявольские черты. Приведем сцены из двух рассказов этих лет. «На другой день ветра не было. Весь день человеческое дыхание оставалось около рта, жаром обдавая лицо. Проходя городским садом около самого дома, Фомин присел на скамейку, потому что от мутных дневных кругов, ослеплявших и плывших в глазах, от знойного звона молоточков в виски закружилась голова. И когда на ярко блестевшую каждой песчинкой дорожку выплыл James Best, иностранец, он показался Фомину только фантастической фигурой в приближающемся и растекающемся знойном ослепительном круге. <...> Проходя мимо Фомина, он вежливо снял кепку: — Добрый день. Растерявшийся Фомин в ответ не то покачнулся, не то заерзал на скамейке. И стал думать о Бесте. Кто он, откуда и зачем здесь» (О. Савич. Иностранец из 17-го №.1922; подчеркнуто нами. — М. Ч.).И еще одна сцена... В рассказе А. Соболя «Обломки» (1923) в Крыму влачит существование случайная компания «бывших» — княжна, поэт и др. Они взывают: «Хоть с чертом, хоть с дьяволом, но я уйду отсюда»; «Дьявол! Черт! Они тоже разбежались. Забыли о нашем существовании. Хоть бы один... Черт! http://www.litmir.net/br/?b=121477&p=... Сравнительный анализ Мариэтты Чудаковой из «Новых работ 2003-2006»: ВОЛАНД И СТАРИК ХОТТАБЫЧ В конце 1930-х годов дописывались два очень разных, но сближенных в важной точке произведения – «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Старик Хоттабыч» Л. Лагина. Литературному произведению невозможно задавать вопрос – почему оно появилось. Но иногда все же хочется высказать свою гипотезу. Почему замысел со всемогущим героем в центре, распоряжающимся реальностью по своему усмотрению, разрабатывался столь разными беллетристами – одновременно? Персона, стоявшая в тот год во главе страны, давно уже воспринималась ее жителями как воплощение всемогущества – и в сторону зла, и в сторону добра. О зле разговоров вслух не было, о звонках же кому-либо прямо домой, о неожиданной помощи и т. п. слагались легенды. Само это всемогущество, владение – в прямом смысле слова – одного человека жизнями десятков миллионов во второй половине 1930-х годов было столь очевидно, столь ежеминутно наглядно, что можно представить, как литератора неудержимо тянуло – изобразить не близкое к кровавой реальности (это могло прийти в голову только самоубийцам), а нечто вроде сказки: о том, как некий падишах может в любой момент отсекать людям головы. Неудивительно, что такая тяга возникла одновременно у разных писателей – удивительно скорее, что таких сочинений не было гораздо больше. В этой тяге могло присутствовать и бессознательное желание расколдовать страну, изобразив фантастику происходящего в сказочном обличье, – ведь оцепенелость страны чувствовали и те, кто не осознавали, что они ее чувствуют. Разительно сходны прежде всего наглядно демонстрирующие всемогущество героя сцены в цирке («Старик Хоттабыч») и в Варьете («Мастер и Маргарита»). «– Разве это чудеса? Ха-ха! Он отодвинул оторопевшего фокусника в сторону и для начала изверг из своего рта один за другим пятнадцать огромных разноцветных языков пламени, да таких, что по цирку сразу пронесся явственный запах серы»[707]. После серии превращений «оторопевшего фокусника» Хоттабыч возвращает его «в его обычное состояние, но только для того, чтобы тут же разодрать его пополам вдоль туловища». Не подобно ли тому, как булгаковский кот пухлыми лапами «вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал голову с полной шеи»? «Обе половинки немедля разошлись в разные стороны, смешно подскакивая каждая на своей единственной ноге. Когда, проделав полный круг по манежу, они послушно вернулись к Хоттабычу, он срастил их вместе и, схватив возрожденного Мей Лань-Чжи за локотки, подбросил его высоко, под самый купол цирка, где тот и пропал бесследно». Опять-таки приближено к действиям кота, который, «прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место», а затем Фагот хоть и не отправил конферансье под потолок, то, во всяком случае, «выпроводил со сцены». Поведение публики, созерцающей действия старика Хоттабыча, тоже весьма напоминает атмосферу на сеансе черной магии в Варьете: «С публикой творилось нечто невообразимое. Люди хлопали в ладоши, топали ногами, стучали палками, вопили истошными голосами “Браво!”, “Бис!”, “Замечательно!” <…>» Ну и, конечно, «в действие вмешались двое молодых людей. По приглашению администрации они еще в начале представления вышли на арену, чтобы следить за фокусником» (функция Жоржа Бенгальского у Булгакова). «На этом основании они уже считали себя специалистами циркового дела и тонкими знатоками черной и белой магии[708]. Один из них развязно подбежал к Хоттабычу и с возгласом: “Я, кажется, понимаю в чем дело!” попытался залезть к нему под пиджак, но тут же бесследно исчез под гром аплодисментов ревевшей от восторга публики. Такая же бесславная участь постигла и второго развязного молодого человека» (с. 65–66; курсив наш. – М. Ч.). Те же самые, кажется, молодые люди подают голос в романе Булгакова: «– Стара штука, – послышалось с галерки, – этот в партере из той же компании. – Вы полагаете? – заорал Фагот, прищуриваясь на галерею. – В таком случае, и вы в одной шайке с нами, потому что колода у вас в кармане!» (с. 121). Главное же – подобно Воланду, Хоттабыч вершит свой суд над жителями Москвы, руководствуясь моральными соображениями: наказывает жадных и злых, иногда поясняя свой приговор, в отличие от Воланда, с восточным велеречием: «Вы, смеющиеся над чужими несчастиями, подтрунивающие над косноязычными, находящие веселье в насмешках над горбатыми, разве достойны вы носить имя людей? И он махнул руками. Через полминуты из дверей парикмахерской выбежали, дробно цокая копытцами, девятнадцать громко блеющих баранов»[709] – подобно тому, как Николай Иванович в романе Булгакова превращен в борова. Буквальное значение приобретают в ходе этих расправ ходячие выражения: «– Катись ты отсюда, паршивый частник! – <…> – Да будет так, – сурово подтвердил Хоттабыч Волькины слова». И жадный человек «повалился наземь и быстро-быстро покатился в том направлении, откуда он так недавно прибежал. Меньше чем через минуту он пропал в отдалении, оставив за собой густое облако пыли» (с. 79). Так и Прохор Петрович в «Мастере и Маргарите», подобно Вольке, в разговоре с непрошеным посетителем неосмотрительно «вскричал: “Да что же это такое? Вывести его вон, черти б меня взяли!” А тот, вообразите, улыбнулся и говорит: “Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!”» (с. 185)[710] – с известными читателям романа последствиями. http://flibusta.net/b/147812/read М. Каганская, З. Бар-Селла «Мастер Гамбс и Маргарита»: ПРОЛОГ «И книгу спас любимую притом.» Вас. Лоханкин Многие (а то и все) жалуются на бездуховность нашей эпохи. Жалобы их не по адресу — эпоха наша духовна! Что есть свидетельство духовности? — Чудо! И все мы доподлинно являемся свидетелями чуда: на наших глазах возникло новое Евангелие — Евангелие от Михаила. Михаила Афанасьевича Булгакова. В миру — роман «Мастер и Маргарита». Узрели чудо все, поняли по-разному. Выдающийся теолог Нового Средневековья утверждает, что Евангелие это гностическое и манихейское. Причин же явления данного евангелия в романной ипостаси — две, точнее — одна: затравленная иудейским монотеизмом, манихейская истина вот уже два тысячелетия пишет записки из подполья. Столько же примерно лет известно, что наиболее безопасной формой иносказания является художественная. Первый и прославленный опыт манихейской притчи принадлежит Данте («Божественная комедия»), второй — Булгакову. Первого не поняли, второго пытались не понять. Не вышло! Зло, запечатленное в образе Воланда, — продолжает все тот же теолог, — есть творческая и созидательная сила. Утаить эту правду небезуспешно пытались Авербах, Блюм, Кайафа, Нусинов, Латунский, Квант, Мустангова, Павел, Лука, Розенталь и Матфей. Не впадая в преувеличение, резюмируем: евреи. Ешуа Га-Ноцри евреем не был, его папа — по слухам — был сириец. Булгаков тоже евреем не был: его папа был преподаватель. Результат: обоих затравили (евреи). Ариец П.Пилат пытался спасти Ешуа, но не преуспел из-за чистоплотности, позже одумался и содеянное постарался исправить — зарезал Иуду, То есть, конечно, не сам зарезал, а по причине чистоплотности приказал подчиненным зарезать. Арийские традиции сохранились до наших дней, чего не скажешь о чистоплотности. Так вот, в отместку за Булгакова пришлось прирезать уже целую группу театральных критиков. То есть, опять-таки, не Самому, конечно, прирезать. Но это уже не от любви к чистоте, а по причине загруженности — все время руки мыть, до всего руки не дойдут. А чтобы память о Рукомойнике не стерлась в потомстве, мероприятие это назвали «Чисткой», ибо стремление очиститься движет всей жизнью одной — отдельно взятой — страны победившего манихейства. Другой, намного менее прославленный, но более ортодоксальный теолог утверждает, что Раб Божий Михаил был, напротив, истинно русский православный евангелист, и гнозис его не манихейский, а православный, истинно русский, нигде и ни в чем не оторвавшийся от родимой византийской почвы. При таких разных чтениях куда податься читателю, буде он не манихеец, не язычник и не православный иудео-христианин? Одно остается ему чудо — чудо искусства. А что есть Искусство? — Оно есть Храм! И вот, опустившись внутри себя на колени, читатель открывает неумелые губы для привычной молитвы: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, в белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома номер шестнадцать«! В ужасе вскакивает читатель с колен внутри себя и с испугом оглядывается по сторонам, не подслушал ли кто, не донес..? Ведь предупреждал, предупреждал лучший, талантливейший из Белинских наших дней о двух продажных фельетонистах, совершивших поклеп со взломом на интеллигенцию!. Как могли приплестись поганые их строчки к Святому Писанию?! «Что это со мной? — думает читатель, вытирая лоб платком. — Этого никогда со мной не было. Сердце шалит... Я переутомился... пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...» «На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы». «О боги, боги, — с отчаянием подумал читатель, — за что вы наказываете меня?.. Опять начинаются мои мучения. И почему я не поехал в Крым? И Генриетта советовала!». «Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавчонки и рестораны поплавки. На пристани стояли экипажи с бархатными сиденьями. Подождите, Воробьянинов! — крикнул Остап». «Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги. — Я не пьян, со мной что-то случилось... я болен... Где я? Какой это город? — Ну, Ялта... http://flibusta.net/b/228935/read М. Петровский «Мастер и Город»: Происхождение Мастера. Мефистофели и прототипы. «Писатели из Киева». Сравнение рассказа «Каждое желание» (переработанного в «Звезду Соломона») А. Куприна с МиМ М. Булгакова. http://fantlab.ru/blogarticle31367 Предположения: возможные прототипы Воланда — граф Калиостро (А.Н. Толстой, Гр. Горин), Вольф Мессинг, персонажи "Оккультного Сталина" А. Первушина. кот Бегемот — «Мелкий бес» Ф. Сологуба О. Бендер — Триродов «Творимые легенды» Ф. Сологуба Частицы людей, проглоченные, химерные,уменьшенные или удалённые люди: В. Маяковский «Прозаседавшиеся», В. Катаев «Растратчики», Ильф/Петров «Двенадцать стульев»: редакция газеты, «Золотой телёнок» — контора Геркулес, Л. Лагин «Старик Хоттабыч». В. Брюсов «Огненный ангел». https://www.fantlab.ru/blogarticle33513 *** Мефистофель — Воланд — Фауст — Мастер — Маргарита (М. Булгаков), А.Б. — Маргарита — (А. Беляев); Мефистофель (иврит) — Скорина — Фауст — Маргарита (О. Лойка)
|
Тэги: Воланд, Остап Бендер, Эль, Хоттабыч, Дядя, Карфункель, Зеев Бар-Селла, Беляев, Булгаков, Мастер, Фауст, Маргарита, Судьба барабанщика | | |
| Статья написана 21 февраля 2018 г. 00:46 |
~ Фрида ~ — персонаж романа "Мастер и Маргарита", участница Великого бала у сатаны. Ф. просит Маргариту, чтобы та замолвила за нее слово перед князем тьмы и прекратила ее пытку: вот уже тридцать лет Ф. кладут ночью на стол платок, которым она удавила своего младенца. *** Коли він згодом відрив очі, то в кімнаті була тільки янгелоподібна бльондинка. — Я вас, пані, попросив би покликати Фріду, артистку Фріду, — підкреслив Гері. — Артистка Фріда чотири місяці тому на легкопаді скочила з літака, для одного з кадрів у фільмі. Легкоспад не відкрився і вона загинула, — сумно відповіла бльондинка. — Без сумніву потрапила в пекло, — подумав впевнено Гері про свою прибрану матір. goo.gl/zDXt9S
*** Да вот эта еще... ночная красавица. Он кивком головы указал на труп женщины с красивым, но увядшим лицом. На лице сохранились еще следы румян и гримировального карандаша. Лицо было спокойно. Только приподнятые брови и полуоткрытый рот выражали какое-то детское удивление. — Певичка из бара. Была убита наповал шальной пулей во время ссоры пьяных апашей. ... Голова Брике, — так звали женщину, — реагировала более бурно на свое оживление. Когда она окончательно пришла в себя и заговорила, то стала хрипло кричать, умоляла лучше убить ее, но не оставлять таким уродом. http://lib.ru/RUFANT/BELAEW/doul.txt_with... *** Зачином до повісті „Ясновидець Гері" (1965) є сцена у пеклі, куди потрапляє Гнат Гері після невдалих кінозйомок на річці Гудзон. Звідси він „повертається‖ завдяки операції на мозку, яка спричиняє здатість передбачати майбутнє та зчитувати характер і думки людини з її обличчя. Перші спроби скористатися цим приводять Гері до місця схову награбованих грошей кримінального авторитета Романо Пекі. Гангстеру сниться сон з демоном, який обкрадає його, і невдовзі після цього його вбивають товариші-бандити, підозрюючи самого Романо в крадіжці. Це чи не перший прояв нового амплуа ясновидця Гері – бути своєрідним Мефістофелем, чи то пак Воландом, для американського мультиетнічного суспільства (роман „Майстер і Маргарита" (1967) М. Булґакова на той час іще не був опублікований). Так само демонічно викриває Гері і представників старого російського дворянства. Про свою „місію‖ він говорить так: „Моє призначення – викривати фальш, демаскувати негідників, вказувати проповідникам моралі, що вони самі розпусники, сторожам законности показувати, що вони злодії, носіям фальшивих чеснот і облудним правдоносцям доводити, що вони брехуни, ганебним сріблолюбцям стягати маску щедротности‖ [5, с. 186]. Олександр Вешелені / Жанр „сенсаційної повісті” в українській еміграційній літературі. *** Конференція добігала до кінця. Науковці, дослідники, доктори медицини з’їхались з цілого світу, щоб поділитися досвідом, винаходами, останніми новинами цілого десятиріччя. За цей короткий час наука зробила колосальний стрибок у кожній галузі людського життя. Подорож на інші планети — то залишився тільки промір часу на будову апаратури, що досконало розроблена й розрахована. В Англії будують телескоп, з допомогою якого можна буде фотографувати спіральні туманності на віддалі шістьох мільярдів світлових років від землі. Коли додати, що світло пролітає за рік десять тисяч мільярдів кілометрів, то від цієї аритметики голова обертом закрутиться. Не відстає від цього шаленого гону винаходів в астрономії і фізика та хемія, а особливо медицина. Винаходи та удосконалення з медицини пішли так далеко, що людину можна порізати на куски, а потім зшити докупи й вона знову житиме. Тому то конференція науковців медицини була така цікава. Вона ще набирала особливого значення тому, що на ній вперше брали участь науковці сходу, що тисячоліттями тримали в таємниці важливі винаходи від цілого світу. Особливо пильно оберігала свої таємниці Індія. Жовта раса, — японці, китайці та червона — індіяни, завжди були замкнені в своїх кордонах. А тепер на конференцію прибув з Індії науковець доктор — Орберт Чандрасемор, що творив з людиною просто чудеса, переробляючи її на свій лад. Коли німецькі науковці привезли з собою клітини людського організму в ліофілізованому, себто сухому стані, а японці привезли в рідині, то індійський дослідник д-р Орберт Чандрасемор Чандрасемор все це привіз у законсервованому вигляді готовому кожночасно до застосування. Тут він мав і людське серце й печінку й легені, очі, носи, щелепи тощо. Особливо великий подив викликав законсервований мозок померлої дитини. Доктор Орберт Чандрасемор свою доповідь робив із наявними експонатами, а до того ж демонстрував фільм і це ще більше зосереджувало увагу науковців цілого світу. Доктор твердив, що може повернути життя людині, яка померла 20 хвилин тому, себто за час поки жива клітина не відмерла. Але його вакцина, яку він назвав початковими літерами свого імени «ОР», має таку чудодійну силу, що повертає до життя навіть уже завмерлі клітини, себто після біологічної їх смерти. Усі ці досягнення в медицині роблять нечувану революцію в житті людини. Раніш термін смерти не перевищував 5 хвилин. Тепер можна оживити людину після біологічної смерти через 20 хвилин. Демонструючи свої винаходи, д-р Орберт Чандрасемор витягнув із скриньки спеціяльний пульмотор до переливання, потім узяв слоїк з рідиною, — кров змішану з адреналіном і ґлюкозою, і показав присутнім, а далі потряс в руці, високо над головою, свою вакцину «ОР» і вигукнув: — Тут зберігається життя вже мертвої людини! По великій залі пронісся тихий шелест здивування. Дехто підвівся з крісла, щоб ліпше оглянути вакцину та прилади, інші розглядали на столі формулу вакцини, ще інші цікавились фотографіями дослідів. — Я свій дослід міг би й зараз перед вами продемонструвати, коли б під руками виявився відповідний об’єкт для експерименту, — раптом промовив гордо д-р Орберт Чандрасемор і обвів сміливим поглядом усіх науковців. — Пане докторе! — нагло вигукнув американський науковець. — Такий об’єкт маємо! — Ви маєте труп померлої людини? — весело перепитав Орберт Чандрасемор і його обличчя просвітлішало від задоволення, а очі загорілися гордими вогниками. — Щойно привезли утопленика. Людина перестала жити десь 25–30 хвилин тому. Чи можете застосувати на цьому об’єкті свій експеримент? — Спробую. Із таким довгим терміном смерти я ще не пробував, однак. — і він поспішно почав складати в скриньку свої препарати. Всі підвелись з крісел. — Куди приставити труп? — запитав американець. — В операційну! І то негайно! — по-діловому наказав. За хвилину всі були в операційній. На столі вже лежав голий труп людини. Біля столу тихо шумів стерилізатор, а поруч до послуг два помічники. Ще за пів хвилини на всіх приявних були білі халати, а на устах марлеві пов’язки. Утопленик, охолоджений у воді, був, як під наркозою, у стані гіпотермії, при якій температура тіла понизилась нижче від норми, і діяльність тканин не була зрушена. Доктор Орберт Чандрасемор хутко увімкнув пульмотори й застосував над трупом штучне дихання. Потім підвісив колбу, і протягнувши гумову рурку, на кінці якої була голка, розпочав переливати кров. Зробивши два впорскування своєї вакцини «ОР» у праве й ліве стегно, приклав стетоскоп до грудей покійника й насторожено слухав. В операційній кімнаті була така тиша, що можна було чути стукіт людського серця на віддалі. Так минала довга хвилина. Очі д-ра Чандрасемора звузились, обличчя витягнулось, брови насуплені, а уста затиснені аж побіліли. Він напружено прислухався, пильно дивився на годинник. І раптом його обличчя блиснуло промінням. — Б’ється! — гукнув він, і знову перетворився ввесь у слух. Пульмотор працював виразно й досконало, крізь скляну секцію видно було, як пливе рідина з колби в тіло людини. Минуло ще тяжких десять хвилин і утопленик рухнувся, легенько мов би зідхнув. — Почали оживати нервові центри, — тихо ствердив д-р Чандрасемор і поспішно зробив ще два впорскування вакцини «ОР». Цим разом в площині серця. Потім звелів одному із своїх помічників подати невеликий рентген. Просвітливши голову покійника, що ожив він насуплено стягнув брови. Частина мозку вже так розклалась, що навіть вакцина не в силі його привернути до життя! Доктор Чандрасемор нагло наказав приготувати хірургічне приладдя і зразу ж зробив трепанацію черепа. Оголений мозок утопленика увесь був рожевого кольору, і тільки в одному місці легенько потемнів, немов би сірим туманом пройнявся. Доктор Чандрасемор був надзвичайно здивований, що мозок мав рожевий кольор. Такого випадку в житті він ще не мав. Що це за людина була в житті? — думав він. А тим часом сміливо й пильно вирізав посинілу частину мозку, а на те місце вставив такий самий кусочок мозку привезеного з собою в законсервованому вигляді з Індії. Потім дбайливо поставив на місце череп, прикріпив його срібними клямрами, зашив тканину голови й наклав марлеву пов’язку. — Тепер житиме, — зітхнув заспокоєно д-р Чандрасемор і скинув з рук гумові рукавиці. Вийшов з операційної. Усі науковці пішли за ним до залі продовжувати конференцію. Це була подія, що приголомшила відомих світові науковців. Врятованого утопленика Гната Кіндратовича перевезено в теплу кімнату під постійний лікарський догляд. Д-р Орберт Чандрасемор дав докладні вказівки, що робити кожних п’ять хвилин. Повернена до життя людина рівномірно дихала, і пульс, хоч і слабкий, бився виразно й нормально. Кожний день приносив людині поліпшення, і під дбайливим доглядом тіло набирало природнього, рум’яного кольору, м’язи міцнішали, і незабаром, замість штучного харчування, почали чайною ложечкою, запускати рідину через рот, Гнат Кіндратович ковтав і поправлявся. *** І як це могло статися? Звідки він знає чужі мови? Подумавши над цим дивним явищем, він збагнув, що знає не тільки японську, китайську, а досконало розуміє індійську й то не одного племени, а десятьох різних. Крім того розуміє будизм, знає анатомію, фізіологію людини, а також астрономію. Усі ці знання були йому відомі з такою докладністю, немов би він ці науки студіював десятками років. Він бачив перед собою університетські викладові залі, експериментальні лябораторії, наукові з’їзди, в яких брав участь, і крім того, йому здавалось, що він не Гері, не Гнат Кіндратович, а індійський філософ, науковець, мудрець. І що всі ці людські знання перейшли до нього завдяки кусочкові мозку, що його вставив йому помилково доктор Орберт Чандрасемор з голови померлого жерця-ясновидця індійця Марнохарина. Цей великий мислитель помер десять років тому, проживши 93 роки. Доктор Орберт Чандрасемор, зацікавлений великими людьми, вийняв мозок щойно померлого ясновидця Марнохарина, законсервував тільки йому відомим способом, і привіз тепер на конференцію. І довелось трапитись випадкові, що саме Гері потрапив для досліду. Цей випадок призвів до того, що кусочок мозку ясновидця Марнохарина попав у голову комбінаторові Гнатові Кіндратовичеві, який тепер зветься Гері. Своїм сміливим винаходом д-р Орберт Чандрасемор відкриває світові великі можливості. У майбутньому мозок кожного великого мислителя після його смерти буде консервуватися і зберігатися в спеціяльних баньках. Набуті наукові знання тепер не будуть пропадати, а передаватимуться поколінням не книжковими записами, а натуральним мозком. Ця велика сторінка в науці принесе людству не тільки чималі полегшення, а й... безмежне горе, коли розум купуватимуть в баньках сріблолюбці-багатії для своїх ледачих дітей. Маршуючи браво хідником, Гері самовпевнено приглядався до людей, міркуючи про свої фінансові проблеми. У своїй кишені він мав гарненький рахунок із шпиталю за лікування впродовж шістьох місяців. Раніш цей рахунок готували Фріді, яка привезла втопленика. З часом, як Фріда катастрофально скочила з літака й загинула, а покійник ожив і довелось його лікувати, рахунок переписано на Гері Боброва. goo.gl/zDXt9S *** Українська літературна еміграція не тільки самоутверджувалася за важких умов чужини, відкривала нову сторінку в письменстві, а й постійно перебувала в конфліктах, які іноді виходили за межі глузду. Таким, наприклад, було звинувачення Зенона Дончука (17 квітня 1903 -- 2 серпня 1974) в плагіаті, в чому запідозрила прозаїка Галина Журба, вважаючи, що він "списав" її роман "Тодір Сокір" у свій твір "Перша весна". Насправді то були різні тексти, лише на початку яких спостерігалися певні фабульні збіжності. Вона добилася того, аби З. Дончука виключили зі складу Об'єднання українських письменників "Слово". Такою була її вдячність за те, що він дбав про її творчий і життєвий комфорт. Вони обидва окарикатурили один одного у своїх романах ("Тодір Сокір", "1313"), Про це я вже писав. Письменник лишив велику літературну спадщину. Він належав до традиційників ,часто переповнював свої різножанрові твори публіцистичною стилістикою, що шкодило їхньому художньому рівню, як в романі з іронічною назвою "Куди веде казка", в якому мовиться про одну з причин втрати Україною незалежності на підставі зради психотипів на кшталт Данила Передерія, який запопадав перед московсько-більшовицькими окупантами, був ними знищений за вірну службу. Письменник усував міф жовтневого перевороту ніби соціалістичної революції, насправді його реалізували за гроші банкіра Варбурґа при успішних операціях агента О. Парвуса (Гельфанда), використавши для втілення свого проєкта В. Ульянова (Леніна). Українська література має свою пікареску. І не вигадану. Якщо придивитися до наших краян, то можна знайти крутіїв на кшталт Гната Кіндратовича, перед яким бліднуть не лише грек Христофор Хрисантович Копронідос («Афонський пройдисвіт» І. Нечуя-Левицького), а й єврей Остап Бендер («Дванадцять стільців», «Золоте теля» І. Ільфа й Є. Петрова), а Шельменко-денщик з однойменної п'єси Г. Квітки-Основ'яненка видається милим типажем. Такого персонажа, який міг легко (в разі потреби) бути і Бобровим, і Бобровенком, і Гершком, змалював на повен зріст уманець й емігрант З. Дончук в тетралогії сатиричних повістей «Гнат Кіндратович» (1957), «Море по коліна» (1961), «Ясновидець Гері» (1965), «Шалом, Месіє!» (1974). Вони відповідають жанровому типу крутійського наративу, генетично пов’язаному з античними ателланами, середньовічним фарсом і шванком, започаткованого анонімним «Життям Ласарільо із Тормеса…» (1554), освоєного європейською прозою, починаючи від М. Алемана-і-де Енеро («Життєпис крутія Гусмана де Альфараче»), не минаючи й української літератури (В. Наріжний, Г. Квітка-Основ’яненко, В. Чечвянський, Б. Нижанківський та ін.), де змальовано колоритні образи шахраїв, волоцюг, зальотників, клептоманів та ін. хитрунів в оточенні абсурдної дійсності, трактованих засобами сміхової культури, передусім сатири й комізму. Фах експедитора солідного вінницького заводу дозволяв Гнату Кіндратовичу вільно почуватися у стихії виробничих афер, замаскованих під законні договори між підприємствами –– чи то йшлося про два вагони варення й два вагони сульфатованих яблук, забраковані у Слов’янську, на яких за «волею» «віртуоза шахрайства і спекуляції» (Ганна Черінь) виставили сертифікат вищого ґатунку, чи про «ліквідацію» залишку картоплі, роздарованої очільникам НКВС, РНК, паспортного стола, міськради, чи то про списання розтриньканих на власні потреби державних грошей, чи то про маніпуляції з яблуками, виміняними в колгоспі ім. Мікояна за пальне й цвяхи, перевезеними в позаплановому вагоні до Ленінграда і вигідно там спроданими. Всі махінації непогамовного комбінатора відбуваються на тлі радянських п’ятирічок, навіть відгомону голодомору, але вони ніколи не цікавили Гната Кіндратовича –– «типового спекулянта з-під московсько-комуністичної дійсности», який «воліє доганяти капіталізм, ніж мати завершений соціялізм». Він не був винятком, бо, як зазначав автор, крадіж та хабарі в радянському соціумі від безпритульного на базарі й до Й. Сталіна переросли «в культ, в життєвий засіб; віртуозність їх застосування перейшла всі феноменальні уявлення. Особа, запідозрена в цьому суспільному злі, зовсім не вважалася в очах суспільства злочинцем. Навпаки, –– така особа викликала тільки заздрість». Тому наочною видається комічна історія показового суду над підлітком Скалозубом, який за допомогою шовкових ниток легко відкрив наймодерніший радянський замок на дверях кондитерської і вже на другий день городяни в такий спосіб справилися із замками по всьому місту. Злодіїв так і не було «викрито». Гнат Кіндратович виробив у собі особливий імідж, репрезентований «франтуватим шевйотовим костюмом» і портфелем, що в очах довкілля мав магічну владу, бо «чим більший і солідніший портфель, тим більша увага зосереджувалася на його власникові». Респектний головний герой ніколи не забував себе, вибиваючи під час відряджень додаткові дні для відпочинку, добираючи дефіцитні товари для себе й подарунки різним начальникам, відповідно їхньому службовому рангу. Таким чином він скористався санаторійною путівкою на Куяльник, адже робітники, аби не втратити роботу і не бути запідозреними в «контрреволюції», відмовилися від неї, опинився в товаристві близьких собі «совробітників» на морському пляжі. Потрапивши до війська на початку Другої світової війни, спритний головний герой став коптенармусом, захопився, як й інші червоноармійці, жадібним скуповуванням речей на щойно «визволених» землях Західної України, знаходив такі прибуткові джерела, як чай, випічка хліба, заготівля м’яса, з чого мав неабиякий бариш, підкупив політрука, подарувавши йому патефон «Телефункен», а командира –– дорогим годинником, аби вони не заважали йому в його оборудках. Війна з Фінляндією на певний час пригальмувала ґешефтні апетити Гната Кіндратовича, через крадені м’ясні консерви пониженого до очільника «господарської чоти». Він уник тюремного терміну завдяки підкупленому командуванню, як і в випадку заготівлі дров, коли підрізане дерево вбило червоноармійця, загибелі підлеглих йому вояків на залізничній колії, арешту рядового Кулака, обуреного, що в його родині забирають останню корову. Радянсько-німецька війна не змінила шахраюватої психіки головного героя, який з не меншою енергією, ніж в радянські часи, кинувся в улюблені махінації, починаючи з керівництва маслозаводом, заприятелював з німецькими офіцерами, розгорнув «прибуткове підприємство», «сватаючи» їм місцевих жінок, навіть за пропозицією гебітскомісара став «шефом» району, що відкривало перед ним неабиякі можливості наживи, бо, виявляється, «людське нещастя для таких категорій людей стає щастям, утіхою». На думку О. Вешенелі, «маємо вивернутий образ матінки Кураж (також пікаресси) –– заможного крутія, завжди готового наживатися в часи соціальних катаклізмів на потребах обох сторін, що воюють». Передбачаючи поразку Третього райху, Гнат Кіндратович один з перших добув «маршфебель», аби дременути на Захід Європи через стероризовану Україну, Угорщину, Польщу, по дорозі займаючись махінаціями з кіньми, фальшивими паспортами, зброєю тощо. Навівши контакти з Українським комітетом, переінакшивши себе на Бобровенка, не гребував ґешефтом на грошовому обміні. Під час однієї з оборудок познайомився з магістром Пронькою, який виявився таким же пройдисвітом, як і Гнат Кіндратович. Їм довелося пережити певні страхи від прорадянських словацьких партизанів, які, на відміну від тамтешніх селян, з підозрою ставилися до біженців, як і альянти-французи неподалік Мюнхена, надто агресивні «остівці», які, повіривши більшовицькій пропаганді, сприймали втікачів за зрадників, сподівалися невдовзі повернутися «на родіну», тероризували німців. Тільки-но вчорашні в’язні й остарбайтери опинилися у вагонах під брутальною опікою енкаведистів з автоматами, у них спала полуда з очей, що розкрито на прикладі Грицька й Марійки, драматична доля яких складає окрему сюжетну лінію повісті. Обидва «міцні, гарні, здорові», вольові персонажі постають антиподами головному героєві. Шахрайська натура Гната Кіндратовича знайшла сприятливий ґрунт і в таборах Ді-Пі, в Сомме-Касерне. Вписавши себе й дружину до «неповоротців»-галичан, вступивши одразу до п’яти партій, він знову, почавши з дефіцитного тютюну, перекинувшись на прибуткові операції з цигарками «Камель», розгорнув свої оборудки, навіть став «працедавцем», добираючи фахівців на табірну кухню. Тонкий психолог, зупинявся тільки на потрібній йому кандидатурі. Так, підшуковуючи бухгалтера, зауважував не професійний рівень чи стаж, а шахрайські нахили, тому зупинився на особі, коли на невинне питання «Скільки буде два рази по два» почув відповідь: «А скільки вам потрібно?». Гнат Кіндратович знайшов «порозуміння» з таборовим керівником магістром Пронькою, який промишляв на одязі і взутті, виселив старого генерала Армії УНР Петренка з кімнати, аби туди поселити Гната Кіндратовича. Моральні критерії тут були зайвими. Кумедна історія трапилася шоколадом –– подарунком американського війська репатріантським дітям: обидва махінатори намагалися приховати ласощі, але їхні наміри зірвав чесний Грицько, який наскрізь бачив справжню суть шахраїв: «Ви ж –– безплідне дерево, що дає холодок бродягам, пройдисвітам, ви –– притулок паразитам». Табори Ді-Пі стали для репатріантів останнім, хоч і не надійним прихистком свободи, адже скрізь нишпорили радянські людолови. Сувора правда наявна в аргументах репатріантів, які не мали бажання повертатися в більшовицький «рай», розкрита в епізоді їхньої зустрічі з червоним комісаром, змушеним ні з чим покинути табір. Амбівалентний головний герой і тут знайшов свій ґешефт, хоча в глибині його душі збереглися риси людської гідності, що спостерігалося на прикладах його протистояння енкаведисту Березову –– агенту, як висловився головний герой, –– «чорних сил імперіялістичної Москви!». Належачи до пікаресного психотипу, головний герой не міг бути, за класифікацією Кіри Шахової, ні «активним лицарем меча і шпаги», ні «наївним простаком», тому що його переслідувала манія зиску, спонукала домовлятися з власником друкарні про штампування формулярів для відповідних документів про примусову висилку до Німеччини (остарбайтеркартки), без яких репатріантів «сталінські хорти виловлювали, як зайців, і вивозили в пролетарський Сибір». За високу платню поширював він також метрики й німецькі паспорти, тому «люди дякували і молились за здоров’я рятівника Гната Кіндратовича». Наприкінці своєї таборової «одіссеї» персонаж-крутій почав задовольняти попит на годинники, з якими репатріанти поривалися у вільний світ –– до Бельгії, Англії, надто Америки. Йому, дарма що зібрав відповідні документи, не відразу вдалося податися за океан, тому що його «впізнала» єврейка ніби як учасника погромів у Львові під час війни. То була прикра, рідкісна для головного героя помилка, якому пізніше завдяки спорожнілим валізам та зазначення справжнього міста народження –– Київ вдалося виїхати до Канади. Перед ним «знову розгорталися широкі можливості». Як би він не приміряв ефектні атрибути баварського капелюха й сигари «Кемель», його шахрайська суть лишалася незмінною, навіть, якщо вірити З. Дончуку, типовою. Схожими були й інші емігранти, гротескні «малороси і хахли», схильні продавати канапки й український борщ різним делегатам, позбавлені внутрішньої консолідації, поглинуті партійним розбратом, характерним для їхніх програм, де «всі за Україну. Всі вимагають грошей і жодна поки що нічого реального не дає». Очевидно, тут автор своїм узагальненням, в якому є гірка частка правди, кинув тінь на всю українську еміграцію, що не відповідає дійсності. Тому частина ображених читачів не сприйняла трактування українських реалій в дусі гоголівського Хлестакова, навіть повертала автору повість «Море по коліна». Ганна Черінь мала рацію, наголошуючи, що не варто в сатиричній повісті шукати «героїв позитивних, і зайвим було б вимагати від автора дати в творі справедливий балянс», адже «не вдалося свого часу Гоголеві збалянсувати негативних героїв позитивними, не вдалося це й іншим великим сатирикам, бо така вже природа сатири». Уражений інстинктом накопичення, Гнат Кіндратович, прагнучи понад усе збагачення, усвідомив відмінну від радянської системи свободу прибуткової діяльності, тому після принагідного танцюриста в канадському порті обрав собі кар’єру диригента церковного хору, а невдовзі –– священика, отця Ігнатія на дві парафії. Однак його не цікавили духовні проблеми. Жага наживи за рахунок вірян переросла в манію, тому шахрая позбавили культового сану. Зазнавши фіаско на релігійних теренах, Гнат Кіндратович, переїхавши до США, відкрив крамницю-ломбард «Мрія», вирішив робити бізнес на етнографічних принадах, але, зважаючи на торгівельну кон’юнктуру, замінив означення «українська» на «слов’янська», вже імітував американський стиль життя. Крім того універсальний персонаж працював відповідальним редактором газети «Східняк», редагував й видав альманах «Волосожах», бавився байками, віршами, оповіданнями, літературно-критичними статтями. Зваблений статками сімдесятирічної вдови, він увійшов в роль ловеласа Гері, хоча невдовзі опинився в тенетах циркачки молодої служниці-пуерторіканки, тому дружина Маргарита, обурена любовними романами чоловіка, покидає його. Гнат Кіндратович з грошовитого крутія перетворюється на інфатильне створіння, ототожнюючи себе з безрідним сиротою, дає згоду «всиновитись до будь-якої багатої родини, врешті-решт перетворюється на блазня, учасника карнавальної травестії, полюбовника голлівудської артистки Фріди, під час кінозйомок гине посеред річки Ґудзон під ошалілим ослом Мунилом. Твір З. Дончука, попри логіку сюжетного розгортання, всі сподівання й любовні романи головного героя, не має фінального happi end’у. Про його загибель на знімальному майданчику Голлівуду, автор повідомив наприкінці роману «Море по коліна», зазначаючи, що твір не завершено. Виявляється, головного героя «воскресили» на одній з наукових конференцій в інституті медицини. Він, реінкарнований, схожий на Мефістофеля, з’являється в сенсаційному романі «Ясновидець Гері» з ознаками наукової фантастики, що мимоволі набуває не властивих цьому жанру характеристик гротеску, сатири, алегорії, чорного гумору. На початку твору індійський дослідник Оберт Чандрасемор, винахідник чудодійної вакцини «О-Р», здатен оживити відумерлі клітини покійника через двадцять хвилин клінічної смерті, продемонстрував своє уміння на щойно загиблому Гнатові Кіндратовичу, але на місце пошкодженої частини мозку помилково інплантував мозкові фрагменти недавно спочилого ясновидця Марнохарина. Більше ніде в повісті не згадуються хірургічні й біологічні експерименти, наукові алгоритми, натомість її простір заповнюють жанрові структури химерної, кримінальної, детективної прози при збереженні ознак крутійського роману з певними корективами. Побувавши в колоритно описаному пеклі, переживши операцію, Гнат-Гері набув уміння завбачати майбутнє, вичитувати минуле, декодувати людські думки при безпосередньому спілкуванні чи за світлиною. Він в несподіваному для себе статусі сподівався не зловживати набутими талантами, викривав не тільки пройдисвітів і злочинців, а й «любителів» літератури, які у своїх бібліотеках замість книжок виставляли їх муляжі, виступав з лекціями на кшталт «Стережися книжки!» у філадельфійському «Клубі щасливих», що мали ознаки пародії на тогочасну графоманію, на одній з прес-конференцій радив авторам творів «із збоченням до еротики» продавати їх «з рамени Академії Наук», аби збити з пантелику наївного читача, навіть став літературознавцем, якому для свого присуду, відповідного кон’юнктурним запитам редактора, не було потреби читати рецензований твір, тощо. Гнат-Гері мав відповіді на будь-яке питання, зважаючи на розумовий, фаховий чи психічний рівень тієї чи тієї особи, дарма що вони формулювалися двозначно, з натяками, як у піфій, адже, на його думку, «людина не в силі збагнути всіх таємниць не тільки всесвіту, а й своєї жінки. І тільки коли мудрець пізнає свою жінку, тоді можна братися до всесвіту». Коли в таких комічних ситуаціях головний герой тішився власною невимушеною грою, як у товариствах алкоголіків чи пігмеїв, то при викритті сутності російської еміграції не шкодував присоленого сарказму, змальовуючи «антикомуністичні з’їзди», дискусії, на яких слова втрачали свою семантичну верифікацію. Попри те амбіції Гната-Гері «були вищі від амбіцій пересічного волоцюги. Він мріяв ще про славу. Йому хотілося на цьому світі залишити по собі своє ім’я Гната Кіндратовича тривким на довгі віки. Грошей він більше не потребував, хоч і не відмовився б іще мільйончик-два роздобути й пригорнути. Та це не так важко». Іноді йому вдавалося викривати злочини, властиві Товариству легких заробітків або журналістам-«борзописцям», що стали відбитком соціуму, в якому «кожне ошуканство, обман чи фальш тепер називається комерцією, кожний підпал — санітарною потребою, проституція виправдується модою й сучасною свободою людини, а вбивство — самозахистом». Не минула така «жага» й українських емігрантів, яких З. Дончук не ідеалізував, вивертаючи справжнє нутро магістра Проньки, який, перекочував у нову повість, аби зайнятися кокаїном, хоча, про людське око, ніби переймався патріотичними справами, бажанням здобути собі шляхетське звання. Не минув письменник й ідейних емігрантів на кшталт «Американського комітету визволення», який за час свого існування так не звільнив жодного українця від більшовицького ярма, тому Гнат Бобров запропонував їм несподівану ідею обстоювати абсолютизовану свободу радянської молоді, позбавивши її моральних критеріїв, розкласти із середини. Тут помітно художній дискурс поступається перед публіцистичним, що шкодить повісті, в яку, за словами Г. Костюка, «автор понапихав усе, що трапилось на його шляху» –– від картярів і гангстерів до вбивства Дж. Кенеді, що призвело до «поверхового нагромадження фактів». Нова кар’єра головного героя починається з виявлення місця прихованих грошей кримінального авторитета Романо Пекі, якого, запідозривши в крадіжці, вбивають його «побратими». Гнату-Гері доводилося маскуватися під поета-модерніста, музикознавця, картяра та ін., дарма що він не знався на мистецтвах та іграх, зате шукав зиск на несподіваніших, навіть екзотичних справах. Наприклад, новоспечений «нащадок» князя Долгорукого, як свого часу гоголівський Чічіков мертві душі, скуповував в завсідників салону «Три балалайки» титули графів, баронів, князів, високі військові та цивільні звання і т. п. ніби для «музею», тішився, ламаючи волю навіть таких непідкупних типів як колишнього генерала з царської охранки непідкупного князя Довгополого. Вичитавши з біографії достойника ретельно приховані афери, шокуючи його викривальною інформацією, Гнат змусив-таки «повернути» царські скарби, поклавши їх до власної кишені. В аналогійні майстерно розставлені капкани шантажу потрапив й герцог Насєдкін, який, працюючи креслярем в Пентагоні, шпигував на користь червоної Росії, але всевидющий вивідач цікавився не так секретними документами про новітні ракети, як золотою зіркою св. Анни, яку отримав від ошелешеної жертви. Одного разу йому трапилося видіння алегоричного сенсу, на кшталт дивної картини: тисячі «поневолених людей», схожих на комашню, зводили каркаси Вавилонської вежі з книжок, промов, мистецьких скарбів, писанок, футбольних м’ячів, емблем різних партій тощо. Будівельники марно прагнули сягнути недосяжної велетенської блакитної кулі з гаслом «Незалежність і воля всім народам», тому що будівля, розкрадена пройдисвітами й шахраями, підточена злостивими гномами в лапсердаках, постійно просідала й обвалювалася. Цей епізод сприймається як вставна новела, однак він латентно пов’язаний із вчинками головного героя, який порятував Клару, звичайно, не без платні, від небезпечного Джана. Амбітний Гері, вбачаючи в собі покликання «викривати фальш, демаскувати негідників, вказувати проповідникам моралі, де вони самі розпусники, сторожам законности вказувати, де вони злодії, носіям фальшивих чеснот доводити, що вони брехуни, ганебним сріблолюбцям стягати маску щедротности», невдовзі сам, не гребуючи махінаціями, впадає в схожі гріхи, силкується коригувати Божі заповіді, сподівається заволодіти нью-йоркським транспортом, відбираючи таку спробу в містера Рой Чока, здобувається на незаконні статки, придбавши шикарну дачу, нарешті потрапляє до в’язниці за несплату податків, хоча й завдає слідчим чимало неочікуваного для них клопоту. Він почувається досить комфортно за ґратами, знаходить спільну мову з тюремниками, обводить круг пальців радянських агентів, які, завітавши в його камеру, прагнуть вивезти ясновидця до Москви, аби пересадити його мозок М. Хрущову, але самі потрапляють під силу магії головного героя. Твір лишився нонфінальним. Тому З. Дончук дописав до трилогії певний додаток сенсаційного сенсу «Шалом, Месіє!». Повість розкриває подальшу долю ясновидця-авантюриста, засудженого на 125 років. Євреї, дізнавшись про феноменальні здібності Гері, звільняють його з в’язниці, проголошують Месією, сподіваючись, що він сприятиме боротьбі Ізраїлю у війні проти Єгипту. Впоравшись із новим завданням, втомившись від всіляких комерцій, він вирішив зайнятися благодійництвом. Задля цього створив «Бюро порад», аби, вичитуючи людські бажання, сприяти їх реалізації при незначній грошовій допомозі. Однак йому майже не траплялися чисті помисли, натомість він опинився в потоках марнолюбства, заздрості, наклепів, добре йому знайомого шахрайства серед різних прошарків суспільства, надто серед журналістів, партійців й політиків. Гнату-Гарі загрожував глухий кут безнадійної діяльності, якби не явлення його дружини Маргарити після 25-ти років розлуки, тому щасливе подружжя майнуло у світові мандри. Фінальний happi end не означає наративної розв’язки крутійства, котре лишилося в ситуації тут-і-завжди. Четверта повість мало що додає до трилогії, сприймається як еклектичний твір, в якому поряд з незначними за обсягом художніми фрагментами, панує публіцистичний дискурс, що нагадує реферативний переказ політичних подій, пов’язаних з жовтневим переворотом, здійсненим за німецькі гроші, ізраїльською анексією Суецького каналу, реакцією політичного проводу США, надто залежного від волі євреїв, та інших країн на кризу Близького Сходу. Попри те що сатиричні повісті нагадують, як висловився М. Кучер, «зариси олівцем, побіжно і з поспіхом», головний герой, що їх об’єднує, постає цілісним образом, на відміну від дружини Маргарити чи магістра Проньки. Тільки-но з’явилася повість «Гнат Кіндратович», як журнал «Біблос» (1958. –– Ч. 4) назвав її однією з кращих в тогочасній українській літературі, І. Костецький зазначав, що роман «Море по коліна» –– «ситуаційно гостріший і композиційно окресленіший», ніж «Тигролови» І. Багряного («Сучасність», –– 1961. –– Ч. 12), А. Галан наголошував, що типи Гната Кіндратовича «будуть у нашій літературі такими ж вічними, як і невмирущі ″Мертві душі″ М. Гоголя». Юрій Ковалів
|
| | |
| Статья написана 18 февраля 2018 г. 14:42 |
Karavaev авторитет 1 июля 2014 г. 08:21 Уважаемый grigoriy попросил помочь выложить в теме обложку книги "Бунт атомов " Ефера (Мюнхен 1947 г.). Файлы: бунт.jpg (1498 Kb) см. прикреплённый файл
milgunv философ 1 июля 2014 г. 08:52 Karavaev А кто такой Ефер? Я о таком издании и не слышал! А какие выходные данные издания? Karavaev авторитет
1 июля 2014 г. 08:54 цитата milgunv А кто такой Ефер? Я о таком издании и не слышал! А какие выходные данные издания? Это не ко мне вопросы. Григорий Моисеевич попросил меня выложить обложку, что я и сделал. Более, увы, ничего не знаю, самому интересно. ameshavkin философ 1 июля 2014 г. 08:59 цитата milgunv кто такой Ефер? Один из псевдонимов известного плагиатора Афонькина. Под псевдонимом Иво Има вышел фантастико-приключенческий роман "Похитители разума". grigoriy магистр 1 июля 2014 г. 09:22 milgunv Это мюнхенское издание 1947 г. Я эту книгу приобрел-если поставщик не подведет, ибо деньги отосланы.Через месяц -если получу-напишу подробно о деталях. Сам узнал о книге неделю назад да и о Ефере тоже.. milgunv философ цитата ameshavkin псевдонимов известного плагиатора Афонькина. Так может он у Орловского передрал? grigoriy магистр 1 июля 2014 г. 10:06 milgunv Я запросил человека, у которого книга есть-он сказал, что совершенно другой текст.И потом-ежели передирать-то название естественно сменить... grigoriy магистр 1 июля 2014 г. 10:15 ameshavkin Насчет Иво Има я нашел что " Новый эмигрант, Константин Коспарук издал под псевдонимом Иво Има роман «Похитители разума» (190 стр., 153 мм.). Ни год, ни место не указаны, но указано разрешение Унра тим 568, что значит – Мюнхен. Поэтому мне не ясно-что автор Афонькин(хотя исключить это нельзя) ameshavkin философ 1 июля 2014 г. 11:42 Не знаю, почему М.Е. Юпп считает, что под одним названием разные авторы не могли написать разные произведения. Про книгу No150 В.К. Завалишин чётко пишет, что Константин Сибирский — автор романа ужасов «Похитители разума» под псевдонимом Ив Джин 6. No212. В 2001 г. Надежда Николаевна Ульянова — вдова историка Николая Ивановича Ульянова, эмигрантка «второй волны», жившая в лагерях «Ди-Пи» 1945-1949 гг., — на мой вопрос, не принадлежит ли её мужу псевдоним «Иво Има», ответила, что это очередной псевдоним писателя-плагиатора Виктора Эфера (настоящая фамилия Афонькин). Р.В. Полчанинов в статье «Книжный бум в годы 1945-1948» (За Свободную Россию. 2006. Апр. (No72), впрочем, приводит другие данные: «Новый эмигрант, Константин Коспарук издал под псевдонимом Иво Има роман "Похитители разума" (190 стр., 153 мм). Ни год, ни место не указаны, но указано разрешение Унра тим 568, что значит — Мюнхен». Псевдонимами Н.П. Мамонтова, которому М.Е. Юпп приписывает авторство «Похитителей разума», по Р.В. Полчанинову, были Ник Майнд и Евлампий Октябрев. Я значительно больше доверяю Н.Н. Ульяновой и Р.В. Полчанинову, жившим в лагерях «Ди-Пи», чем М.Е. Юппу «третьей волны» эмиграции witkowsky гранд-мастер 1 июля 2014 г. 13:31 Насколько могу отследить, Эфер и Иво Ама = Виктор Афонькин. Мнение М. Юппа никогда не было авторитетно. Об Афонькине в лагерях Ди-Пи ходила сплетня (очень дипийская), что дочь он назвал Идея. И вышла Афонькина Идея : )))) Однако переиздавать Афонькина пока не рискую, уж больно желтый раритет, по сравнению с ним Брешко-Брешковский — светоч литературы. ––– kna1451 активист 2 июля 2014 г. 11:20 цитата Zirkohid Интересно, что в том же Мюнхене в том же 1947 году эта книжка вышла также на украинском. Нашел эту книгу в Киеве. Постараюсь, чтобы она появилась на сайте "Аргонавти Всесвіту": Ефер, В. Заколот атомів. Фантастична повість. — Б.м.: видання книжкового товариства "Універсальна бібліотека", 1947. — 104 с. — (Бібліотека пригод на суходолі, на морі і в повітрі). цитата grigoriy было бы интересно на "Похитителей разума" взглянуть-книга вроде бы есть в РГБ Эта книга точно есть в РГБ: Има, Иво. Похитители разума : Фантаст.-приключен. роман / Иво Има. — [Б. м. :б. и., 19--]. — 187, [3] с.15 см Коллега witkowsky: Книга вышла в американской зоне оккупации Германии. В переписывании романа Беляева "сознавался (не раз) дипийский писатель Виктор Афонькин (писавший фантастические романы под псевдонимами Виктор Эфер (Ефер) и Иво Ама), о чем см. в переписке Д. Кленовского. Беляев, Александр Романович — Властелин мира / Беляев, Александр Романович, . — Мюнхен : Родина (М.), 1947. — 174 с. : мягк. пер. Иво Има. Похитители разума: Фантастически-приключенческий роман. – Мюнхен: Изд-во «М.Б.», 1946 milgunv философ 2 июля 2014 г. 18:20 ameshavkin Россинский Виктор Федорович (псевдоним: В. Эфер) — автор книги прозы " Превратности судьбы" и вышедшего в Мюнхене сборника "Потери и находки . Эфер В . Находки и потери: Стихи. 1938-1948. — Мюнхен: Тип. «Маяк», [1948]. — 32 с . * witkowsky гранд-мастер 2 июля 2014 г. 19:12 цитата milgunv Россинский Виктор Федорович (псевдоним: В. Эфер) По моим данным — Россинский — псевдоним А. Офросимова (Росимова). Только эта поэтическая книга В. Эфера — определенно творение Афонькина, она с автографом на две фамилии есть у Турчинского. https://fantlab.ru/forum/forum15page1/top... Перемещенный в Германию, Ди-Пи. Позже возникал в США со статьями и кошмарными стихами. Псевдонимы — Иво Ама и Виктор Эфер. Евгений Витковский цитата С.Соболев Иво Има. Похитители разума: Фантастически-приключенческий роман. – Мюнхен: Изд-во «М.Б.», 1946 Автор Има, Иво Заглавие Похитители разума : Фантаст.-приключен. роман Выходные данные [Б. м. : б. и., 19--] Физическое описание 187, [3] с. : 15 см https://search.rsl.ru/ru/record/01002409394 https://fantlab.ru/searchmain?searchstr=%... https://fantlab.ru/work567632 https://www.goodreads.com/author/show/160... Виктор Эфер (Афонькин) Тайна старого дома (Избранные сочинения, том II-б) Электронки имеют бумажный оригинал. Некоторые в журналах, а некоторые — в книгах. https://coollib.com/b/352089/read#t9 Украиноязычные издания http://diasporiana.org.ua/wp-content/uplo... Zirkohid философ вчера в 23:31 Кстати, только сейчас дошло, что рассказ "На Чорній Фармі" (Дорога (Львів-Краків), 1944, №2) авторства В. Росинского принадлежит перу того же Афонькина http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/21728/ http://argo-unf.at.ua/load/nf_chasopisi_d... https://fantlab.ru/forum/forum15page1/top... slovar06 философ цитата Zirkohid рассказ "На Чорній Фармі" "На протяжении года сеньор Эфер обязан безвыездно проживать на „Блэк-Фарм“ По всей видимости, он же дописал начало (недостающую главу) при мюнхенском переиздании "Родиной" "Властелина мира" в 1947 г., а одного из своих персонажей в рассказе "Хитрость Джонатана Хью" назвал Беляевым Несколько бездомных лет после великой эвакуации — Беляев провел в мечтах об Америке. Опытный химик — он долго не мог найти применения своим знаниям ни в одной из стран Европы после того, как пределы родной России были оставлены в тот хмурый мартовский день 1920 года. https://coollib.com/b/352089/read#t3 https://profilib.net/chtenie/145640/zeev-... 18 мар. 2012 г. — Его бросила жена. Рядом осталась только мать, которая, оставив дом, в 1916-м увезла сына в Ялту — появилась пусть слабая, но все же надежда на то, что в Крыму ему помогут. В Ялте Александр Беляев прожил семь лет, шесть из них — прикованным к постели. написал рассказ "Среди одичавших коней" (об эвакуации белогвардейцев из Крыма), сотрудничал в Ялте в белогвардейских газетах (1918-1920) *** Случилось так, что в 1947 году вышла еще одна книга Беляева — роман «Властелин мира», не переиздававшийся с 1929 года. Выпустило книгу издательство «Родина». Вот только, вопреки своему названию, находилось оно не на советской земле, а в немецком городе Мюнхене — в американской оккупационной зоне. Создано издательство было недавними советскими гражданами, не желавшими возвращаться в СССР. И продукцию свою оно адресовало таким же невозвращенцам. Конечно, на первом месте в издательском плане стояла литература антисоветская или запрещенная в СССР… Но эмигрантские издательства и советской литературой не брезговали, тем более развлекательной… Ведь одним Достоевским с Гумилевым сыт не будешь. Да и детям нужно что-то читать на родном языке, а то вовсе забудут! Впрочем, «Властелин мира» мог оказаться полезным и для более старшего возраста. Роман повествует о гениальном немецком авантюристе, внушившем любовь к себе не только молоденькой девушке, но и более широким массам. И сделал он это с помощью радиогипноза, безотказно действовавшего на мозги. Конец же его авантюре положил изобретатель не менее гениальный и, что характерно, — русский. А ведь только что, на Нюрнбергском процессе, Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, раскрыл секрет гитлеровской власти: «Нельзя сказать, что Гитлер изнасиловал немецкий народ. Он соблазнил его…» Вот и добежавшие до Мюнхена читатели книжек «Родины» тоже могли сказать, что никакие они не военные преступники, а жертвы! Гитлер их соблазнил, а потом заставил насиловать и убивать! Если очень-очень хочется, можно убедить себя в чем угодно… Но раскроем роман образца 1947 года. Итак, глава первая: «Кандидат в Наполеоны» «— Можно подумать, что штаб банкира Готлиба выехал на разведку, чтобы сделать заключение о возможности направить сокровища реки в сейфы нашего патрона. — Проговорив это с иронией, Штирнер улыбнулся и перестал грести. — Ваш почтенный (так!) слуга — личный секретарь, юрисконсульт, машинистка и стенографистка. Все налицо. Наверное, многим это покажется подозрительным. Что вы скажете, фрейлейн? — обратился Штирнер к Эльзе Глюк. — Я ничего не скажу. Кому какое дело? — О, несомненно! Кто заподозрит такую очаровательную фрейлейн в разбойничьих планах ее патрона. Конечно, никто! — Вы не можете без комплементов (так!)! — Конечно не могу, фрейлейн Эльза. Ваши глаза, волосы, лицо, ваши руки, наконец. Они настолько прекрасны, что кажутся не настоящими (так!). Эльза улыбнулась и не замедлила ответить: — Вы это так часто повторяете, что уже надоели. Но я вам отплачу, несносный, за эти ювелирные комплименты! А ваше длинное лицо, ваш длинный нос, ваши длинные волосы, ваши длинные руки, они, конечно, настоящие?..»[403] И так далее… Но, позвольте, ведь в романе «Властелин мира» первая глава хоть и называется «Кандидат в Наполеоны», однако начинается совсем не так: «— Не брызгайте мне на платье, Штирнер! Вы не умеете грести. — Ну конечно! Женщины, отправляясь кататься на лодке, имеют обыкновение надевать платье из такой материи, на которой брызги воды оставляют неизгладимые пятна. — Эту остроту вы позаимствовали у Джерома Джерома, из его повести „Трое в лодке“? — Вы очень начитаны, фрейлейн. Я не виноват в том, что это наблюдение Джером сделал раньше меня. Истина остается истиной, хотя бы в лодке ехало и не четверо, а пятеро. — Нас только четверо! — отозвалась со своей скамьи Эмма Фит. — Прекрасная, златокудрая кукла, — ответил Штирнер, — четвертым пассажиром в лодке Джерома была собака; первым в нашей лодке является мой Фальк… — Почему первым? — Потому что он гениален. Фальк! Подай носовой платок фрейлейн Фит, — видишь, она уронила его. Фальк, красивый белый сеттер, ловко прыгнул и…»[404] И так далее… В чем причина столь вызывающего разночтения? Думаю, вопрос этот я задал не первый… Роман «Властелин мира» обнаружился в фондах бывшего Спецхрана бывшей «Ленинки» (ныне — Российской государственной библиотеки). Советские библиотеки книгообменом с эмиграцией не занимались и книг у эмигрантских издательств не покупали. Печатная продукция такого рода попадала в Советский Союз по иным каналам… После войны Министерство госбезопасности СССР и спецслужбы советской оккупационной администрации пристально следили за деятельностью вчерашних соотечественников в Западной Германии. К такой деятельности относилось и ведение антисоветской пропаганды, то есть выпуск газет, журналов и книг. И Советский Союз настойчиво требовал от союзных держав Запада эту деятельность пресечь. Союзники поначалу такому давлению поддались: на полгода — с ноября 1946 года по 14 июня 1947-го — русское книгоиздание на всей западной территории Германии полностью прекратилось[405]. Потом возобновилось, и у советских чекистов снова появилась работа: образцы печатной продукции собирались, изучались и, по миновании надобности, передавались в отделы специального хранения библиотек. Потому в высшей степени вероятно, что спецхрановский «Властелин мира» прошел через руки компетентных органов. Какой же вывод могли сделать аналитики МГБ, сравнив два издания романа — советское и антисоветское? Для Беляева самый неблагоприятный: отличие текстов объясняется тем, что автор свой роман переработал. И, значит, Беляев не умер зимой 1941 года в оккупированном Пушкине, а остался жив и ушел с немцами! Одного такого подозрения было достаточно, чтобы ни одной книги означенного автора больше в СССР не вышло. Неужели «литературоведы в штатском» оказались правы и Александр Романович действительно доживал свой век где-то на Западе? Нет, «органы» ошиблись, и мы можем это доказать! Мюнхенский «Властелин мира» отличается от своего советского собрата еще двумя моментами. Во-первых, фраза: «Но так как кругом — о присутствующих, конечно, не говорят — тоже сплошные жулики, то, чтобы овладеть счастьем, — и он многозначительно посмотрел на Эльзу Глюк, — надо, очевидно, стать таким сверхжуликом, по сравнению с которым все остальные жулики казались бы добродетельными людьми» — не сопровождается сноской: «По-немецки „глюк“ — „счастье“». Тут, слава богу, все понятно: читатели, столько лет прожившие бок о бок с немцами, в переводе слова Glück не нуждались, и авторская игра слов была им совершенно понятна. Настоящая загадка в другом — имя автора: «Беляев»… Не «Александр», не «А. Р.» и даже не «А.» — просто «Беляев»! Что это — маскировка? Если маскировка, то на редкость нелепая и беспомощная! 403 Беляев. Властелин мира. Мюнхен: Родина, 1947. С. 4. 404 Беляев А. Властелин мира. Л.: Красная газета, 1929. С. 4. 405 Штейн Э. Русская печать лагерей «Ди-Пи». Orange (Conn.): Antiquary, 1993. С. 8. 87 Но вернемся к началу… Оказывается, мы прервали чтение первой главы мюнхенского «Властелина» на самом интересном месте: «— Вы не можете без комплементов (так!)! — Конечно не могу, фрейлейн Эльза. Ваши глаза, волосы, лицо, ваши руки, наконец. Они настолько прекрасны, что кажутся не настоящими (так!)! Эльза улыбнулась и не замедлила ответить: — Вы это так часто повторяете, что уже надоели. Но я вам отплачу, несносный, за эти ювелирные комплименты! А ваше длинное лицо, ваш длинный нос, ваши длинные волосы, ваши длинные руки, они, конечно, настоящие?..» Дело в том, что последний абзац распадается на две части: «— Вы это так часто повторяете, что уже надоели. Но я» и: «…вам отплачу, несносный, за эти ювелирные комплименты! А ваше длинное лицо, ваш длинный нос, ваши длинные волосы, ваши длинные руки, они, конечно, настоящие?..» Так вот, начиная со второй части абзаца и до самого конца романа мюнхенская книжка ничем не отличается от ленинградского издания 1929 года! И в этом ленинградском издании словами «вам отплачу…» начинается третья страница! Теперь все ясно: в мюнхенские руки попала книжка 1929 года, но — с оторванной обложкой (работы художника С. Верховского) и вырванными двумя листами. На обложке и первом листе — титульном — помещались имя автора («А. Беляев») и название романа («Властелин мира»). На втором листе уместились две страницы — первая и вторая. И в этом изуродованном мюнхенском экземпляре, на третьей его странице, которая теперь стала первой, красовалась начертанная кем-то, скорее всего, бывшим владельцем, карандашная или чернильная надпись: «Беляев Властелин мира». Больше об авторе и романе издатели ничего не знали. Стоп! — название главы: «Кандидат в Наполеоны»… Оно-то ведь было напечатано на втором листе — на первой странице романа! Никакой тайны нет и здесь — последняя страница книги тоже уцелела: на ней было напечатано «Оглавление»! Но издать роман, который начинается словами: «вам отплачу, несносный…», было, конечно, невозможно. И тогда издатели состряпали имитацию начала. Мастерили ее они так. Из оставшейся части главы узнали, что герои работают у банкира Готлиба, а в данный момент катаются на лодке, — и сварганили первую фразу: «Можно подумать, что штаб банкира Готлиба выехал на разведку…» Еще раз прочли, выяснили, кто именно в лодке сидит, и сочинили продолжение: «— Ваш почтенный (так! Вместо правильного: „покорный“. — З. Б.-С.) слуга — личный секретарь, юрисконсульт, машинистка и стенографистка. Все налицо». Затем вчитались в огрызок фразы на третьей странице: «…вам отплачу, несносный, за эти ювелирные комплименты! А ваше длинное лицо, ваш длинный нос, ваши длинные волосы, ваши длинные руки, они, конечно, настоящие?..» И — перевернули: «— Вы не можете без комплементов (так!)! — Конечно не могу, фрейлейн Эльза. Ваши глаза, волосы, лицо, ваши руки, наконец. Они настолько прекрасны, что кажутся не настоящими (так!)!». Вот и все! Можно нести в типографию… Проделать такой анализ могли бы и сотрудники МГБ. Но им это было ни к чему… Для приговора хватало и подозрения… Тем более приговор заочный. А в 1956 году Беляева реабилитировали — за отсутствием события преступления. Реабилитировали так же тихо и негласно, как посмертно репрессировали… https://www.litmir.me/br/?b=196944&p=87 
Властелин мира Мюнхен: Родина, 1947 г. Тип обложки: мягкая Страниц: 174 Очень редкое издание романа Александра Беляева. Обычно это издание связывается с личностью жены писателя, увезенной в Германию во время оккупации и прошедшей лагеря ДиПи, однако автор биографии А. Беляева, опубликованной в серии ЖЗЛ в 2013 г., эту версию не поддерживает. Издание русского зарубежья. https://fantlab.ru/edition137068 Беляев, А. Р. Властелин мира / А. Р. Беляев. — Мюнхен : Родина, 1947. — 174 с. — 21 см Approved by UNNRA Team 108 РГБ РЗ, БФРЗ https://cyberleninka.ru/article/n/izdatel... https://search.rsl.ru/ru/search#yf=1946&y.... *** Об авторе Сведения об авторе, писавшем под псевдонимом «В. Эфер», крайне скудны. Его произведения (со ссылкой на В. Завалишина, Е. Зеленского и Б. Филиппова, но, видимо, безосновательно) приписывались некоему Н. П. Мамонову; в наиболее авторитетных источниках настоящее имя автора значится как «Виктор Афонькин». Некоторые подробности можно почерпнуть из письма поэта Д. Кленовского литературоведу В. Маркову, написанном в октябре 1956 г.: «Глеб Струве, судя по его письмам, тоже сильно уязвлен отзывом Гуля о его книге. До меня газета еще не дошла, и я сужу по кратким из нее выдержкам. Но сразу же в глаза бросается общий злобный и враждебный ее тон. Несомненна ее мстительная подоплека, вызванная тем, что Г<леб> С<труве> вспомнил в своей книге сменовеховское прошлое Гуля, о котором он предпочитает не вспоминать. Что касается фактических деталей статьи, то если Гуль, как пишет Струве, в числе якобы несправедливо неупомянутых им писателей назвал, да еще именуя его поэтом, Эфера то дальше идти, право, некуда! Я случайно этого Эфера знаю, ибо во время войны и после он жил в Германии и одно время я даже с ним переписывался. М. б., и Вы его знавали или о нем слыхали? Кроме этого псевдонима он писал еще под именами Росинский и Ивоима (настоящая фамилия его Афонькин). Известность приобрел он в дипийских послевоенных лагерях тем, что немцы называют Schundliteratur романчиками, где (для примера) повествуется о скрещении обезьян с остовками в гитлеровских кадетах. Перебравшись в Америку, сей муж молчал лет 67 и лишь сейчас опять впервые объявился с рецензией в 44 Нов<ого> журнала. Упоминать о нем в книге об эмигрантской литературе было бы, в сущности, неприлично. Это очень напористый, нагловатый парень и, вероятно, понравился Гулю, взявшему его себе под крылышко. Г<леб> С<труве> написал мне именно об Эфере, ибо во время нашей встречи этим летом у нас зашел о нем разговор». Первый (?) фантастический роман Эфера-Афонькина «Похитители разума» вышел без обозначения года и места издания в одном из германских «дипийских» лагерей под «японизированным» псевдонимом «Иво Има». В 1947 г. Эфер опубликовал в Мюнхене фантастическую повесть «Бунт атомов» (на обложке, в отличие от титульного листа, автор был ошибочно обозначен как «В. Ефер»). Интересно отметить, что эта же повесть, с теми же иллюстрациями К. Кузнецова, но с иной обложкой, вышла в 1947 г. на украинском языке в серии «Бiблiотека пригод на суходолi, на мopi i в повiтрi» под маркой «На чужинi» (книготоварищество «Унiверсальна бiблiотека», без обозначения места издания). В том же 1947 г. без указания места издания (предположительно в Мюнхене) Эфер издал сборник рассказов «Превратности судьбы: Рассказы эмигранта». В 1948 г. в Мюнхене вышла небольшая книга стихов Эфера «Находки и потери: Стихи 1938–1948». Чем занимался Эфер-Афонькин в последующие годы, писал ли, публиковался ли и под какими псевдонимами, нам не известно. Единственная публикация американских лет, значащаяся в указателях эмигрантской литературы — упомянутая в письме Д. Кленовского рецензия на книгу стихов А. Браиловского «Дорогою свободной» (Новый журнал, 1956, № 44). Книга, за исключением заглавия, полностью воспроизводит авторский сборник рассказов «Превратности судьбы: Рассказы эмигранта» (Б. м. [Мюнхен], 1947). Текст публикуется с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Имена и топонимы оставлены без изменений. Эфер, В. Превратности судьбы = The freaks of fortune : рассказы эмигранта / В. Эфер. — [Б.м.] : [б.и.], 1947. — 127, [1] с.; 15 см. Эфер, В. Бунт атомов : фантаст. повесть / В. Эфер. — Мюнхен, 1947. — 123, [3] с.; 16 см. https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%AD%... Эфер В. Превратности судьбы: Рассказы эмигранта.- Б.м.: [Посев], 1947.- 128 с.- Парал. тит. англ. http://www.libavtograd.ru/library.php?pag... Михаил Фоменко (электрон. изд. "Саламандра") *** 


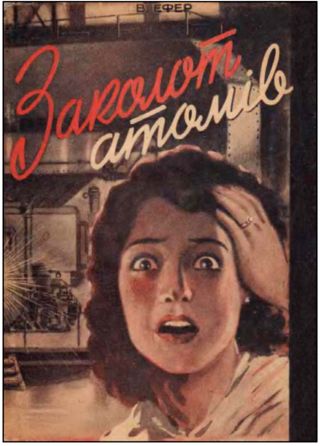
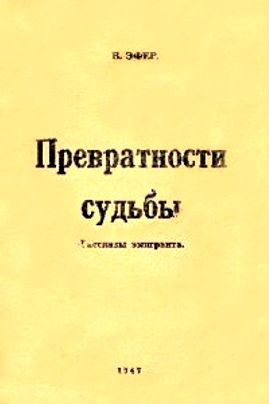








*** "У таборах Ді-Пі після другої світової війни гостросюжетні романи виходили з помірною інтенсивністю. Вони представляли жанри наукової фантастики чи пригодницької авантюри, натомість шпигунсько-сенсаційна лінія в них була другорядна або ж відсутня. Це „Інженер Марченко‖ Ю. Балка (псевдонім Ю. Чапленка) та чотири пригодницько-фантастичні повісті у серії „Бібліотека пригод на суходолі, на морі і в повітрі‖, що видавалася на циклостилі: „Мандрівка в безвість‖ та „Шукачі блакитних перлів‖ В. Гая (псевдонім К. Коспірука), а також „Заколот атомів‖ В. Ефера (псевдонім нерозшифровано) та „Навздогін за ворогом‖ К. Яворського і В. Росовича (псевдонім В. Бендера). Інший роман В. Бендера – „Марко Бурджа‖, виданий 1946 р. у Ріміні під псевдонімом В. Дончака, – називали саме „сензаційним‖. У ньому йшлося про репатріаційні табори в Італії." Олександр Вешелені. ЖАНР „СЕНСАЦІЙНОЇ ПОВІСТІ” В УКРАЇНСЬКІЙ ЕМІГРАЦІЙНІЙ ЛІТЕРАТУРІ https://fantlab.ru/blogarticle53783 fortunato авторитет В письме Д. Кленовского В. Маркову четко указано, что Иво Има = Эфер = Россинский = Афонькин. Кленовский был лично знаком с Афонькиным и переписывался с ним. На каких основаниях Петров приписывает этот псевдоним Касперуку — совершенно непонятно. https://fantlab.ru/forum/forum15page1/top... И ещё одна группа исследователей считает, что Иво Има — псевдоним Виктора Афонькина (др. псевдоним — В. Эфер): А. И. Бардеева, Э. А. Брянкина, В. П. Шумова (Москва), П. Н. Базанов (Санкт- Петербург) 


https://cyberleninka.ru/article/n/izdatel...
|
| | |
| Статья написана 11 февраля 2018 г. 18:52 |
Человек-амфибия, Продавец воздуха. Прыжок в ничто... 


Твір заново відредаговано та доповнено, окрім чудових ілюстрацій Г. Малакова, також роботами Г. Зубковського і П. Луганського http://argo-unf-ek.at.ua/news/vibrani_tvo...
|
| | |
| Статья написана 4 февраля 2018 г. 14:42 |
Будущий писатель родился в Смоленске, в семье православного священника, настоятеля церкви Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии). Отец — Роман Петрович Беляев, мать — Наталья Фёдоровна.В семье было ещё двое детей: сестра Нина умерла в детском возрасте от саркомы; брат Василий, студент ветеринарного института, утонул, катаясь на лодке.
А. Беляев был увлекающейся натурой. С ранних лет его влекла к себе музыка: он самостоятельно научился играть на скрипке, рояле, любил музицировать часами. Ещё одной «забавой» были занятия фотографией (существовал сделанный им снимок «человеческая голова на блюде в синих тонах»). Известно, что А. Беляев занимался языком эсперанто. С детства много читал, увлекался приключенческой литературой. Александр рос непоседой, любил всевозможные розыгрыши и шутки; следствием одной из его шалостей стала травма глаза с последующим ухудшением зрения. Мечтал юноша и о полётах: пытался взлетать, привязав к рукам веники, прыгал с крыши с зонтом и самодельным парашютом, сделанным из простыней, мастерил планёр.Однажды, при очередной попытке взлететь, он упал с крыши сарая и значительно повредил спину. Эта травма повлияла на всю его дальнейшую жизнь — с 35 лет Беляев страдал от постоянной боли в повреждённой спине и даже был парализован на месяцы. В 16-18 лет изобрёл стереоскопический проекционный фонарь. Отец желал видеть в сыне продолжателя своего дела и отдал его в 1894 году в духовное училище. Окончив его в 1895 году, Александр был переведён в Смоленскую духовную семинарию. В июне 1901 года окончил её , но священником не стал, напротив, вышел оттуда убеждённым атеистом. 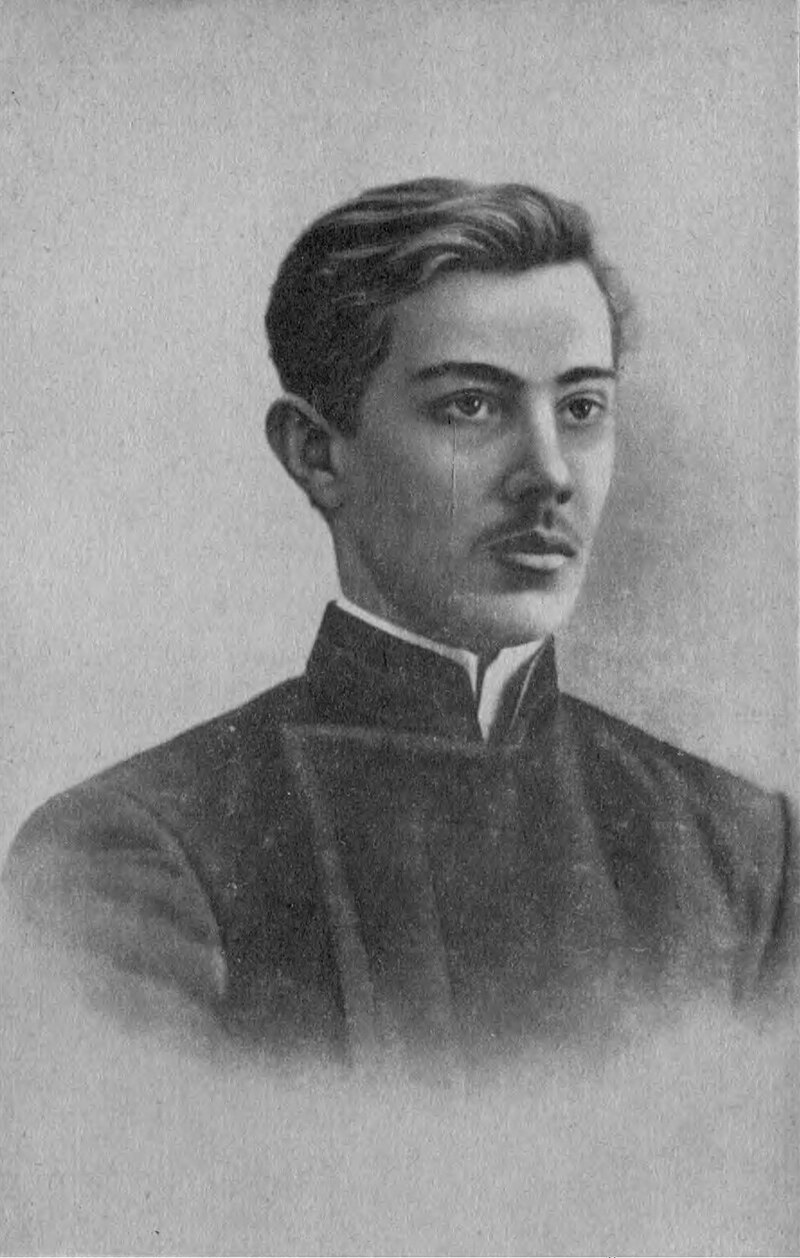
1901 
1902 В августе 1901 года подписал контракт с театром смоленского Народного дома и по март 1902 года играл в спектаклях «Безумные ночи», «Ревизор», «Трильби», «Лес», «Нищие духом», «Бешеные деньги», «Воровка детей», «Соколы и вороны» (Тюрянинов), «Преступление и наказание» (Разумихин), «Два подростка» (капитан д’Альбоаз), «Картёжник» (Герман). Наперекор отцу он в июне 1902 года поступил в Демидовский юридический лицей в Ярославле. В январе 1905 года в связи со всероссийской забастовкой студентов занятия в лицее были прекращены. Александр вернулся домой. 27 марта (9 апреля) этого года у него умер отец.Вскоре после смерти отца ему пришлось подрабатывать: Александр давал уроки, рисовал декорации для театра, играл на скрипке в оркестре цирка Труцци, печатался в городских газетах как музыкальный критик. 
1905.О.П. Высоцкая, А.Р. Беляев, А. Городская, Л. Волочкова в Смоленске 10-11 декабря 1905 года во время Первой русской революции Беляев принял участие в московских студенческих волнениях, строительстве баррикади в дальнейшем поддерживал связь с группой социалистов-революционеров под руководством Корелина, в связи с чем находился под наблюдением губернского жандармского управления. В секретных отчётах жандармерии он проходил под кличкой «Живой». В июне 1906 года занятия в Демидовском лицее возобновились, и Александр вернулся к занятиям. В августе 1909 года за Беляевым была установлена слежка, а в ночь со 2 на 3 ноября этого же года жандармское управление производит у него обыск. 
Надежда Васильевна и Роман Петрович Беляевы, родители писателя 
Александру Беляеву 10 лет 
1905.Александр Беляев со смоленским другом Николаем Высоцким В июне 1909 года Беляев окончил лицей, после чего вернулся в Смоленск и начал заниматься юридической практикой. Получил должность помощника присяжного поверенного (в июле 1909), потом присяжного поверенного (в июле 1914) и скоро приобрёл известность хорошего юриста. У него появилась постоянная клиентура. Одновременно с этим Беляев подрабатывает в газете «Смоленский Вестник», выходившей 6 раз в неделю, с дополнительными выпусками и литературными приложениями. Первые публикации Александра Беляева появились в 1906 году, а с 1911 года сотрудничество стало регулярным. Это были репортажи о театральных и музыкальных премьерах, критические заметки, очерки общественно-литературной жизни, которые выходили под псевдонимом «- В-la-f -» или подписью «Б.».С 1910 по 1913 года Беляев — штатный сотрудник газеты, для которой он писал театральные рецензии и путевые очерки о поездках по Европе. 
1912 В 1913—1915 годах Беляев работал секретарём редакции газеты.За защиту богатого лесопромышленника Скундина в 1911 году молодой поверенный получил хороший гонорар. Выросли и материальные возможности: он смог снять и обставить хорошую квартиру, приобрести неплохую коллекцию картин, собрать большую библиотеку. В конце марта 1913 года он совершил путешествие за границу: побывал во Франции, Италии, посетил Рим, Венецию, Неаполь, Флоренцию, Геную. Здесь же осуществилась детская мечта о полёте, и Беляев поднялся в воздух на гидроплане.Путевые очерки об этом путешествии были опубликованы в газете «Смоленский вестник». В ноябре 1914 года оставляет адвокатскую практику ради должности ответственного редактора газеты «Смоленский вестник», но в феврале 1915 года возвращается обратно. 
1914 В 1908—1909 годах у Беляева был первый брак с Анной (Станкевич), а в 1913 году он второй раз вступил в брак с Верой (фамилия неизвестна) Ещё во время учёбы в лицее А. Беляев проявил себя театралом. Под его руководством в 1913 году учащиеся мужской и женской гимназий разыграли сказку «Три года, три дня, три минутки» с массовыми сценами, хоровыми и балетными номерами. В том же году А. Р. Беляев и виолончелистка Ю. Н. Сабурова поставили оперу-сказку Григорьева «Спящая царевна». Сам он мог выступать и драматургом, и режиссёром, и актёром, создавал эскизы костюмов и декораций.Домашний театр Беляевых в Смоленске пользовался широкой известностью, гастролировал не только по городу, но и по его окрестностям. Несколько сезонов были сыграны в Москве.Однажды, во время приезда в Смоленск столичной труппы под руководством Станиславского, А. Беляеву удалось заменить заболевшего артиста — сыграть вместо того в нескольких спектаклях. В июле 1914 года в московском детском журнале «Проталинка» опубликована пьеса Беляева «Бабушка Мойра». 
Александр Беляев в любительском спектакле. Смоленск. 1904 год 
Александр Беляев в Смоленске. 1905 год 
Смоленская любительская театральная труппа под руководством А.Р. Беляева. Начало XX века В 1915 году А. Беляев заболел костным туберкулёзом позвонков, осложнившимся параличом ног. Тяжёлая болезнь на шесть лет приковала его к постели, три из которых он пролежал в гипсовом корсете. Молодая жена его покинула, сказав, что не для того она выходила замуж, чтобы ухаживать за больным мужем. Беляев переезжает в Ростов-на-Дону, где сотрудничает с ростовской газетой «Приазовский край» и публикует первый фантастический рассказ «Берлин в 1925 году».В поисках специалистов, которые могли бы ему помочь, А. Беляев с матерью и старой няней попал в Ялту. Там, в больнице, он начал писать стихи. Не поддаваясь отчаянию, он занимается самообразованием: изучает иностранные языки, медицину, биологию, историю, технику, много читает (Жюля Верна, Герберта Уэллса, Константина Циолковского). В 1918—1920 годах сотрудничает с белогвардейскими газетами в Ялте  
Будущая жена писателя Маргарита Магнушевская. Ялта. 1918 г. В 1919 году знакомится со своей будущей женой Маргаритой Константиновной Магнушевской. В 1921 году мать Александра Романовича умирает от голода. Победив болезнь, в 1922 году он возвращается к полноценной жизни, начинает работать. Летом 1921 года в Доме отдыха для учёных и писателей в Гаспре Александру Романовичу вместо гипсового корсета изготовили целлулоидный и писатель смог ходить и работать в учреждениях Ялты. Сначала А. Беляев стал заведующим школы-колонии, потом его устроили на должность инспектора уголовного розыска, там он организовал фотолабораторию, позже пришлось уйти работать библиотекарем. В декабре 1921 года он венчается с Маргаритой Константиновной Магнушевской, а 22 мая 1923 года они регистрируют свой брак.Жизнь в Ялте была очень тяжёлой, и А. Беляев с помощью знакомой в 1923 году перебрался с семьёй в Москву, где устроился на работу юрисконсультом. 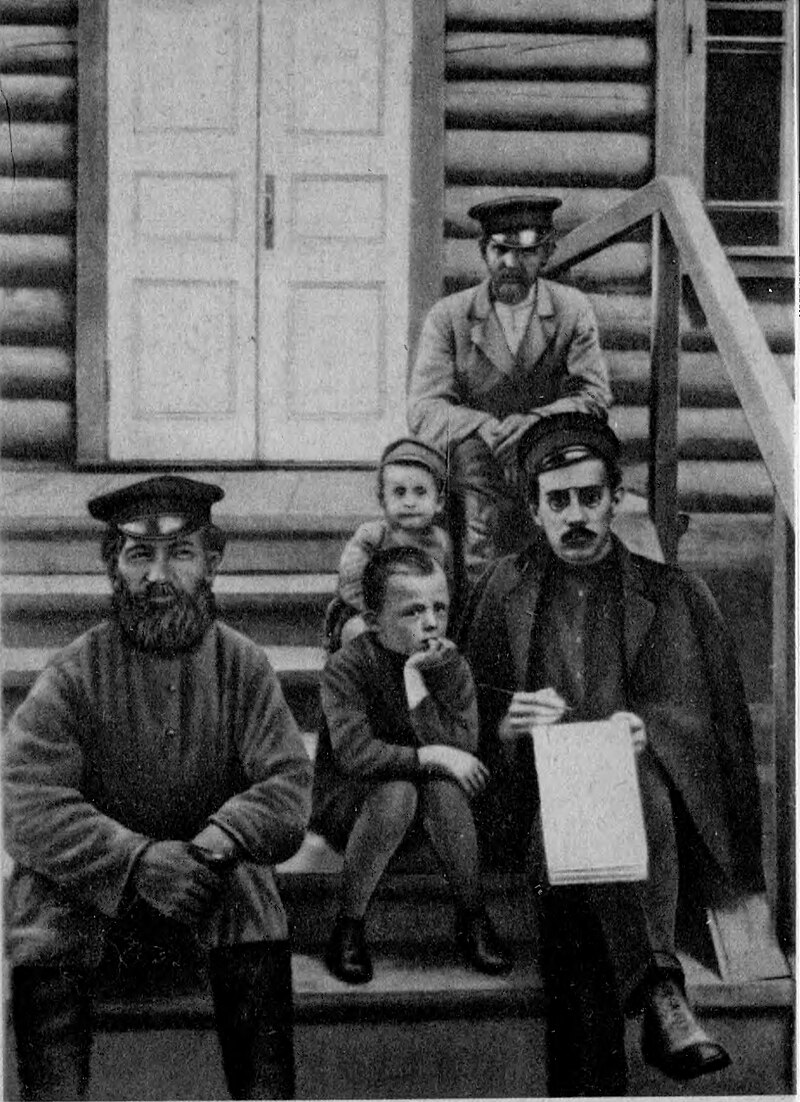
Александр Беляев в городе Ярцево в качестве корреспондента газеты «Смоленский вестник». 1914 год 15 марта 1924 года в семье Беляевых рождается старшая дочь Людмила.В Москве Беляев начинает серьёзную литературную деятельность. Печатает научно-фантастические рассказы, повести в журналах «Вокруг света», «Знание — сила», «Всемирный следопыт». В 1924 году в газете «Гудок» публикует рассказ «Голова профессора Доуэля», в 1925 году этот рассказ был опубликован в журнале «Всемирный следопыт», а в 1928 году «Голова профессора Доуэля» перерабатывается в роман «Воскресшие из мёртвых».В 1926 году в издательстве «Земля и фабрика» публикуется первая книга — сборник рассказов «Голова профессора Доуэля». Сам Беляев называл это произведение автобиографической историей, поясняя: «Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать. Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, всё же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни „головы без тела“, которого я совершенно не чувствовал — полная анестезия…». 
Индийский духовный учитель Кришнамурти в 1920-е годы. Историей его жизни навеян рассказ об Ариэле В Москве А. Беляев прожил до 1928 года; за это время им были написаны романы «Остров погибших кораблей» (публикуется частями во «Всемирном следопыте» с 1926 по 1927 год), «Последний человек из Атлантиды» (опубликована в 1925 году в журнале «Всемирный следопыт»), «Человек-амфибия» (печатается в 1928 году в московском журнале «Вокруг света», потом дважды выходит отдельной книгой в том же году), «Борьба в эфире» (в 1927 году напечатана журнальная версия под названием «Радиополис», через год опубликована под новым названием), «Властелин мира» (сокращённая версия опубликована в газете «Гудок» в 1926 году). Писал автор не только под своим именем, но и под псевдонимами А. Ром и Арбель. 
В декабре 1928 года А. Беляев с семьёй переехал в Ленинград, в квартиру на Можайской улице, и с этих пор становится профессиональным писателем. В 1929 году публикуется третье издание «Человека-амфибии», роман «Продавец воздуха» (в московском журнале «Вокруг света»), «Человек, потерявший лицо» (в ленинградском журнале «Вокруг света») повесть «Золотая гора» (в альманахе «Борьба миров»), отдельной книгой выходит роман «Властелин мира».19 июля 1929 года в семье Беляевых рождается вторая дочь — Светлана. Вскоре болезнь опять дала о себе знать, и в сентябре 1929 года пришлось переехать из дождливого Ленинграда в солнечный Киев на улицу Нестеровского. Дальнейшие события оказались для писателя очень тяжёлыми: 19 марта 1931 года от менингита умерла его шестилетняя дочь Людмила, также рахитом заболела вторая дочь Светлана, а вскоре обострилась и его собственная болезнь (спондилит). Однако, киевские издательства принимали рукописи только на украинском языке, и в 1931 году семья вернулась в Ленинград и поселилась в посёлке Щемиловка за Невской заставой. 
В 1930 году выходит роман «Подводные земледельцы» (напечатан в московском журнале «Вокруг света») и очерк о Константине Эдуардовиче Циолковском «Гражданин Эфирного острова» (напечатан во «Всемирном следопыте»). В 1931 году роман «Земля горит» напечатан в ленинградском журнале «Вокруг света». В январе 1932 года писатель вместе с женой Маргаритой, дочерью Светланой и тёщей Эльвирой Юрьевной Магнушевской переезжает из Ленинграда в пригород Детское Село (ныне город Пушкин), в квартиру на улице Жуковской,. Состояние здоровья Александра Романовича улучшилось, и он смог самостоятельно работать на пишущей машинке и ходить по издательствам. 
АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ С ЖЕНОЙ МАРГАРИТОЙ И ПЕРВОЙ ДОЧКОЙ Но в это время в редакциях стали плохо принимать фантастику как элемент чуждый социалистическому строю, и публикации произведений этого жанра практически прекратились. Беляеву предлагали выбрать новые темы для творчества, например, писать о колхозах, но он ссылался на то, что не знаком с сельской жизнью и не желал отказываться от своего жанра. Из-за того, что у писателя не приняли ни одной рукописи для публикации, он был вынужден искать средства к существованию и в том же 1932 году уехал в Мурманск, куда завербовался в качестве юрисконсульта "Севтралтреста", однако вернулся назад, не проработав и года . В Заполярье писатель пробыл с весны до осени 1932 года. Кроме работы юрисконсультом, Беляев также публиковал очерки в «Полярной правде», где выдвигал свои идеи благоустройства края. 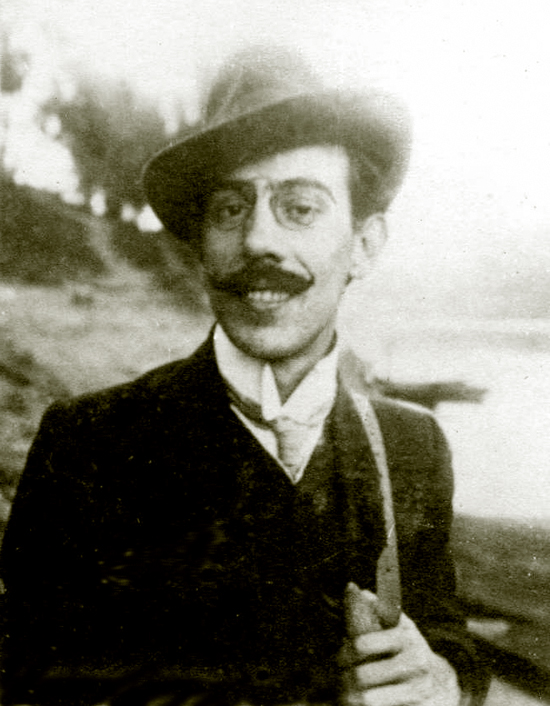
В частности, он предложил идею «аэроэлектростанции», которая должна соединять ветряк с насосом. Эта конструкция в ветреную погоду при простое должна была перекачивать воду из нижнего водоёма в верхний, а в безветренную вращать гидротурбину посредством перетекания воды из верхнего водоёма в нижний.Также были предложены идеи озеленения города, для чего Александр Романович написал письмо директору Киевского акклиматизационного сада Украинской академии наук Н. Ф. Кащенко, проработавшему много лет в Сибири, и создания Мурманского зоопарка, где животные должны были жить в естественной полярной среде. Помимо этих очерков Беляев в облике рабкора А. Б. публиковал критические заметки в многотиражке механических мастерских «Севтралтреста» «Заполярный металлист», где указывал на недостатки города. В дальнейшем впечатления от жизни на Севере войдут в романы «Чудесное око» и «Под небом Арктики». 
В 1933 году писатель сотрудничает с ленинградскими детскими журналами «Чиж» и «Ёж» и публикует роман «Прыжок в ничто». В 1934 году в газете «Литературный Ленинград» на этот роман выходит разгромная рецензия авторства Я. И. Перельмана. Также в конце июля 1934 года он встречается с Гербертом Уэллсом, приехавшим в Ленинград, и начинает переписку с Константином Эдуардовичем Циолковским. В 1935 году Беляев получил от Союза писателей две комнаты в бывшей квартире Бориса Житкова в Ленинграде на Петроградской стороне (Большой проспект, 51/2), а также становится постоянным сотрудником журнала «Вокруг света». Публикуется второе издание романа «Прыжок в ничто» с предисловием К. Э. Циолковского, повесть «Чудесный глаз» выходит В Киеве в переводе на украинский язык («Чудесне око»). В Ленинграде болезнь писателя обостряется, и почти три года он проводит снова закованным в гипс[. Летом 1935 и летом 1936 годов писатель проходит лечение в санатории «Таласса» в Евпатории. В 1936 году роман «Звезда КЭЦ» публикуется в ленинградском журнале «Вокруг света», а в 1937 году «Голова профессора Доуэля» печатают газета «Смена» и ленинградский журнал «Вокруг света». В 1937—1938 годах повесть «Небесный гость» публикуется в газете «Ленинские искры». В начале 1938 года, после одиннадцати лет интенсивного сотрудничества, Беляев покидает журнал «Вокруг света» и летом этого года вновь возвращается в Детское Село, которое в то время уже переименовали в город Пушкин 
10 февраля 1938 года «Литературная газета» поддерживает писателя и возмущается отношением Союза писателей к положению Беляева, связанному с болезнью и проблемами с публикациями. 15 мая 1938 года Беляев публикует статью «Золушка» о бедственном положении современной ему фантастики. В 1938 году выходят три книги писателя: новая редакция «Человека-амфибии» и роман «Голова профессора Доуэля» публикуются в Ленинграде, «Прыжок в ничто» — в Хабаровске. Кроме того, журнал «В бой за технику!» в апреле 1938 года начал печатать роман «Под небом Арктики», ленинградский журнал «Вокруг света» с июля по декабрь печатает повесть «Лаборатория Дубльвэ». В 1939 году в журнале «Молодой колхозник» опубликована повесть «Замок ведьм». В 1940 году публикуются «Человек, нашедший своё лицо» (переделанный роман 1929 года «Человек, потерявший лицо») и новая редакция «Звезда КЭЦ». Делаются попытки первой экранизации — по заказу Одесской киностудии идёт работа над сценарием кинофильма «Когда погаснет свет» 14 июня 1941 года, незадолго до Великой Отечественной войны, в издательстве «Советский писатель» вышла последняя прижизненная книга Беляева — сигнальный экземпляр романа «Ариэль». 
«Слепой полёт», первое издание в журнале «Уральский следопыт», иллюстрации Ивана Холодова. 1935 год 
Художественный маркированный конверт с оригинальной маркой, посвящённый Александру Беляеву. Иллюстрация к роману «Человек-амфибия». 2009 год 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Незадолго до войны писатель перенёс очередную операцию, поэтому на предложение эвакуироваться он ответил отказом. Александр Романович в это время был полулежачим больным, встававшим только, чтобы умыться и поесть[13]. С началом войны Беляев пытается безуспешно опубликовать фантастический рассказ «Чёрная смерть» о неудавшейся подготовке фашистскими учёными бактериологической войны. Он посылает рукопись в газету «Красная звезда» и журнал «Ленинград», но ему отвечают отказом. Город Пушкин (бывшее Царское Село, пригород Ленинграда), где жил в последние годы А. Беляев с семьёй, был оккупирован фашистами 17-19 сентября 1941 года, а Александр Романович Беляев умер от голода на 58-м году жизни. Большинство источников указывают дату смерти писателя 6 января 1942 года. Зеев Бар-Селла, основываясь на дневниках Лидии Осиповой,определяет дату смерти Беляева как «не позднее 23 декабря 1941»[4]. В её дневнике содержится запись, датированная 23 декабря 1941 года: « Писатель Беляев, что писал научно-фантастические романы вроде „Человек-Амфибия“, замёрз от голода у себя в комнате. „Замёрз от голода“ — абсолютно точное выражение. Люди так ослабевают от голода, что не в состоянии подняться и принести дров. Его нашли уже совершенно закоченевшим…» » 
Надгробный памятник А. Р. Беляеву на Казанском кладбище в Пушкине. Здесь похоронена только его жена, а тело писателя покоится в братской могиле Тёща писателя была шведкой, названной при рождении двойным именем Эльвирой-Иоанеттой. Незадолго до войны при обмене паспортов ей оставили только одно имя, а также записали её и дочь немками. Из-за сложностей обмена так и осталось. Из-за этой записи в документах жене писателя Маргарите, дочери Светлане и тёще немцы присвоили статус фольксдойче и были угнаны немцами в плен, где находились в различных лагерях для перемещённых лиц на территории Польши и Австрии до освобождения Красной Армией в мае 1945 года. После окончания войны они были сосланы в ссылку в Западную Сибирь. В ссылке они провели 11 лет. Дочь замуж не выходила. 
Светлана Александровна и Маргарита Константиновна Беляевы. Ленинград. 1970 г. Беляев был похоронен в братской могиле вместе с другими жителями города. Место захоронения писателя достоверно не известно. Памятная стела на Казанском кладбище города Пушкина установлена на могиле его жены, которая была похоронена там в 1982 году. Основным жанром, в котором работал Беляев, была научная фантастика. За шестнадцать лет творчества были написаны семнадцать романов и десятки повестей и рассказов, что делает Беляева самым плодотворным советским писателем, работающим в этом жанре в первой половине XX века. Писателя остро интересовал вопрос человеческой психики: функционирования мозга, его связи с телом, с жизнью души, духа. Может ли мозг мыслить вне тела? Возможна ли пересадка мозга? Какие последствия может повлечь за собой анабиоз и его широкое применение? Существуют ли границы у возможности внушения? А у генной инженерии? Попытке решить эти проблемы посвящены романы «Голова профессора Доуэля», «Властелин мира», «Человек, потерявший лицо», рассказы «Человек, который не спит», «Хойти-Тойти». Своеобразным продолжением этих размышлений стали романы-гипотезы, помещающие человека в разные среды существования: океан («Человек-амфибия») и воздух («Ариэль»). Его последний роман, «Ариэль», написанный в 1941 году, перекликается с известным романом А. Грина «Блистающий мир». Герои обоих произведений способны летать без дополнительных приспособлений (см. Левитация). Образ юноши Ариэля — несомненное достижение писателя, в котором предметно реализовалась вера автора в человека, преодолевающего земное притяжение. 

В своих научно-фантастических романах Александр Беляев предвосхитил появление огромного количества изобретений, хотя при жизни писателя его идеи часто расценивали как «научно несостоятельные» и «лишённые познавательного значения». Часть из них связана с освоением моря: подводные поселения и фермы, подводная съёмка и телевидение, ранцы-буксировщики для пловцов(«Подводные земледельцы», «Чудесное око»). Другая — с освоением космоса: пилотируемые космические полёты, выход в открытый космос, полёт на Луну и орбитальные станции («Звезда КЭЦ», «Прыжок в ничто») Также предсказаны достижения в биологии и медицине: создание новых органов человека, сохранение жизнедеятельности изолированных органов, трансплантология, операции на хрусталике, пластическая хирургия, управление настроениями и действиями живого организма, регулирование роста через воздействие на эндокринную систему, препараты, снимающие утомление и стимулирующие умственную деятельность, замораживание как способ временно приостановить биологическое функционирование («Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Человек, потерявший лицо» и др.) Кроме того: радиолокатор, интравизор («Борьба в эфире»)[25], беспилотные летательные аппараты («Властелин мира»); микробиологическое производство («Вечный хлеб»), искусственная шаровая молния[29] и другие. В 1990 году секцией научно-художественной и научно-фантастической литературы Ленинградской писательской организации Союза писателей СССР была учреждена литературная премия имени Александра Беляева, присуждаемая за научно-художественные и научно-фантастические произведения. 
В Смоленске на здании, где располагалась редакция газеты «Смоленский вестник» была установлена мемориальная доска в честь писателя, также в связи со столетием со дня рождения Беляева в его честь переименовали одну из улиц Смоленска. 
В 2009 году почта России выпустила художественный маркированный конверт с оригинальной почтовой маркой, посвящённой Александру Беляеву. Источники: Хозиева С.И. Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. — М., 2000. — 576 с. Орлов О. А.Р. Беляев (Биографический очерк) // Беляев Александр Романович. Собрание сочинений в 8 томах. — М.: Молодая гвардия, 1964. — Т. 8. — С. 497-516. Андриенко А.В. Смоленские тропы А.Р. Беляева. Публикации А.Р. Беляева в газете «Смоленский вестник» (1907-1914) // Библиография. — 2012. — № 3. — С. 147-152. Андриенко А.В. Неизвестный Александр Беляев. Театральные заметки. Пьеса. — Иерусалим: Млечный Путь. — 294 с. — ISBN 965-7546-28-4. Балабуха А., Бритиков. А. Три жизни Александра Беляева (Критико-биографический очерк) // Беляев А. Р. Собрание сочинений в 5 томах. — Л.: Детская литература, 1983. — Т. 1. — С. 7-32. Бар-Селла З. Александр Беляев. — М.: Молодая гвардия, 2013. — 432 с. — (Жизнь замечательных людей). — ISBN 978-5-235-03614-7. Беляева С.А. Мой отец — фантаст Беляев // Нева. — 1998. — № 3. — С. 248-251. https://www.liveinternet.ru/community/cam...
|
|
|
 облако тэгов
облако тэгов