| |
| Статья написана 15 августа 2017 г. 14:51 |
Учёный, один из основоположников и теоретиков космонавтики, специалист в области прикладной механики, доктор технических наук honoris causa (без защиты диссертации) АН СССР (1965), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1965).
Родился Арий-Яаков Штернфельд 1 мая 1905 года в старинном городке Серадз (Польша), неподалеку от Лодзи. Отец, Авраам Штернфельд, торговец мукой, по семейному преданию, вел свой род от выдающегося еврейского теолога и философа Маймонида (1135-1204). Он хотел воспитать единственного сына (в семье было еще трое дочерей) в религиозном духе, видел в нем раввина. Но Арий с раннего детства проявил большие способности в области гуманитарных наук, а также в технике. Мечта же о полетах в межзвездное пространство зародилась у него в 1914 году накануне Первой мировой войны, когда он впервые увидел пролетавший над городом немецкий дирижабль. Сама фамилия словно бы предопределила смысл всей его жизни: «Звездное поле» – вот что означает в переводе с немецкого/с идиша «Штернфельд» (штерн – звезда, фельд – поле). В 1915 г. семья переехала в Лодзь, и Штернфельд, обучавшийся ранее в хедере, пошел учиться, вопреки намерениям отца, не в иешиву, а в еврейскую гимназию. По окончании гимназии в 1923 г. поступил на философский факультет Ягеллонского университета в Кракове, но через год из-за антисемитской политики властей вынужден был оставить университет и уехал из Польши. В 1927 г. окончил Электромеханический институт при университете города Нанси (Франция), работал инженером на промышленных предприятиях Парижа, некоторое время – на автомобильном заводе Рено. Изобретения Штернфельда (главным образом по автоматике) использовались в различных областях техники – от машиностроения до производства искусственных алмазов, однако основным его увлечением стала теория космических полетов. Он выучил русский язык, чтобы читать в оригинале работы К. Циолковского, и вступил с ним в переписку. Докторская диссертация, над которой Штернфельд работал в Сорбонне, была посвящена расчетам орбит космических объектов. Представленные Штернфельдом в рамках этой работы научные доклады – «Траектории, позволяющие подлетать к определенному светилу со стартом с определенной кеплеровской орбиты» и «Метод определения траектории тела, движущегося в межпланетном пространстве, наблюдателем, связанным с движущейся системой» (оба – 1933 год) – были в том же году удостоены международной премии Эно-Пельтри – Гирша по астронавтике, однако ученый совет Сорбонны в 1934 г. отверг тему расчета космических орбит как фантастическую, и Штернфельд был вынужден на некоторое время вернуться в Лодзь, где продолжил свои исследования. Нараставшая в Европе угроза фашизма, особенно нацистский переворот в Германии, стимулировали прокоммунистические симпатии Штернфельда; их разделяла жена, Густава (Гитл) Штернфельд, член польской секции Французской компартии. В 1932 г. Штернфельд впервые по приглашению Наркомтяжпрома побывал в Москве для оформления проекта недавно изобретенного им робота-андроида, первоначально задуманного им для дистанционного выполнения опасных работ, и был очарован атмосферой индустриализации. Он горячо надеялся на реализацию в Советском Союзе – стране К. Циолковского – планов «завоевания космоса». В 1935 году Штернфельд, оставив весь свой архив у родителей в Лодзи и во избежании осложнений в польскими властями, с женой эмигрировали в Советский Союз, где через год принимает советское гражданство. Надо сказать, что это решение многие друзья ученого тогда сочли безумием. В Москве Штернфельд был принят на должность старшего инженера в Реактивный научно-исследовательский институт, в котором работали будущие академики С. П. Королев, В. П. Глушко, профессор Г. Э. Лангемак. Исследования Штернфельда были высоко оценены, предложенная им терминология определила будущий лексикон советской ракетно-космические техники. В русский язык вошли переведенные Г. Лангемаком с французских текстов Штернфельда слова «космонавт», «космонавтика» (заменившее существующие тогда «астронавтика» и «звездоплавание»), «космический полет», «космический корабль», «перегрузка», «скафандр» (из терминологии водолазного дела), «космодром» и др. В 1937 г. в Москве выходит переведенная с французского и дополненная новыми исследованиями книга Штернфельда «Введение в космонавтику», ставшая базовой работой космической индустрии в Советском Союзе (2-е издание вышло в 1974 г.). В 1937 году его увольняют из института «по сокращению штатов», его коллеги были репрессированы, а некоторые из них, в том числе и его друг Лангемак, – расстреляны. Его, как бывшего иностранца, да еще и с такой «неудобной» фамилией не принимали работать ни в один НИИ. Ему предлагали сменить фамилию на Звездин, но он отказался. Несмотря на все его хлопоты, в том числе обращение к Сталину, все последующие 43 года он фактически работал один, без сотрудников и помощников. Он зарабатывал на жизнь чтением лекций, писал и публиковал научные и научно-популярные книги и статьи, научно-фантастические рассказы, некоторое время преподавал физику и математику в техникуме, разрабатывал противопожарное оборудование. В начале 1941 Штернфельд получил известие, что его мать, отец, сёстры и все остальные родственники оказались заключенными в гетто в Лодзи, а затем перевезны в концлагерь «Komando Culmhof» в местности Хелмно на Нере во время «большой очистки» (3-12 сентября 1942) и там уничтожены, вероятно, в газовой камере. Дата до конца не выяснена, это был один из немногих транспортов, который не удалось найти в документах. Это известие усилило его депрессию. Он винил себя в том, что покинул своих родителей и ничего не предпринял для того, чтобы вовремя избавить их от наступающей опасности и спасти их от неизбежной смерти. Тогда же, в первые дни, он подал заявление, чтобы его взяли добровольцем, но его просьбу не удовлетворили. Военные годы провел в эвакуации на Урале (г. Серов), где преподавал в металлургическом техникуме. Семья Штернфельдов возвратилась в Москву в 1944 году. Вскоре его убеждения радикально изменились, и он несколько раз пытался легально выехать из Советского Союза. В 1946-м и 1956-м гг. Штернфельд просил разрешения вернуться в Польшу, ему оба раза было отказано; в 1957 г. разрешение он получил, но жизненные обстоятельства (отказ дочерей покинуть Советский Союз, получение долгожданной отдельной квартиры) вынудили Штернфельда отказаться от эмиграции, о чем он, по свидетельству близких, впоследствии сожалел. С начала космической эры Штернфельд как один из пионеров космонавтики получил мировое признание. После запуска первого советского спутника (1957) книга «Введение в космонавтику» была переведена на многие иностранные языки. Траектории запущенных в 1959–62 гг. советских и американских искусственных планет «Луна-1», «Венера-1», «Марс-1», «Пионер-4», «Пионер-5», «Рейнджер-3» базировались на расчетах, созданных Штернфельдом в коммуналке, где прошла добрая половина (почти 25 лет) его творческой жизни, пользуясь лишь арифмометром, таблицей логарифмов и логарифмической линейкой. Его избрали почетным профессором университета Нанси, Политехнического института Лотарингии (Франция), то же звание ему присвоила и Академия наук СССР; город Серадз (где Штернфельд родился) избрал его почетным гражданином. В 1962 г. Штернфельд (совместно с Юрием Гагариным и Аллой Масевич) был награжден Международной премией имени Галабера «за личный вклад в прогресс астронавтической науки и техники». В 1965 г. ему присвоили звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Научные и научно-популярные работы Штернфельда изданы на 36 языках в 39 странах. В 1958 году в Нью-Йорке издается сборник "Советские работы по искусственным спутникам и межпланетным полетам". 140 страниц сборника заняты переводом книги Ари Абрамовича, а на остальных 90 страницах приведены статьи 16 (!) других советских специалистов. В то же время власти знали о настроениях ученого и, оказывая ему почести, за границу не выпускали – даже для получения вышеупомянутой международной премии. Несмотря на высокое признание трудов Штернфельда в России и за рубежом, он не мог получить пенсию по возрасту, поскольку почти не состоял на государственной службе. Лишь вмешательство президента Академии наук СССР М. В. Келдыша решило «пенсионный» вопрос. Штернфельд был удостоен и посмертных почестей – его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве; в его честь на домах, где он жил (Москва, Серов, Серадз), установлены мемориальные доски, в г. Пыталово Псковской области народный музей космонавтики назван его именем, в Политехническом музее – мемориальный кабинет ученого. Именем Штернфельда названы кратер на обратной стороне Луны, улица в Лодзи, бульвар в городе Кирьят-Экрон близ Реховота, где с 1990 г. живет одна из дочерей Штернфельда с семьей. Его книги «Введение в космонавтику» (1937) и «Искусственные спутники Земли» (1956), выдержали более 80 изданий, переведены на 36 языков народов мира. Своими научно-популярными изданиями «Полет в мировое пространство» (1949), «Межпланетные полеты» (1956) и пр., научно-фантастическими очерками и рассказами А. Штернфельд пытался заглянуть в ближайшее будущее астронавтики, а описанные в них проекты, как бы они не были фантастичны, рассмотрены со строго научной точки зрения. http://archivsf.narod.ru/1905/ari_shternf... Работа над монографией «Initiation a la Cosmonautique» («Введение в космонавтику»). Польша, Лодзь, Варшава Ари Штернфельд, 1932 год Чтобы иметь возможность сконцентрироваться исключительно на продолжении расчётов и оформлении результатов своих исследований, Штернфельд в августе 1932 г. возвращается к родителям в Лодзь. Работать приходилось в тяжелых условиях, в маленькой полутёмной комнате. Требовалось проводить многочисленные вычисления. Но если в Париже Штернфельд пользовался для вычислений электрической счётной машинкой, то в Лодзи он с трудом достал единственную в городе семизначную таблицу логарифмов, а арифмометр по выходным выносил ему из заводской конторы знакомый бухгалтер. Тем не менее, через полтора года монография была закончена. Все 490 её страниц были отпечатаны сестрой Штернфельда — Франкой, которая впоследствии погибла в концлагере. Монография была написана на французском языке и называлась «Initiation à la Cosmonautique» («Введение в космонавтику»). Термин «космонавтика» не употреблялся в то время ни в русском, ни во французском языке. Ари Штернфельд ввел его, считая более точным, чем употреблявшиеся в то время термины «астронавтика» и «звездоплавание». В монографии была изложена совокупность проблем, связанных с завоеванием космоса. Многие вопросы были разработаны в ней впервые. «Это было первое систематическое изложение совокупности проблем, связанных с предстоящим завоеванием космоса, — от строения Солнечной системы до релятивистских эффектов при космических полётах.»[7]. Основные идеи, изложенные в монографии, Штернфельд доложил в Варшавском университете 6-ого декабря 1933 г. Доклад приняли довольно холодно. Космические полёты казались фантазией. Штернфельд пытался найти издателя для своей монографии, но безуспешно. О том, чтобы работать в Польше над проблемами космических полётов, нечего было и думать. goo.gl/JN35y7 http://alien3.livejournal.com/818242.html Штернфельд А. В конце https://fantlab.ru/edition116932 есть НФ рассказ с.128 — Вокруг света за 88 минут. Репортаж-фантастика. М. Наука. 1991 на с.148 — библиография: Основные труды А. Штернфельда Книги 1. Введение в космонавтику. М.; Л.: ОНТИ, 1937. 318 с. (2-е изд. см.: [10]). 2. Полет в мировое пространство. М.; Л.: Гостехиздат, 1949. 140 с. Пер. на яз.: арм., латыш., фр., португ., ит., серб.-хорв., чеш., яп., греч. 3. Межпланетные полеты. М.: Гостехтеориздат, 1955. 55 с. Пер. на яз.: нем., латыш., литов., груз., кирг., молд., татар., рум., венг., исп., бенг., дат., англ., исл., болг., эст., гол., араб., узб., маратхи. 4. Искусственные спутники Земли. М.: Гостехтеориздат, 1956. 180 с. Пер. на яз.; ит., пол., серб.-хорв., фин., яп. 5. От искусственных спутников к межпланетным полетам. М.: Гостехтеориздат, 1957. 126 с. (2-е изд. см.: [7]). Пер. на яз.: словен., англ., чеш., латыш., кит., татар., греч., словац., нем., кор., рум., ит., норв., болг. 6. Искусственные спутники. М.: Гостехтеориздат, 1958. 296 с. Пер. на яз.: чеш., англ., рум., нем., латыш., литов., арм., эст. 7. От искусственных спутников к межпланетным полетам. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Физматгиз, 1959. 204 с. (1-е изд. см. [5]). 8. Clovek pokoruje vesmir. Bratislava: Smena, 1960. 141 с. 9. Sladami kosmonautycznych koncepeji z lat 1929–1936. Szczecin: PWN, 1967. 58 с 10. Введение в космонавтику. 2-е изд. М.: Наука, 1974, 240 с. (1-е изд. см.: [1]). 11. Paradoksy kosmonautyki. Warszawa: LSW, 1987. 157 с. Научно-фантастические рассказы 1. Великое испытание: (Репортаж-фантастика) // Огонек. 1952. № 1. С. 25–26. 2. На малой Луне: (Репортаж-фантастика)//Огонек. 1952. № 2. С. 29–30. 3. «ЛК-3» летит на Луну!: (Репортаж-фантастика)//Огонек. 1952. № 47. С. 22–23. 4. Мертвая петля //Веч. Москва. 18 дек. 1954. 5. Рейс на Меркурий // Юность. 1955. № 3. С. 85–93. 6. Вокруг серебристого шара//Смена. 1955. № 5. С. 21–23. {148} 7. Полет на Марс: (Репортаж-фантастика) // Смена. 1956. № 14. С. 18–19. 8. Сквозь Землю в Космос//Вокруг света. 1961. № 1. С. 38–40. 9. SOS z Wenus. fantastyka naukowa//Ty i ja. 1961. С 42–45. I. Wywiad-fantazja. Wyprawa na Marsa//Problemy. 1961. N 9. С 612–617. 10. Путешествие по Центону//Техника–молодежи. 1976. № 4 С. 26–27. 11. На зов с Венеры // Техника–молодежи. 1987. № 10. С. 52–56. *** {139} Метеорит или космический корабль? Законы астронавтики Над разгадкой происхождения Тунгусского метеорита работают ученые разных специальностей. Недавняя экспедиция к месту его падения еще не подвела окончательных итогов своих исследований. Отвечая на вопрос читателей, я буду рассматривать гипотезу с астронавигационной точки зрения. Астронавтика, как любая другая наука, имеет свои определенные и непреложные законы. Откуда бы ни направлялся корабль в космический полет, он неизбежно следует тем же законам природы, которым подчинено движение Земли, других планет, их естественных и искусственных спутников. Нужно также учесть, что каждой траектории, соединяющей две планеты, а в данном случае Марс с Землей, соответствует определённая продолжительность в 63 км/с (мы не учитываем дополнительного возрастания скорости ракеты под действием поля тяготения нашей планеты). То же самое можно сказать и о кораблях, прибывающих на Землю с других планет, например с Венеры. Все это исключает возможность прилета на Землю космического корабля, движущегося «против течения». Мертвый сезон Среди догадок относительно происхождения Тунгусского метеорита очень заманчивой кажется гипотеза о том, что это был марсианский атомный корабль. Посмотрим, какова же была конфигурация интересующих нас планет в день взрыва в районе Подкаменной Тунгуски — 30 июня 1908 г. В этот день Марс находился почти в верхнем соединении, позади Солнца (рис. 1). Какие же маршруты могут в этом положении соединить Марс с Землей? Как долго и с какой скоростью могли лететь к нам марсиане? {140} Р и с. 1 Р и с. 2 Рассмотрим сначала особенности рейса Марс — Земля на таком корабле, которому требуется самая малая возможная стартовая скорость — примерно 5,5 км/с. Его маршрут представляет собой полуэллипс, касательный к орбитам Марса и Земли. Чтобы ракета могла коснуться земной орбиты в день падения Тунгусского метеорита, она должна была взлететь с Марса примерно за 259 сут до этой даты, т. е. 15 октября 1907 г., с противоположной точки По отношению к Солнцу. Но Марс находился тогда в том месте своей орбиты, откуда нельзя было бы проложить данный маршрут (рис. 2). Когда же могли прилететь марсиане? Как показывает расчет, следующий по этому маршруту корабль должен приземлиться спустя 96 сут после противостояния Марса. Противостояние Марса было 13 июля 1907 г. и 18 сентября 1909 г. В 1908 г. противостояния вообще не было. Таким образом, приземление марсианского корабля, описавшего полуэллипс в межпланетном пространстве, могло произойти лишь 18 октября 1907 г. или 24 декабря 1909 г! Имеются другие маршруты, полет по которым потребовал бы больше времени, чем полет по полуэллиптической {141} траектории. Но мы можем утверждать со всей уверенностью, что, если существуют разумные марсиане, они не стали бы выбирать ни одной из этих траекторий. В самом деле, выбор любой другой траектории с большей продолжительностью полета был бы оправдан лишь в том случае, если бы он требовал менее мощной ракеты, чем полет по полуэллиптической. В действительности же дело обстоит как раз наоборот: все эти рейсы требуют большей скорости, а значит, и более мощной ракеты. Но допустим, что марсиане с целью сокращения продолжительности перелета решили лететь по траектории, требующей большей взлетной скорости. Эта траектория может представлять собой дугу эллипса, касательную к орбите Марса и секущую орбиту Земли. Чем короче такая дуга, тем меньше длительность перелета. Самая короткая дуга превращается в прямую, соединяющую орбиту Земли и Марса по кратчайшему пути. На рис. 3 мы видим расположение планет, необходимое для осуществления такого перелета. Но, оказывается, для этого требуется, чтобы в день приземления корабля Марс находился примерно на 44,5° впереди Земли, на самом же деле он был 30 июня 1908 г. позади нашей планеты на 154°. Расчет показывает, что при полете по этой траектории приземление должно произойти на 97-е сутки до противостояния Марса, {142} Р и с. 4 т. е. 8 апреля 1907 г. или 14 июня 1909 г. Следовательно, выбрав такой маршрут, марсиане не могли прилететь к нам в день падения Тунгусского метеорита. Рассматривая все другие дуги такого типа, мы также убедимся, что в случае полета по ним марсианская ракета могла приземлиться с 8 апреля по 18 октября 1907 г. или между 14 июня и 24 декабря 1909 г. Итак, мы приходим к выводу, что марсиане не могли прилететь на Землю не только 30 июня 1908 г., но и вообще в любой день этого года. Но марсиане могли в конце концов лететь по третьему типу траекторий — эллиптическим, пересекающим орбиту их планеты и касательным к орбите Земли. И здесь, как и в предыдущем случае, чем меньше дуга эллипса, тем короче будет перелет. Проанализируем сначала полет по дуге, ось которой бесконечно длинна. Полет по ней длился бы всего 70 сут. В этом случае эллипс переходит в параболу. Если бы марсиане выбрали такую траекторию, то, как видно из рис. 4, это означало бы, что в день приземления их планета отставала от Земли всего на 35°. Фактически же она отставала намного больше. Перелет о Марса по параболической траектории должен закончиться на 77-е сутки после противостояния Марса — 28 сентября 1907 г. и 4 декабря 1909 г.,— но не в какой-либо другой день между этими датами. Спуск на Землю по другим дугам эллипса рассматриваемого типа мог производиться от 28 сентября до 18 октября 1907 г. или между 4 и 24 декабря 1909 г. Марс и Земля могут также быть соединены эллиптическими дугами, пересекающими одновременно их орбиты. {143} Однако и при полетах по таким траекториям периоды взлета и посадки ракеты не выходят за пределы указанных выше дат. Резюмируя результаты расчетов по всем видам эллиптических, параболической и прямой траекторий, мы приходим к заключению, что приземление могло состояться лишь в промежутки времени между 8 апреля и 18 октября 1907 г. или между 14 июня и 24 декабря 1909 г., таким образом, в случае выбора упомянутых траекторий исключается возможность спуска на Землю марсиан в день падения Тунгусского метеорита. А может быть, марсиане располагают столь высокой техникой, что они в состоянии осуществить экспедицию на Землю по другим, кроме рассмотренных нами, траекториям, срок полета по которым еще более короткий? Но посмотрите на рис. 3, изображающий конфигурацию планет 30 июня 1908 г. В день падения Тунгусского метеорита и за 40 дней до этого Марс находился почти на самом большом расстоянии от Земли. Трудно предполагать, что мыслящие существа избрали такой невыгодный момент для осуществления полета на Землю. Значительно более подходящей для такого путешествия являлась конфигурация планет летом 1907 или 1909 г. Из сказанного видно, что марсианский корабль не мог прилететь на Землю в течение всего периода времени с 18 октября 1907 г. по 14 июня 1909 г. 1908 год был мертвым сезоном для полетов с Марса на Землю. Гости с Венеры? Но, может быть, над тунгусской тайгой взорвался атомный корабль, прилетевший не с Марса, а с Венеры? Посмотрим, окажется ли 30 июня 1908 г. возможной датой для приземления венерианского корабля. Расчеты показывают, что 30 июня 1908 г. является не только возможным, но и самым благоприятным днем для приземления пришельцев с Венеры. В самом деле, в начале следующего месяца — 6 июля 1908 г.— Венера проходила через нижнее соединение (противостояние Земли по отношению к Венере). 30 июня расстояние между этими двумя планетами было почти минимальным и оставалось таким с небольшими колебаниями (менее 2%) до 11 июля. Так близко к Земле Венера не подходила не только в течение всего 1908 г., но и за весь период 1907—1909 гг. Таким образом, венериане {144} Р и с. 5 в течение шести дней могли бы с самого близкого расстояния поддерживать связь с прибывшими на Землю членами экспедиции. Приземлиться же 6 июля — в самый день нижнего соединения — было бы менее удобно, так как тут же после посадки экспедиции Венера начала бы удаляться от Земли. Кроме того, дата 30 июня 1908 г. была очень благоприятна для полета скоростной ракеты, отправившейся с Венеры. Как говорилось выше, при взлете космической ракеты с поверхности планеты может в большей или меньшей степени быть использована орбитальная скорость обращения самой планеты вокруг Солнца. Совершенно естественно, что, отправляясь в космическое путешествие, предполагаемые организаторы экспедиции избрали такой маршрут, при котором это движение планеты по возможности используется полностью. Для этого направление скорости взлета космической ракеты должно совпадать с направлением обращения самой Венеры. Единственно возможная траектория, отвечающая этим требованиям, изображена на рис. 5. Корабль мог отправиться 20 мая 1908 г., когда Земля находилась впереди Венеры на расстоянии 78,6 млн км. Его взлетная скорость должна быть равна 16,49 км/с. Имеются, правда, траектории, требующие меньшей взлетной скорости, но эти траектории неудобны: увеличивается не только продолжительность рейса, но и расстояние, {145} разделяющее на всем протяжении пути космический корабль от Венеры. Кроме того, в момент приземления корабля расположение обеих планет будет неблагоприятно не только для световой сигнализации, но и для радиосвязи. Возьмем для примера полуэллиптическую траекторию, требующую наименьшей скорости взлета с Венеры — 10,7 км/с. Длительность полета по этой траектории в 3,5 раза больше, чем по описанному выше маршруту, а расстояние Венеры от Земли в момент спуска корабля почти в 3 раза больше. Маршрут же, изображенный на рис. 5, представляет ряд удобств для членов экспедиции и для тех, кто следит за ее судьбой с поверхности Венеры. Исключительная близость к родной планете и к планете назначения на всем протяжении полета позволяла бы участникам экспедиции легко переговариваться с венерианскими радиостанциями, наблюдать обе планеты и таким образом проверять свое местонахождение. Радарообсерваториям на Венере, постоянно окутанной облаками, также легче следить за кораблем, летящим почти в том же направлении, что и Земля. Как видите, если исходить только из даты падения Тунгусского метеорита, траектория Венера—Земля может показаться очень заманчивой. Но не надо спешить делать вывод, что 30 июня 1908 г. потерпел крушение атомный корабль с Венеры. Чтобы убедиться в несостоятельности такого вывода, достаточно сравнить скорость вторжения Тунгусского метеорита в атмосферу Земли с теоретической скоростью прибытия на нашу планету ракеты с Венеры: они нисколько не совпадают. Установленная нашими астрономами скорость падения Тунгусского метеорита намного превосходит скорость предполагаемой венерианской ракеты. Тем самым исключается возможность и такого происхождения Тунгусского метеорита. Но, быть может, Тунгусский метеорит представлял собой ракету, прилетевшую к нам из более отдаленных звездных миров? О технике межзвездного полета нам пока почти ничего не известно. Этот раздел космонавтики находится в самом зачаточном состоянии. Знания, которыми мы располагаем в этой области, мало чем могут помочь разобраться в загадке Тунгусского метеорита. Рассуждать {146} о межзвездном полете — значит перейти от научной гипотезы к чистой фантастике. Есть еще один факт, который позволяет категорически утверждать, что Тунгусский метеорит вообще не мог представлять собой космического корабля, управляемого разумными существами. Вспомните начало статьи, где мы рассказывали о некоторых основных законах астронавтики. Откуда бы ни прибыл космический корабль на Землю, он должен двигаться в том же направлении, что сама планета, т. е. «по течению». Однако, как это неопровержимо установлено советскими учеными, Тунгусский метеорит вторгся в земную атмосферу под некоторым углом навстречу Земле, перемещаясь по небу с юго-востока на северо-запад. Таким образом, соблазнительная гипотеза о том, что Тунгусский метеорит является космическим кораблем, летевшим к нам с пришельцами других миров, оказывается несостоятельной. 1959 г.
|
| | |
| Статья написана 15 августа 2017 г. 14:30 |
Л. Успенский. Записки старого петербуржца ( лирическое интермеццо). Шаг третий, спаренный. 1925 год. Я – первокурсник этих самых ВГКИ при ГИИИ, студент. Студент тогдашний, не теперешний. Никаких стипендий; напротив – "плата за право учения". За посещаемостью лекций следить отнюдь не приходилось: не успевшие уплатить, лазали в аудитории со двора, по дворам и через окна. Девиц с большим удовольствием подавали туда же на руках. А у главных дверей монферрановского дома нелицеприятно следил за "непроходом" злонамеренных всем известный Иннокентий, весьма декоративный бывший бранд-майор, ныне – вахтер института.
"Обнаружишь в кармане, коль станешь мудрей, Часы прилива, недели отлива… Иннокентий же – вечно! – торчит у дверей… Несправедливо!" Так было напечатано в стенгазете курсов. Мы, студенты, напоминали тогда пушкинских воронов: "Ворон, где б нам пообедать, как бы нам о том проведать?" Шел нэп. Мы были бедны, как церковные крысы. И лишей, чем нам, приходилось, пожалуй, только просто безработным. Лев Александрович Рубинов, мой друг с семнадцатого года, был в те дни именно таким безработным. Лева Рубинов – необычный человек, как ранее уже говорилось. Жизнь его была подобна температурному графику лихорадочного больного. Он успел побывать уже и следователем ЧК, и прокурором, и одним из самых популярных в двадцатые годы петроградских ЧКЗ [49] – адвокатов; в начале Революции он возглавлял в Петрограде одно из значительных наркомпросовских учреждений того времени – я уже не могу сказать, как оно называлось – то ли Колдуч, то ли Комдуч. В тридцатых годах ему случалось работать экономистом и юрисконсультом на многих ленинградских предприятиях. Но как-то так получалось, что между двумя "высокими" должностями у него всегда пролегали периоды полной безработицы, случалось, довольно долгие. Я о нем уже рассказывал в главе об ОСУЗе. Так вот. Однажды, осенью 1925 года, безработный Лева Рубинов позвонил по телефону студенту Леве Успенскому. – Лева? – как всегда, не без некоторой иронической таинственности спросил он. – У тебя нет намерения разбогатеть? Есть вполне деловое предложение. Давай напишем детективный роман… Двадцать пять лет… Море по колено! Роман так роман, поэма так поэма, какая разница? – Давай, – сказал я. – Какая тема? – Первая глава уже есть. Помнишь, я жил три года в Баку? Если не возражаешь, дернем на бакинском материале, а? – На бакинском? Ну что ж, давай… Но тема, сюжет? – Скажу коротко… "Лондон, туман, огни…" В Лондоне (а хочешь – в Париже!) собрались, так сказать, акулы и гиены международного империализма. Они засылают группу диверсантов в Советский Союз. Цель – уничтожить три ведущие области нашей экономики: нефть, транспорт, уголь. Эн-Тэ-У… Каково заглавие, а, Лева? "Энтэу"!! – Так… Ну что же (в 1925 году в такой тематической заявке не чувствовалось еще пародийности) – ничего! А что дальше? – "Дальше, дальше"! – справедливо возмутился Лева Рубинов. – Дальше, брат, давай уж вместе выдумывать! …С той далекой поры я написал не один десяток книг, повестей, романов и рассказов. Случалось, они писались легче, случалось – труднее. Но всегда этот процесс меня устраивал, нравился мне, радовал меня. И все-таки за всю свою долгую литературную жизнь я ни разу не испытал такого удовольствия, такого, почти физического, наслаждения, как в те дни, когда мы вдвоем с Левой Рубиновым писали свой "детективный роман". 1925 год – не 1825-й: на гусином пере далеко не уедешь. Мы пошли на толчок и купили индустриальный феномен – машинку "Смис-Премьер", годом старше меня, 1899 года рождения. Машинка Ильфа и Петрова, как известно, обладала "турецким акцентом". Наша была подобна дореволюционному тоняге-гвардейцу [50]: она "не выговаривала ни одной буквы, кроме ижицы; ижицу же выговаривала невнятно". Но нам это нисколько не мешало. По ночам ("дневи довлеет злоба его"!), то у меня на квартире, то у Левы, уложив жен спать, мы приступали. Один, взъерошив волосы, как тигр в клетке, бегал по комнате и "творил". Другой – машинистка-блондинка – "перстами робкой ученицы" воплощал сотворенное в малоразборчивые строки. С тех пор я понял: сочинять много легче, нежели печатать, – машинистка просила подмены куда чаще, чем автор. Впрочем, у нее была двойная роль: свеже создаваемый текст, еще не попав на бумагу, уже редактировался. Вспыхивали несогласия, споры, дискуссии, только что не потасовки. Между мозгом автора и клавиатурой машинки каждое слово взвешивалось, критиковалось, браковалось, заменялось другим. Из наших предшественников – писателей мы если и могли кому позавидовать, то разве лишь Ретиф де ла Бретонну: он, как известно, имел типографию и "сочинял прямо на верстатку", сразу в набор. Но ведь он был один, бедняга! А мы… Если бы господь-бог попросил у меня консультации, как ему лучше устроить рай, я посоветовал бы ему разбить праведников на пары и заставить их писать детективные романы. Это – истинное, елисейское блаженство! Еще бы: никаких границ фантазии! Любая выдумка радостно приветствуется. Плевать на все мнения, кроме наших двух. Всякую придуманную малость можно поймать на лету и мять, тискать, шабрить, фуговать, обкатывать – "покеда вопрет", как говорят мои родные скобари. Сами себе мы ограничения ставили. Мы выдумали, что наш роман будут печатать выпусками. (Кто "будет"? Где "будет"? Неведомо, но – выпусками!) Выпуски мы считали разумным прерывать на полуслове; "Он шагнул в чернильный мрак, и…" И – конец выпуска; и, дорогой читатель, – становись в очередь за следующим! Ни разу нас не затруднило представить себе, что было там, "во мраке чернильной ночи": там всегда обнаруживалось нечто немыслимое. Мы обрушили из космоса на окрестности Баку радиоактивный метеорит. Мы заставили "банду некоего Брегадзе" охотиться за ним. Мы заперли весьма положительную сестру этого негодяя в несгораемый шкаф, а выручить ее оттуда поручили собаке. То была неслыханная собака: дог, зашитый в шкуру сенбернара, чтобы между этими двумя шкурами можно было переправлять за границу драгоценные камни и шифрованные донесения мерзавцев. При этом работали мы с такой яростью, что в одной из глав романа шерсть на спине этого пса дыбом встала от злости – шерсть на чужой шкуре! Все было нам нипочем, кроме одного: к концу "выпуска" мы обычно подходили с шекспировскими результатами. Все лежат мертвые… Но, в отличие от Шекспира, мы должны продолжать роман. Кое-кого мы наспех воскрешали; кое-кому давали дублеров… Приходилось будить одну из наших жен и привлекать ее к авторской "летучке": "Как же быть?" Мы старались как можно быстрее прожить день, в радостном сознании, что наступит ночь и – две пачки "Смычки" на столе, крепкий чай заварен – мы предадимся своему творческому исступления). Мне кажется, мы не возражали бы тогда, чтобы работа над романом продолжалась вечно. Пусть бы даже она не имела никаких материальных последствий – не все ли равно?! Нас это не заботило, мы об этом не слишком много думали. Но вот тут-то… И грянул гром. Азербайджанское Государственное Издательство предлагает ленинградским авторам заключение договоров на приключенческие романы (повести, рассказы) на азербайджанском материале. Обращаться к представителю изд-ва, Ленинград, ул. Некрасова, д. 11, кв. 2, первый этаж налево, от 6 до 8 часов вечера. – Нет, конечно, это не мне, – Леве, попалось на глаза такое объявление в "Красной газете". Я не поверил, даже увидев его: – Как ты умудрился это отпечатать?.. Ну, да! А почему тогда "приключенческий"? Почему именно – "на азербайджанском"? – Ты стремишься все это узнать? Ну так – едем сейчас же… Мы с тобой, разумеется, материалисты, но… По-видимому, все-таки "что-то есть", как говорят кроткие старушки… На реальном трамвае – "пятерке" с двумя красными огнями – мы прибыли к углу реальной улицы Некрасова и реальнейшего Эртелева переулка. За номер дома я не ручаюсь: может быть, он был и не одиннадцатым – огромный, старый краснокирпичный домина… В полупустой комнате первого этажа нас словно ожидали трое. Совершенно нэпманского вида, полный, в мягком костюме, смугловатый брюнет с усиками (теперь я сказал бы – "похожий на Марчелло Мастрояни") сидел за девственно пустынным столом. У окна восточного вида пухленькая пупочка, хорошенькая, как одалиска, поглаживала виноградными пальчиками клавиши молчаливой машинки. Небритый забулдыга – сторож или завхоз – на грубой "кухонной" табуретке подпирал спиной внушительных размеров несгораемый шкаф у голой стены. – Я – Промышлянский! – "Мастрояни" произнес это так, как будто назвал фамилию Моргана или Рокфеллера. – Чем обязан? Он поразил нас своим газетным объявлением. Теперь мы намеревались поразить его. Несколько театральным жестом бывший адвокат Рубинов молча бросил на стол перед Промышлянским "Красную вечорку". – Ну, и?.. – скользнув по ней глазами, спросил представитель Азгосиздата. – Нам пришло в голову проверить солидность вашей фирмы, – холодно проговорил Лева. – Мы можем предложить вам роман. – Нас интересует только приключенческая литература! – Гражданин Промышлянский все еще пытался "чистить ногти перед ним". – Лева, дай закурить! – в мою сторону уронил Лева Рубинов. – Мы и предлагаем вам детективный роман. Ликбез мы прошли, товарищ Промысловский… Полномочный представитель поочередно вгляделся в нас обоих, потом потер пальцами нос: – В нашем объявлении, – Розочка, я не путаю? – как будто указано: "На азербайджанском матерьяле…" – Гражданин Перемышлевский! – независимо закуривая не какую-нибудь "Смычку", а толстую "Сафо", предусмотрительно купленную на углу Эртелева пять минут назад, очень вежливо сказал опытный юрист Рубинов. – Если бы мы написали роман на кабардино-балкарском материале, мы, к величайшему нашему сожалению, не имели бы удовольствия встретиться с вами. Этого Промышлянский явно не ожидал. – Розочка, вы слышите? Роман на нашем матерьяле! Очень интересно! Беда лишь в том, что у меня твердое указание свыше вступать в соглашения лишь с теми авторами, каковые могут до заключения договора представить не менее двух законченных глав. Простак, простак! Неужели же мы этого не предусмотрели? – Лева! – обратился Лева Рубинов ко мне. – Сколько ты главок захватил? – Одиннадцать! – глухо ответил я, возясь с пряжками моего дореволюционного министерского портфеля. – С первой по седьмую и с двадцатой по двадцать третью… Гражданин Промышлянский развел руками. Что ему оставалось сказать? На сей раз мы удивили его. Уже с явным интересом он листал нашу писанину, велел Розочке уложить ее в папку с тесемками и папку спрятать в "сейф". Попрощались мы вполне доброжелательно… К огорчению моему, я вынужден тут же признать: к концу дистанции выигрыш остался не за нами. Раза четыре – каждый раз в заново "пролонгируемые" сроки – наведывались мы на Некрасова, 11. Увы, технические неполадки: Баку так далеко… Все такие пустяки, мелкие формальности! – оттягивали вожделенный миг подписания договора. Мы стали уже как бы своими людьми в Азербайджане. Босс и Лева теперь беседовали как двое бакинских старожилов. Они обсуждали качество вина "матраса" и вкус чуреков, которые пекут в переулочках за Кыз-Кала. Душечка Розочка делала нам ширваншахские глазки. Небритый пропойца сторож жадно смотрел уж не на "Сафо", а даже на "Стеньку Разина"… А на пятый раз мы только его и обнаружили в конторе. – А хозяева где? – Тю-тю наши хозяева, ребята! – с веселым отчаянием махнул он рукой. – С той пятницы – ни слуху, ни духу. И зарплата мне за месяц не доплачена. Завтра иду в милицию, заявление делать: ключи-то у меня. Ответственность! – Как? – удивился Лева Рубинов. – А Розочка? – И Розочку – трам-тарарам! – с собой уволок, гад мягкий! Розочку-то он нам с тобой как хошь не оставит… Что нам было делать? Конечно, юрист Лева начал с проектов вчинения иска, с намерения вывести аферистов на чистую воду. Но, обдумав, мы развели руками. Мы неясно представляли себе основное юридическое – куи интерэст? Кому это выгодно? Что он взял с нас (а может быть, и с других?), Промышлянский? Плохо читаемый экземпляр рукописи, притом явно не единственный… Что можем выиграть мы? Да еще в Баку ехать на суд… "Плюнем, Лева?!" – "Да пожалуй, Лева, плюнуть и придется". И мы плюнули. Но не совсем. Мы отомстили. По-своему. Литературно. Мы ввели в роман совершенно новое лицо – мерзкого бакинского нэпмана Промышлянского. Мы придали ему даму сердца по имени Розочка. Мы заставили его при помощи нечистых махинаций построить себе в Баку отличный нэповский домик. А затем мы загнали под ванную комнату этого дома кусок радиоактивного метеорита "Энтэу" так, что он застрял там прямо под водопроводными трубами. Вода в них нагрелась до + 79-ти, и нэпман, сев в ванну, пострадал очень сильно… Кто не верит, пусть читает роман "Запах лимона". "Запах лимона" Невозможно рассказать всю историю нашей рукописи, – пришлось бы написать еще одну приключенческую повесть. Но вот, пожалуйста: Лев Рубус "Запах лимона" Изд. "Космос" Харьков "Лев Рубус" – это мы, два Льва: один – РУБинов, другой – УСпенский. "Запах лимона" – иначе "Цитрон дабл-Ю-пять" – это то же, что "НТУ", то же, что "Минаретская, пять", если следить по разным каталогам частного издательства этого. Почему "Космос" и Харьков? Потому что были на свете два Вольфсона, два нэповских книгоиздателя. Ленинградский Вольфсон – "Мысль" и харьковский Вольфсон – "Космос". Кем они приходились друг другу – братьями, кузенами или дядей и племянником, – я не знаю. Но – приходились. Харьковский Вольфсон издал этот детективный "Запах" потому, что ленинградский Вольфсон не нашел возможности его издать. Нет, он принял от нас рукопись. Как полагается, он послал ее по инстанциям. Инстанции не торопились, но это нас не удивляло: нас к этому приуготовили. Но вот однажды на моей службе в Комвузе (учась, я работал в Комвузе, как это ни удивительно, – "художником"; рисовать я ни тогда, ни когда-либо не умел) меня вызвали к телефону. Незнакомый, сухо-вежливый голос попросил меня "завтра к 10 часам утра прибыть к товарищу Новику на улицу Дзержинского, 4". Каждый ленинградец тогда понимал, что "Дзержинского, 4" – это то же самое, что "Гороховая, 2". Выражение лица у меня, безусловно, стало неопределенным. – И будьте добры, – добавил, однако, голос, – сообщите мне, как я могу связаться с товарищем… С товарищем Рубиновым, Львом Александровичем?.. Ах, так? Благодарю вас! Морщины на моем челе, несомненно, приразгладились: двоих нас могли приглашать вроде бы как по одному-единственному делу. Но почему – туда? Назавтра, несколько раньше срока, мы уже сидели на одной из лестничных площадок большого этого дома, на стоявшей там почему-то садового типа чугунной скамье. Против нас была аккуратно обитая клеенкой дверь и на ней табличка: "Новик". Товарищ Новик, однако, нас не принял. Высокая и красивая блондинка, выйдя из этой двери, сообщила нам: – Товарищ Новик просил меня провести вас к Нач-Кро. Мы быстро посмотрели друг на друга. "Кро"? "К" + "Р" могли означать "контрреволюция". А что такое "О"? Идя вслед за нашей проводницей по бесконечным коридорам, мы пытливо вглядывались в надписи на дверях. Наконец слабый лучик света забрезжил нам: "Контрразведывательный отдел"… Стало понятней, но не до конца. Мы-то при чем тут? Нас-то это с какой стороны касается – "Кро"? Нач-Кро приказал ввести нас к себе. Нач-Кро был высок, собран, обут в зеркально начищенные высокие сапоги. Во рту у него было столько золотых коронок, что при первом же слове он как бы изрыгнул на нас пламя. – Так-так-так! – проговорил весьма дружелюбно Нач-Кро, товарищ Ш., как значилось у него на двери кабинета. – Садитесь, друзья, садитесь… Это вы и есть Лев Рубус? Ну что ж, я читал ваш роман. Мне – понравилось. Мы скромно поклонились, – Знаете, и товарищ М. вас читал (он назвал очень известную в тогдашнем Ленинграде фамилию). Ему тоже понравилось. Отличный роман. Он может послужить нам как хорошее воспитательное средство… Леве Рубинову по его прошлому роду деятельности разговоры с начальниками такого ранга были много привычнее, чем мне. – Товарищ Ш.! – не без некоторой вкрадчивости вступил он в разговор. – Наша беда в том, что нам все говорят: "Понравилось", но никто не пишет: "Печа тать"… – А вам кажется – это можно напечатать? – посмотрел на нас товарищ Ш. – Да что вы, друзья мои! Давайте начистоту… Вы, как я понимаю, – странно, я вас представлял себе куда старше! – очевидно, много поработали… в нашей системе… Нет? Как так нет? А откуда же у вас тогда такое знание… разных тонкостей работы? Уж очень все у вас грамотно по нашей части… Но как же вы не понимаете: такая книга нуждается в тщательнейшей специальной редактуре. Как – зачем? В нашем деле далеко не все можно популяризовать по горячим следам. Сами того не замечая, вы можете разгласить урби эт орби (он так и сказал: "урби эт орби" [51]) сведения, которые оглашать преждевременно. Вы – чересчур осведомленные люди, а нам в печати надлежит быть крайне сдержанными… Я смотрел на него в упор и ничего не понимал. – Товарищ Ш! – решился я наконец. – Про что вы говорите? В чем мы "осведомлены"? Где это проявилось? Я, скажем, никогда к вашей системе и на километр не приближался… – В чем проявилось? – переспросил Нач-Кро.– Да хотя бы вот в чем. Откуда вам стало известно, что "Интеллиджент-Сервис" в Лондоне помещается на Даунинг-стрит, четырнадцать? Как по команде, мы раскрыли рты и уставились друг на друга. – Лева, ты помнишь, как это получилось? – Конечно помню. Мы в твоем "Бедэкере" девятьсот седьмого года нашли адрес "Форин-оффис". Даунинг-стрит, десять… – Ну да. И ты сказал: "Значит, и "Интеллидженс неподалеку, верно? Сунем его на Даунинг-стрит, тринадцать". – А ты запротестовал: "Я не люблю нечетных чисел. Давай Даунинг, но четырнадцать…" Так и вышло… – Скажите на милость! – как-то двупланно удивился Нач-Кро. – Так вот: там как раз оно и помещается. Чем вы это объясните? – Сила творческого воображения… – осторожно предположил ужасно не любивший нечетных чисел Лева. – Гм-гм! – отозвался себе под нос товарищ Ш. -Гм-гм! В результате беседы было установлено: молодые авторы по совершенной своей невинности, силой творческого воображения несколько раз попали пальцем в небо, там, где этого совершенно не требовалось. Авторам этим нужна благожелательная помощь и советы. Поскольку их труд представляется в общем полезным, и то и другое им будет предоставлено. Нач-Кро поручит это дело компетентным товарищам, те сделают свои замечания, авторы их учтут, и… – И, пожалуйста, друзья мои, печатайте, издавайте, публикуйте. Очень рады будем прочесть. С Гороховой мы летели окрыленные; Нач-Кро пленил нас: остроумный, иронический, благожелательный товарищ… Urbi et orbi! Мы и впоследствии остались о нашем визите на улицу Дзержинского при самых лучших воспоминаниях. Правда, нас туда больше не приглашали, а сами мы напоминать о себе считали как-то не слишком скромным. Мы отлично понимали: и у Кро, у его начальника в том году, как и во все иные годы, было немало дел посерьезнее нашего. Перестали мы тревожить и Вольфсона-ленинградского: мы не были уверены, как на него повлияет наш правдивый рассказ, если мы перед ним с этим рассказом выступим. Но мы не учли одного – психологии издателя-частника. Вольфсон-"Мысль" не получил разрешения на наш "Запах" свыше и не счел нужным выяснять – почему? Но ему показалось неправильным упустить нас совершенно. И, не говоря нам ни слова, он послал нашу рукопись Вольфсону-харьковскому, "Космосу". Как действовал владелец "Космоса", нам ничего не известно: он нас об этом не известил. Но настал день, когда нам обоим на квартиры принесли, как бы свалившиеся с неба, увесистые тючки с авторскими экземплярами "Запаха". По двадцать пять штук со всеми его прелестями. С догом, на спине которого встает дыбом сенбернаровская шерсть. С нэпманом Промышлянским, подобно ракете вылетающим из нагретой радиоактивным Энтэу ванны. С Левиным "Лондон. Туман. Огни" и моими научно-фантастическими бреднями… Книжка была невеличка, но ее брали нарасхват. Уже за одну обложку. На обложке была изображена шахматная доска, усыпанная цифрами и линиями шифровки. Был рядом раскрытый чемоданчик, из которого дождем падали какие-то не то отвертки, не то отмычки. Была и растопыренная рука в черной перчатке. Два пальца этой руки были отрублены, и с них стекала по обложке красная кровь бандита… А сверху было напечатано это самое: Лев Рубус, "Запах лимона"… Такой-то год. Почему – "такой-то"? Потому что роковым образом у меня не осталось теперь ни одного экземпляра нашего творения. И у Левы Рубинова тоже. И у наших знакомых и друзей. Ни единого. Habent sua fata libelia! [52] В Публичной библиотеке перед войной был один экземпляр. А теперь, по-видимому, и его стащили. Лет десять назад один старый товарищ подарил мне дефектный "Запах" – без двух страниц; как я радовался! Но ребята, соученики сына, свистнули у меня этот дареный уникум: "Лев Рубус"! Они даже не знали, что это – мое! Меня это огорчает и не огорчает. Огорчает потому, что хотелось бы, конечно, иметь на своей полке такую библиографическую редкость. Радует, ибо перечтя свой роман в пятидесятых годах, я закрутил носом. Я подумал: "Молчание! Хорошо, что этого никто не знает!" Потому что Овсянико-Куликовский и Арсеньев явно недостаточно притормозили меня в девятьсот шестнадцатом. До того же бульварное чтиво – сил никаких нет! Но все-таки есть причина, по которой у меня сохраняется к этой книжонке нежность. Не напиши ее мы с Левой, неизвестно еще: пришла ли бы мне когда-нибудь в голову идея заняться занимательной лингвистикой? Додумался ли бы я до "Слова о словах"? Какая между тем и другим связь? Вот это уж предмет другого, и тоже довольно длинного, разговора. Я тут – на третьем, и последнем, из моих "первых шагов" – останавливаюсь. Потому что дальше пошли уже не "первые", а "вторые" шаги. Их тоже было немало. *** Л. Успенский. По закону буквы. Эту историю я рассказываю не в первый раз: мне она доставляет удовольствие. Мало сказать "удовольствие". Именно потому, что она случилась в 1927 году, я в 70-х годах являюсь писателем, пишущим о языке. Как так? В конце 20-х годов мы с приятелем вздумали написать авантюрный роман. Чтобы заинтересовать читателей, мы придумали ввести в него "зашифрованное письмо". Ввести так, чтобы оно 2196 было и зашифровано и расшифровано "у всех на глазах": уж чего увлекательнее! Письмо было написано: враги СССР, пробравшиеся из-за границы, извещали в нем друг друга, что надлежит уничтожить в пух и в прах три важнейшие отрасли хозяйства СССР: уголь, транспорт и нефть. Это-то письмо и надо было зашифровать. Я шифровать не умел, но мой друг делал это великолепно. Он предложил метод, при котором текст зашифровывается при помощи шахматной доски и заранее выбранной всем хорошо известной книги. Всюду легко добываемой. Допустим, вы выбрали бы Ломоносова, "Га и глаголь", и зашифровали свою записку по нему. Где нашел бы расшифровщик собрание сочинений Ломоносова? А стихи Пушкина всегда легко достать. Мы выбрали средней известности стихотворение: балладу "Русалка". Не пьесу, а балладу, имейте в виду... Мой друг, мастер шифрованья, взял у меня старенький, еще дореволюционный томик Пушкина и отправился домой с тем, чтобы к утру по телефону продиктовать результат. Но позвонил он мне еще тем же вечером. "Да, видишь, Лева, какая чепуха... Не шифруется по этим стихам... Ну, слово "нефть" не шифруется: в "Русалке" нет буквы "эф"... Как быть? -- Подумаешь, проблема! -- легкомысленно ответил я. -- Да возьми любое другое стихотворение, "Песнь о вещем Олеге", и валяй... Мы повесили трубки. Но назавтра он позвонил мне ни свет ни заря: -- Лева, знаешь, в "Песни о вещем..." тоже нет "эф"... -- Ни одного? -- удивился я. 2197 -- Ни единственного! -- не без злорадства ответил он. -- Что предлагаешь делать? -- Ну я не знаю... У тебя какие-нибудь поэты есть? Лермонтов? Крылов? Ну возьми "Когда волнуется...". Или "Ворона и лисица"... Нам-то не все ли равно? В трубке щелкнуло, но ненадолго. Через час я уже знал; ни в "Желтеющей ниве", ни в "Вороне взгромоздясь" букву Ф найти не удавалось... Вчера можно было еще допустить, что Пушкин страдал странной болезнью -- "эф-фобией". Сегодня обнаружилось, что и прочие поэты первой половины XIX века были заражены ею... Не представляя себе, чем это можно объяснить, я все же сказал: -- Знаешь, возьмем вещь покрупнее... Ну хоть "Полтаву", что ли? Там-то уж наверняка тысяч тридцать-сорок букв есть. При таком множестве весь алфавит должен обнаружиться... Мой покладистый шифровальщик согласился. Но через три дня он же позвонил мне уже на грани отчаяния: в большой поэме, занимавшей в моем однотомнике пятнадцать страниц в два столбца, страниц большого формата, ни одной буквы Ф он не нашел. Признаюсь, говоря словами классиков: "Пришибло старика!", хотя мне и было тогда всего 27 лет. Вполне доверяя своему соавтору, я все же решил проверить его и впервые в жизни проделал то, что потом повторял многократно: с карандашом в руках строку за строкой просчитал всю "Полтаву" и... И никак не мог найти Ф среди тысячи, двух тысяч ее собратьев... Это было тем удивительнее, что ближайших соседок Ф по месту в алфавите -- У, X, Ц, Ч -- не таких уж 2198 "поминутных, повсесловных букв" -- находилось сколько угодно. Первые 50 строк поэмы. В них: X -- 6 штук, Ц -- 4, Ч -- 4. А уж букв У так и вообще 20 штук, по одной на каждые 2,25 строчки. Правда, "у" -- гласный звук, может быть, с ними иначе. Но и согласных... Если букв X в 50 строках 6, то в 1500 строках всей поэмы их можно ожидать (понятия "частотность букв в тексте" тогда не существовало, до его появления оставалось лет двадцать, если не больше), ну, штук 160-- 200... Около 120 Ц, столько же -- Ч... Почему же Ф у нас получается ноль раз? Не буду искусственно нагнетать возбуждение: это не детектив. Мой друг ошибся, хоть и на ничтожную величину. Он пропустил в тексте "Полтавы" три Ф. Пропустил их совершенно законно. Возьмите "Полтаву" и смотрите. На 378-й строке песни I вам встретится словосочетание: "Слагают цыфр универсалов", то есть гетманские чиновники "шифруют послания". Вот это Ф мой друг пропустил непростительно: недоглядел. А два других Ф были совсем не Ф. 50-я строка песни III гласит: "Гремит анафема в соборах"; 20-я строчка от конца поэмы почти слово в слово повторяет ее: "...анафемой доныне, грозя, гремит о нем собор". Но беда в том, что в дореволюционном издании слово "анафема" писалось не через Ф, а через Ѳ, и друг мой, ищучи Ф не на слух, а глазами, непроизвольно пропустил эти две "фиты". Осуждать его за это было невозможно: я, подстегиваемый спортивным интересом, и то обнаружил эту единственную букву Ф среди 33 тысяч других букв при втором, третьем прочтении текста. Обнаружил, но отнюдь не вскричал 2199 "Эврика!" Одно Ф приходится на 33 тысячи букв. Это немногим проще, чем если бы его вовсе не оказалось. Что это за "белая ворона", это Ф? Что за редкостнейший бриллиант? Что за буква-изгой, почему она подвергнута чуть ли не удалению из алфавитного строя? Вы не додумались до решения? Хорошо бы, если бы кто-либо из вас -- ну хоть десять из ста читателей -- взяли в руки том Пушкина, развернули его на "Борисе Годунове" и прошлись бы по нему с карандашиком в поисках буквы Ф. Тогда бы обнаружилось вот что. В народных и "простонародных" сценах трагедии -- в "Корчме на литовской границе" или там, где боярин Пушкин, "окруженный народом", идет мимо Лобного места, -- вы ни одного Ф не увидели бы. Но, оторвавшись от этой "земли", вознесшись, скажем, в "Царские палаты", вы углядели бы, как царевич Федор чертит геограФическую карту и как порФира вот-вот готова упасть с плеч истерзанного страхом и совестью Бориса. Три Ф! Перемеситесь в помещичий, ясновельможный сад Вишневецких, и над вами тотчас расплещется жемчужный Фонтан. На "Равнине близь Новгорода Северского" русские воины говорят по-русски -- и ни одного "ф" нет в их репликах, а вот командиры-иностранцы роняют их одно за другим. Пять раз произносит звук "ф" француз Маржерет (один раз даже зря: фамилию "Басманов" он выговаривает с "ф" на конце). И немец Розен восклицает: "Hilf gott". И это совершенно законно: русский язык не знает звука "ф" одновременно и чисто русского, и выражаемого буквой Ф. Вот так: не знает! 2200 Мы постоянно произносим "ф", но пишем на этом месте В: "всегда", "в слове". Мы должны были бы писать "фторой", "крофь", но звук "ф" во всех этих случаях выступает под маской буквы В. Не надо думать, что он тут какой-то "фальшивый". Он ничуть не хуже любого "ф", выраженного этой буквой... Разница только в том, что по правилам нашего правописания, в котором сочетаются и фонетический, и морфологический, и исторический принципы, мы пишем В не только там, где слышим "в", но и там, где его должно ожидать по историческим и морфологическим причинам. "Федоров" -- потому что "Федорову", "в саду" -- так как "в зеленом саду" или "в осеннем саду"... Имя Пров мы пишем через В, а не через Ф лишь потому, что оно произошло от латинского слова probus -- чистый, а из латинского В русское Ф получиться не может. Вот почему буква Ф стоит у нас почти исключительно там, где налицо нерусского происхождения (хотя, возможно, и давным-давно обрусевшее) слово. Фагот -- из итальянского fagotto -- связка. Фагоцит -- греческое -- пожирающий клетки. Фаза -- из греческого "фазис" -- появление. Фазан -- греческое -- птица с реки Фазис (теперь -- р. Рион). Это слова с Ф в начале. А с Ф в конце? Эльф -- немецкое -- дух воздуха. Гольф -- английское -- игра в мяч. Сильф -- греческое -- мотылек, фантастическое существо. 2201 Шельф -- английское -- мелководное прибрежье океанского дна. Буфф -- французское -- комическое, забавное представление. Я не рыскал по словарям. Я взял слова почти подряд в любопытнейшем "Зеркальном словаре русского языка" Г. Бильфельдта. Вот слова с Ф внутри придется выбирать уже подряд, но среди слов, начинающихся на другую букву: Кафедра -- греческое -- седалище. Кафель -- немецкое -- изразец. Кафтан-- персидское -- род халата. Кафе -- французское -- ресторанчик... Словом, чисто русских слов с Ф в начале, середине или конце практически почти нет, не считая международного хождения междометий: "фу", "уф", "фи" и тому подобных. Теперь прояснилось, почему стихотворения наших поэтов-классиков так бедны буквой Ф, особенно в начале прошлого века? В те дни наша великая поэзия только рождалась; ее мастера гордились чисто русским, народным словом своим и по мере сил избегали засорять его лексикой салонной, светской, "франтовской"... "Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет..." -- писал Пушкин в "Евгении Онегине". До слов же научных дело еще не дошло... Помню, меня не на шутку поразило, когда мне открылось, что найденное нами "отсутствие" Ф в стихах Пушкина, Лермонтова и других тогдашних поэтов было не случайностью, а закономерностью. Каюсь, я сообразил это не сразу, хотя и был уже второкурсником филологического вуза. Навсегда запомнив, как 2202 удивила, как обрадовала меня подсмотренная случайно в языке законообразность, я и принял решение когда-нибудь в будущем начать писать книги по "Занимательному языкознанию". Та, которую вы держите в руках, уже шестая в их ряду. По-видимому, впечатление оказалось "долгоиграющим"... А ведь возникло оно от случайного наблюдения над единственной буквой. Я ввожу эту главку после столь длинной интермедии почти что только для соблюдения порядка. Что еще расскажешь? Самое необходимое. Ф нашей азбуки носило в кириллице задорное имя "ферт". В финикийской "праазбуке" знака для звука "ф" не было, в греческой письменности соответствующая литера именовалась просто "фи". Вот я сказал: "задорное имя". А почему задорное? Что оно означает? Среди этимологистов и по сей день на этот счет нет согласия. Допускают, но далеко не все, что слово "ферт" взято у греков, где "фюртэс" значило "нарушитель спокойствия, озорник". Малоубедительная этимология; тем более что другие названия славянским буквам либо просто измышлялись 2203 заново, уже на славянской почве, и таких большинство, либо же переносились сюда именно как наименования греческих букв, скажем, "фита". Слово "фюртэс", насколько мы знаем, греческой буквы не называло. Совсем неправдоподобны поиски общего между "фертом" и готским руническим именем "Пертра". Может быть, всего более похоже на истину допущение, что слово "ферт" за отсутствием славянских слов, начинающихся на этот звук, было выдумано, как говорится, ad hoc -- именно для этого случая и чисто звукоподражательно. Найдутся читатели, которые подумают: "Перемудрил автор! Чего ж проще: название буквы "ферт" произошло от слова "ферт", означающего франта. Говорят же "стоять фертом"? А "ферт", "фертик" у нас вполне употребительное и не слишком одобрительное выражение". Представьте себе: тут все с ног переставлено на голову. Именно этот "ферт II", как пишут в словарях, происходит от "ферт I", названия буквы. И первоначально, судя по всему, означало именно "подбоченившуюся, ручки в боки" фигурку, а потом уже и франтика, ще-голька, бального шаркуна, нахала... Вспомним народные и литературные употребления этого образа: "Станет фертом, ноги-то азом распялит!" -- ворчит кто-то из героев Мельникова-Печерского. "Там я барыней (танцем. -- Л. У.) пройдуся, фертом, в боки подо-пруся!" -- похваляется Бонапарт в одной народной песне, цитируемой Далем. Я успел рассказать о междоусобицах между "фертом" и "фитою", но уж очень красочно подтверждает все мною сказанное один из эпизодов "Очарованного странника" Н. Лескова. "-- А потом я на фиту попал, от того стало еще хуже. -- Как "на фиту"? -- ...Покровители... в адресный стол определили справщиком, а там у всякого справщика своя буква... Иные буквы есть очень хорошие, как, например, "буки", или "покой", или "како": много фамилий на них начинается, и есть справщику доход. А меня поставили на "фиту". Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще... кои ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят; кто хочет чуть благородиться, сейчас себя самовластно вместо "фиты" через "ферт" 2204 ставит. Ищешь-ищешь его под "фитою", а он -- под "фертом" себя проименовал". Как почти всегда у Лескова, тут нет никакого преувеличения. И сегодня можно тысячею способов удостовериться в неравномерном распределении слов, имен, фамилий, названий городов по буквам алфавита. В дни выборов к некоторым столам стоят все "од-нобуквенные" граждане за получением бюллетеней с фамилиями на О, на П, на К. А поодаль, на других столах, вы можете увидеть объявления с двумя-тремя, а то и четырьмя-пятью буквами: Ш, Щ, Э, Ю, Я. Сюда будут стоят и Шапкины, и Щегловы, и Эрдманы, и Ясеневы, и все-таки их очередь кончится скорее, чем очере-реди "Н... вых" или "К... ных". Пожалуй, на этом я и закончу разговор о букве Ф, о добром, старом "ферте" кириллицы. *** В. Бугров ...И ВЫДУМАЛИ САМИХ СЕБЯ! 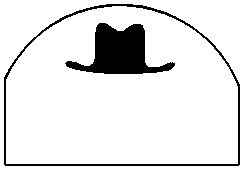
"...Истинное, елисейское блаженство!" Перед нами промелькнули далеко не все "лжеиностранцы" нашей фантастики двадцатых годов. За пределами этих сжатых заметок остался, к примеру, "Жорж Деларм", чей роман-памфлет "Дважды два — пять" (в переводе "с 700-го французского издания") выпустило в 1925 году ленинградское издательство "Новый век". Роман этот был снабжен сочувственным предисловием Юрия Слезкина, известного прозаика тех лет, книги которого небезынтересны и сегодня. (Такова, к примеру, его "Девушка с гор", где в лице одного из главных героев выведен молодой Михаил Булгаков.) На обложке второго издания романа — оно вышло в Госиздате в том же 1925 году под названием "Кто смеется последним" — Деларм, этот "претендент на Гонкуровскую премию", разоблачен более чем откровенно. Обложку пересекает красная размашистая надпись: "Подлог Ю. Слезкина"... Уместно здесь было бы, очевидно, вспомнить и о неумышленном превращении в иностранца, приключившемся в 1928 году с Александров Романовичем Беляевым: его рассказ "Сезам, откройся!!!", подписанный псевдонимом "А. Ром", был из "Всемирного следопыта" перепечатан другим популярным нашим журналом — ленинградским "Вокруг света" — уже как истинно переводной. При этом "А. Ром" превратился в "А. Роме", соответственно изменилось и название рассказа: "Электрический слуга". И в годовом оглавлении рассказ, естественно, попал в раздел "Повести и рассказы иностранных авторов"... Похоже, к "лжеиностранцам" же придется отнести и А. Наги: слишком не похож на перевод роман "Концессия на крыше мира", вышедший под этой фамилией в 1927 году в харьковском издательстве "Пролетарий". Другое харьковское издательство, "Космос", в том же 1927 году обнародовало — в переводе с... "американского" — беспардонно авантюрный "коллективный роман" двадцати писателей "Зеленые яблоки". Имена авторов были "честно" проставлены на обложке: Д. Лондон, М. Твен, Р. Стивенсон, С. Цвейг, Г. Уэллс, Э. Уоллес и другие. В роли переводчика с несуществующего языка выступал на этот раз малоизвестный ныне литератор двадцатых годов Николай Борисов. Наконец к этой же группе тяготеет и роман Льва Рубуса "Запах лимона", выпущенный в 1928 году тем же "Космосом". О том, как Лев Рубус и его книга появились на свет, рассказал Лев... Успенский. Рассказал очень непринужденно и увлекательно, настолько увлекательно, что на Льве Рубусе невозможно не остановиться несколько подробнее. Лев Александрович Рубинов (ну-ка, ну-ка: Лев Рубинов + Лев Успенский... = Лев Рубус?!), бывалый человек, успевший побывать и следователем ЧК, и прокурором, и популярным в Петрограде адвокатом — членом коллегии защитников, позвонил осенью 1925 года своему другу с семнадцатого двадцатипятилетнему студенту Льву Успенскому. "- Лева? — как всегда, не без некоторой иронической таинственности спросил он. — У тебя нет намерения разбогатеть? Есть вполне деловое предложение. Давай напишем детективный роман... Двадцать пять лет... Море по колено! Роман так роман, поэма так поэма, какая разница? — Давай, — сказал я..." И работа закипела... Роман был сделан на советском материале, и сделан по откровенно нехитрому рецепту. Сюжет "Запаха лимона" был запутан необычайно. Радиоактивный метеорит, обрушившийся на окрестности Баку. Банда демонически неуловимого "некоего Брегадзе", охотящегося за метеоритом. Бесчисленные убийства, погони, самые невероятные происшествия... Л. Успенский с особенным удовольствием вспоминал игравшую в романе заметную роль бандитскую собаку. "То была неслыханная собака: дог, зашитый в шкуру сенбернара, чтобы между этими двумя шкурами можно было переправлять за границу драгоценные камни и шифрованные донесения мерзавцев. При этом работали мы с такой яростью, что в одной из глав романа шерсть на спине этого пса дыбом встала от злости — шерсть на чужой шкуре!" И вот настал день, когда авторы увидели свое детище. (Я сознательно не останавливаюсь на всех перипетиях, предшествовавших торжественному моменту... Перипетии тоже были очень своеобразными; заинтересовавшихся отсылаю к "свидетелю": Успенский Л. Записки старого петербуржца. Лениздат, 1970, с. 331-346.) Детище выглядело более чем эффектно: "На обложке была изображена шахматная доска, усыпанная цифрами и линиями шифровки. Был рядом раскрытый чемоданчик, из которого дождем падали какие-то не то отвертки, не то отмычки. Была и растопыренная рука в черной перчатке. Два пальца этой руки были отрублены, и с них стекала по обложке красная кровь бандита..." Остается отметить, что неистовая эта пародия на книги "про шпионов" (массовое явление таких книг в нашей литературе пятидесятых годов отнюдь не было чем-то исключительно новым) писалась, как и следовало предполагать, с нескрываемым удовольствием. "Еще бы: никаких границ фантазии! — вспоминал Л. Успенский. — Любая выдумка радостно приветствуется. Плевать на все мнения, кроме наших двух. Всякую придуманную малость можно поймать на лету и мять, тискать, шабрить, фуговать, обкатывать... За всю свою долгую литературную жизнь я ни разу не испытал такого удовольствия, такого почти физического наслаждения..." Джим Доллар, Ренэ Каду, Пьер Дюмьель, Тео Эли, Рис Уильки Ли, Жорж Деларм, Лев Рубус... За исключением Тео Эли, на каждом из этих придуманных лиц — недвусмысленная улыбка. Еще бы, ведь читатель, всерьез поверивший в их существование, тем самым дал изловить себя на крючок талантливой литературной мистификации! Конечно, не все "поддельные романы" двадцатых годов выдержали проверку временем: слишком многое в них было сиюминутным и потому условным, откровенно схематичным. Но как своеобразное явление бурного послереволюционного десятилетия эти книги, безусловно, представляют определенный интерес и для современного советского читателя. Трудно сказать, что заставляло наших авторов скрываться за псевдонимами, создавать "поддельные романы". Наверное, единого ответа тут нет и быть не может: у каждого были свои соображения. Однако на одну из причин, думается, указать можно. В двадцатые годы наш книжный рынок был буквально захлестнут потоком переводной беллетристики, — чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть каталог любой из книжных баз того времени. В этом потоке произведения действительно стоящие попросту терялись среди изобилия переводного бульварного чтива. Общий низкий уровень этого чтива не мог не вызвать естественного протеста у людей, знакомых с классикой. И вот, пародируя западный приключенческий роман, наши авторы тем самым протестовали против засилья книг низкопробных, заведомо халтурных... "Не забудьте, что это пародия. Месс-Менд пародирует западноевропейскую форму авантюрного романа, пародирует, а не подражает ей..." — писала Мариэтта Шагинян в цитированной нами брошюре. М. Шагинян, естественно, говорила о своих романах. Но ее слова могли бы повторить и О. Савич с В. Пиотровским, и С. Заяицкий, и Б. Липатов, и Ю. Слезкин, и Л. Успенский с Л. Рубиновым... http://www.fandom.ru/about_fan/bugrov_10_...
|
| | |
| Статья написана 15 августа 2017 г. 14:23 |
Светлой памяти сына Васи, студента-филолога в 1948 году Лилипуты и струльбруги Когда вы в наши дни читаете цирковую афишу о «Выступлении труппы лилипутов», вам и в голову не приходит задать себе вопрос: а откуда взялось в языке это странное слово — «лилипут»? Вам оно кажется совершенно таким же «обычным» словом, как «карлик», «пигмей», «гном» и т. п. Между тем хотя у каждого из утих слов свое, и даже очень интересное, происхождение, но «лилипут» отличается от них всех. Это одно из тех редчайших слов человеческой речи, про которое можно положительно и наверняка утверждать, что оно «создано из ничего», просто выдумано. И выдумано притом совершенно определенным, всем известным человеком, с определенной — и тоже всем хорошо известной — целью.
В 1727 году впервые вышла в свет в Англии знаменитая доныне сатира —книга Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Автор среди прочих фантастических чудес описывал в ней сказочную страну, населенную крошечными, с мизинец, человечками, которым он придал племенное имя «лилипуты». Свифт вовсе не собирался вводить в английский язык новое слово, которое обозначало бы «карлик», «гном» или «пигмеи». Он просто нарисовал народец-крошку, людей которого звали «лилипутами», так, как англичан англичанами, а немцев немцами. Но сделал он это с такой силой и правдоподобием» что в устах каждого читателя книги вскоре слово «.чили-пут» стало само по себе применяться ко всем маленьким, малорослым людям. А постепенно — и не в одном английском языке только—оно просто начало значить то же самое, что и «карлик». Можно сказать наверняка: сейчас в мире несравнен-но больше людей, которые помнят и постоянно применяют слово «лилипут», чем таких, которые знают Свифта и его книгу. Слово это ушло из книги и зажило самостоятельной жизнью. И, пожалуй, у нас, в нашем языке, да, как мне сообщил один читатель этой книги, у венгров, эта самостоятельность его даже особенно заметна. В английском «лнллииьюшн» (lilliputian) и во французском «лиллнпюсьен» (lilfiputien) всё-таки еще чувствуется значение «лилипутиец» — житель «Лилипутии». А в русском языке эта связь давно исчезла. У нас «лилипут» — недоросток, малютка, и только. Откуда Свифт взял такое причудливое слово? Об этом можно только гадать. Правда, было несколько попыток сообразить, что он мог положить в его основу, но твердо установить ничего не удалось. По-виднмому, самые звуки этого слова показались ему подходящими для имени таких людей-крошек, каких он себе представлял. * Поверить же тому, что он просто переделал на свой лад английское слово «литтл» — «маленький» — крайне трудно. Это ничуть не более вероятно, чем предположить, будто он составил свое слово из перековерканного предложения «ту пут ин лили», «засовывать в лилию», намекая на крошечный размер своих человечков. Это всё досужие домыслы. Вот рядом с лилипутами в книге Свифта действуют * Стоит указать всё же, что в шведском языке (а с ним Свифт был. вероятно, отчасти знаком) есть слова lilla (мэлышка-девочка). lille (маліш-мальчик) и putte, puttifnasker — «младенец, крошка». еще и люди-лошади: так их название — «гуигнгнмы» — является уже явным подражанием лошадиному ржанию. Но следует отметить одно: ни трудно произносимое слово «гуигнгим», ни название страны великанов «бробдингнег», ни странное имя «струльбруги», приданное Свифтом несчастным и противным бессмертным старикам в другой из выдуманных им стран, не сделались самостоятельными словами. Читатели Свифта помнят их и иногда, может быть, применяют в переносном значении. Однако, увидев человека высокого роста, нельзя просто сказать: «Вот. смотрите, какой бробдингнег идет»: вас не поймет никто. Назвав древнего старца «струльбругом», вам придется объяснить, что это значит. А слово «лилипут» ни в каких объяснениях не нуждается: его понимают все. Языки мира приняли только одно из всех изобретенных Свифтом слоя. Видно, творить новые слова—далеко не простое занятие, потому что составить из звуков нашей речи то или другое сочетание и придать ему какое-либо значение — это еше даже не полдела. Самое важное — чтобы язык и народ приняли всё это соединение звуков и смысла, утвердили, начали употреблять и понимать и, таким образом, ввели бы пновь созданное звукосочетание в словарный состав языка, сделали его словом. *** изменчивый и непостоянный. Они обогатили и самую заповедную, самую глубокую, самую «вечную» часть этого состава —его «ядро», которое состоит из «корневых слон». Это случается крайне редко.* Гораздо чаще новые слова языка, его неологизмы, возникают другим, более простым способом. Л именно: их производят от тех древних корней, которые издавна жили в языке. В огромном большинстве случаев остается неизвестным, кто, как, когда и где первым сказал то или другое слово, хотя любое из слов языка когда-нибудь да-было произнесено в п е р в ы й раз. Мы ^наем, что слова «столяр» и «столешница» родились от слова-кдрня «стол». Но, разумеется, даже они не могли возникнуть сразу в головах тысячи или хотя бы сотни люден. Кто-то их придумал первым. Мы только никогда не узибсм, кто именно. Установить это можно лишь в тех случаях, когда по каким-нибудь причинам их рождение было сразу же замечено или следы этого сохранились в каких-то записях. Слово «тушь» (черная краска особого состава) известно в русском языке давно. Люди, работавшие с этой краской, также довольно давно начали употреблять и различные производные слова от этого слова-корня: «растушевка» (особый инструмент), «тушевать» • К словам, указанным выше, ученые добавляют еще несколько,— например, слово «кодак». Так в начале века назывались и фирма, производившая фотоаппараты, и сами эти аппараты. Вошло в употребление даже слово «кодакировать» вместо «фотографировать». Два близких к свифтовским слова-термина изобрел Г. Уэллс, разделивший людей далекого капиталистического будущего (Уэллс верит, что око возможно) на «алоев» и «чорлоков». «Морлокам» повезло: появился даже роман другого английского писателя о рудокопах, так и озаглавленный «Морлоки» (впрочем, так — «морлакн» или «морлоки» — именовалось когда-то одно из иллирийских племен). В последнее время на Западе появился целый ряд слов — «флопник» (неудача, крах), «битник» (стиляга), новых для англичан наполовину, так как все они построены на использовании русского суффикса «-ник», ставшего им знакомым по слозу «спутник». *** ...сравнивать даже и с нашими «корнями»: непонятно, что можно считать «корнем» растения, у которого вы не видите ни стебля, ни листьев, ни ветвей! Если уж нужно сравнение, слова такого языка можно уподобить «марсианам» Герберта Уэллса: у этих существ всё те-ло представляло собой голову; не было ни туловища, ни конечностей, ничего. Голова, и только! *** У английского романиста Уэллса есть фантастическое произведение: "Люди как боги". Несколько рядовых англичан -- все люди из среднего зажиточного класса -- удивительным образом попадают в фантастический мир будущего; там живут могущественные и мудрые "люди как боги". Они на много тысячелетий опередили Англию и всю Землю по развитию своей культуры. Радушно встречают люди-боги полудиких, по их мнению, "землян" с их нелепыми зловонными автомобилями, некрасивой одеждой и отсталым умом. Ученые людей-богов красноречиво объясняют пришельцам устройство и жизнь прекрасного, но чуждого "землянам" мира. Объясняют?! Позвольте, но как? Откуда же "люди-боги" могут знать язык англичан, которых они никогда не видели, или тем более откуда английские буржуа могли узнать их неведомый доселе язык? Одного из англичан, редактора журнала мистера Барнстэппла эта неожиданность поражает больше, чем все чудеса нового мира. Он задает недоуменный вопрос тамошнему ученому и получает от него еще более неожиданный ответ. Ученый говорит примерно так: "Напрасно вы думаете, что мы беседуем с вами на вашем языке. Мы и друг с другом давно уже перестали разговаривать, пользоваться для общения языком. Мы не употребляем слов, когда обмениваемся мыслями. Мы научились думать вслух. Я думаю, а мой собеседник читает мои мысли и понимает меня без слов; зачем же нам язык? А ведь мысли-то у всех народов мира одинаковы, различны только слова. Вот почему и вы понимаете нас, а мы вас: различие языков не может помешать этому..." Тютчев, Фет и их сторонники возрадовались бы, услыхав о такой возможности: в вымышленном Уэллсовом мире можно, оказывается, "сказываться душой, без слов". Все дело, значит, в развитии культуры: может быть, когда-нибудь и мы, люди, на самом деле дойдем до этого! *** Л. Успенский. "Ты и твоё имя" ВОЛЬКА ибн-АЛЁША Вы читали книжку писателя Лагина «Старик Хоттабыч»? Случилось чудо: школьник Костыльков открыл старую бутылку, и оттуда выскочил длиннобородый старец в пестром халате, — настоящий восточный джинн. Возникло некоторое замешательство; затем спасенный и спаситель приступили ко взаимному ознакомлению. Освобожденный дух отрекомендовался длинно и сложно. «Гассан-Абдуррахман-ибн-Хоттаб», — произнес он, стоя на коленях. Пионер Костыльков буркнул, наоборот, с излишней краткостью: «Волька!» Удивленному старцу этого показалось мало. «А имя счастливого отца твоего?» — спросил он. И, узнав, что отец у Вольки — Алеша, начал именовать своего новообретенного друга так: «Волька-ибн-Алеша». Даже глупец (а Волька-ибн-Алеша отнюдь не был глуп) сообразил бы после этого, что «ибн» по-арабски—«сын». И вполне естественно, если он стал звать своего собственного джинна «Хоттабычем»: «ибн-Хоттаб» — это «сын Хоттаба», а «сын Хоттаба» и есть «Хоттабыч». Логика безупречная! Так русский мальчишка и арабский джинн обменялись свойственными их языкам «патронимическими» обозначениями, — отчествами. Оба они были людьми сообразительными, но не вполне осведомленными, не лингвистами во всяком случае. Гассан Абдуррахман, например, не знал, что «Алеша» обозначает «Алексей» и что, кроме имени, у человека может быть еще и фамилия. А Волька Костыльков даже не подозревал высокого смысла тех арабских имен, которые он столь небрежно отбросил. Ведь «Гассан» — это нечто вроде «Красавчик», слово «Абдуррахман» пишется в три приема: «Абд-ур-рахман» и означает «раб Аллаха всемилостивого», а «Хоттаб» следует переводить как «ученый мудрец, способный читать священное писание». Однако дело не в этом; главное они поняли. И арабское «ибн» и русское «вич» имеют один и тот же смысл — значит «сын такого-то». Очевидно, отчества разного типа существуют не только в России; пользуются ими и другие народы. А зачем? Вообще говоря, это просто. Разве не почетнее иметь отца-летчика, чем сына-первоклассника, даже если этот первоклассник — семи пядей во лбу? Люди в простоте своей склонны думать, что у желудя больше оснований гордиться отцом-дубом, чем у дуба — чваниться сыном-желудем. Жильцы того московского дома, где жила семья Костыльковых, тоже, наверное, полагали, что скорее мальчишка Волька принадлежит своему почтенному отцу Алексею Ивановичу (или Владимировичу; неизвестно ведь, как его звали), чем наоборот. А так как подобные мысли приходили людям в голову везде и всюду, то и возник давным-давно обычай, обращаясь к сыну, дополнять его имя именем его отца, уважения ради: тебя-то, мол, мы еще не знаем, но авансом уважаем в тебе заслуги отца твоего. Вот почему «отчество» — очень распространенное явление. А если нам кажется порою, что это не так, то лишь потому, что не всегда и не везде его легко обнаружить: наряду с отчествами явными бывают другие, тайные; их не каждый умеет замечать. http://e-heritage.ru/ras/view/publication... https://fantlab.ru/edition99683 В 30-х годах, работая в детском журнале "Костер", я придумал литературную игру с читателями; она называлась "Купип" -- "Комитет удивительных путешествий и приключений". По ходу игры читатели-ребята должны были звонить в редакцию, номер телефона которой был 6-44-68. Мне не хотелось, чтобы мальчишки и девочки просто записали этот номер. Я придумал для них мнемоническую фразу-запоминалку: "На шесте (6) две сороки (44); шест и осень (68)". Художник нарисовал картинку: две сороки, мокнущие на шесте в вихре листопадного дождя. Не скажу, как запомнили редакционный телефон мои юные читатели, но я вот уже больше тридцати пяти лет могу "ответить" его, хоть разбуди меня ночью. "По закону буквы".
|
| | |
| Статья написана 15 августа 2017 г. 12:40 |
1 В последнее время мы стали как-то легко, с излишней щедростью, авансировать право различных тематических кругов художественной литературы на жанровую самостоятельность, на некую, слишком широко понимаемую, независимость и автаркию. Писатель переходит к новой теме, заинтересовывается нетронутым пластом материала, за ним вослед идут другие, и вот уже образовался новый «жанр», внутри которого якобы существуют свои законы, будто бы отличные от законов художественной литературы в целом. Общелитературные критерии по отношению к этому жанру являются неправомерными: помилуйте, это же совсем другое дело!
Есть художественная проза, огромное явление человеческой культуры. Ею управляют закономерности, отличающиеся от тех, которые действуют в области поэзии в узком смысле слова. Это понятно. И когда ставится вопрос об изучении, о спецификации языка поэзии в отличие от языка прозы, это представляется вполне естественным. Однако внутри царства художественной прозы также начинают намечаться многочисленные «отдельности»: приключенческая литература, литература научно-фантастическая, литература научно-художественная. И скоро оказывается, что каждый из этих «жанров», выделившихся из художественной прозы, узурпирует для себя право требовать особого подхода к нему. Вы указываете на неслаженность, на конструктивную рыхлость той или другой научно-художественной книги, а на вас машут руками: «Помилуйте, что вы! Вы подходите к ее конструкции с теми же требованиями, что к обычному роману или рассказу, а ведь это — особый «жанр»... У него свои, совсем другие законосообразности в области конструкции». Вы указываете на бедный, серый, сглаженный язык очередной повести о шпионах, а вам выкидывают тот же непокрываемый козырь: «Это особый жанр — авантюрная литература. К ней не применимы требования, к которым мы привыкли в других жанрах. У нее свой язык: то, что в других жанрах плохо, тут — очень хорошо». Не так давно в одной редакции на обсуждении очередной «научно-приключенческой» рукописи мне пришлось, говоря о полном отсутствии на вооружении автора художественного образа, о его то ли неумении, то ли нежелании «рисовать», делать вещественно зримыми и фигуры героев, и картины природы, — прибегнуть к цитате из другого авантюрного, уже без всякой научности произведения. Николай Панов в своей повести «В океане» сообщает, что, по приказу небезызвестного Гувера, подбирая своих агентов, ФБР прежде всего требует от них «стандартной внешности». Агент должен быть человеком среднего возраста, среднего роста, обыкновенного цвета волос, ничем не выдающейся внешности. «Прежде всего у него не должно быть бросающейся в глаза, сколько-нибудь выдающейся наружности...» Автор указывает, что благодаря реализации этих требований розыскным органам, оказывается, очень трудно составить словесный портрет такого эталонизированного человека... — Противно читать, — говорил я, — об этих эталонизированных субъектах. Но, поскольку речь идет о их специфическом назначении, веришь, что такой подбор чем-то оправдан. А вот как объяснить, что, вводя в свои произведения советских людей, определяя им роль положительных героев, авторы наших приключенческих романов и повестей тоже не допускают туда никого, кто обладал бы «хоть сколько-нибудь выдающимися чертами». В этих произведениях не то чтобы неверные или невыразительные образы людей: в них просто нет никаких образов, ибо совершенно отсутствуют и их внешние черты и особенности их душевной жизни. Можно представить себе, что их готовят как манекены для магазинных витрин, и уж дело самих потребителей — на этого напялить модное пальто, того одеть в идеально отглаженные флотские брюки, одному нахлобучить на голову велюровую шляпу, другому — предосудительную кепку-лондонку, третьего увенчать утвержденной по уставу офицерской фуражкой. В частности, и в обсуждающейся рукописи нет никаких попыток индивидуализировать персонажи, придать одному личную особенность произношения, другому характерный жест, третьему еще что-то, выделяющее его из общего ряда... В чем тут дело? Я рассчитывал, что автор «обсуждавшейся рукописи» будет либо не соглашаться с этой резкой характеристикой, либо поклянется в намерении «изжить свои недостатки». Произошло совсем другое: он обрушился на меня с суровыми обвинениями в незаконных и неправильных претензиях с моей стороны. «Я работаю в приключенческом жанре! — раздраженно возражал он. —У него своя специфика, свои требования. Мой оппонент требует «живых людей», «образов» этих людей. А я далеко не уверен, что в приключенческом романе нужны эти самые образы, речевые характеристики и тому подобное... Конан-Дойл, например...» В прениях было указано, что пресловутый шерлок-холмсовский цикл Конан-Дойла, как раз наоборот, весь держится на преувеличенно характерных образах-масках, что Шерлока Холмса не спутаешь ни с Уотсоном, ни с Лестрэдом, ни с Мориарти, что английский детективист упорно стремился переплетать внешнюю характеристику с сюжетными ходами, связывая их в некое единство, но все было напрасно: обсуждаемый автор заявил себя сознательным и убежденным последователем своеобразной поэтики своего «жанра», так сказать, поэтики без поэтики, отвергающей все средства поэтического образного воздействия на читателя. И все это подкреплялось единственным доводом: «Приключенческая литература имеет свои законы и требования». А существо этих требований сводилось, собственно, к одному: к праву не затрудняться никакой художественностью. К праву возводить собственную литературную беспомощность в принцип жанровой необходимости. К праву на схему вместо образа, на болтовню вместо языка, на бесцветно-грамотную стандартную фразу вместо стиля. Мне кажется, что этого автора (а за ним стоит не один такой же) не удалось переубедить. Писатель свободен в выборе тем. И. С. Тургенев в разное время обращался в своих произведениях то к жизни охотников, то к миру тогдашней политической эмиграции. С одинаковой свободой ориентировался он и в быте владельцев маленькой космополитической кондитерской на западе Германии и в психологии обреченной на вечную неподвижность жертвы крепостных порядков, заключенной в свой жалкий шалаш где-то в средней полосе России. Никому не приходило в голову называть его «писателем-охотоведом», когда он был автором «Записок охотника», или «писателем-мистиком» в ту пору, когда он увлекался темами, близкими к «Кларе Милич». И там и тут он является перед нами прежде всего художником, равно имеющим право на любую тему и на работу в любой жанровой области, ибо его общая писательская квалификация давала ему право такого выбора. И уж только затем он предстает перед нами то как знаток ружейной охоты, то как человек, интересующийся теми или другими проблемами политической жизни, то как мастер, ставящий перед собою некие частные жанровые задачи в той мере, в какой они интересуют его творческую натуру — натуру писателя. Вряд ли кому-нибудь приходило в голову именовать Н. Лескова «писателем-архиереистом», «писателем-ювелиром», «писателем-приключенцем», хотя «Мелочи архиерейской жизни» безукоризненны по осведомленности, рассказы, посвященные людям, работающим над драгоценными камнями, обличают глубокое знание предмета, а приключения «Очарованного странника» сюжетно во сто раз сложнее и напряженнее бесчисленного числа повестей и романов, издаваемых в наши дни с грифами «Библиотека приключений», «Серия путешествий и детективов» и т. п. Дело в том, что и Тургенев, и Лесков, и множество других крупнейших наших художников слова вырастали в мастеров, не отправляясь от заранее преднамеченной «узкой специализации»; компас, руководивший ими в их жизни, указывал всегда один и тот же румб — художественную литературу. И только на пути к этой цели им случалось входить на ступени разных жанров и заново открываемых тем. Новеллист Чехов обращался, поскольку он был не «писателем-новеллистом» в своих глазах, а просто писателем, спокойно и свободно к жанру драмы и к жанру водевиля; от юмористического рассказа переходил к психологической повести; не боялся при случае заняться такими жанрами, как детектив («Драма на охоте») или литературная пародия («Летающие острова». Соч. Жюля Верна»), и всегда и всюду оставался писателем прежде всего, подобно рыболову, может быть, и предпочитающему в глубине души благородную форель, а вот — идущему на ловлю лососей или щук, в зависимости от своих сегодняшних потребностей. А нынче мы видим своеобразное и сомнительное положение: человек без литературного опыта, располагающий только каким-то запасом житейских знаний, не намереваясь стать «писателем вообще», даже не собираясь овладевать сложным искусством слова, предполагает сделаться «писателем-приключенцем» или даже, еще специфичнее, «писателем-фантастом». И только. Не более сего. Ученые, предъявляя претензии к научно-фантастическим книгам, обвиняют литераторов в том, что они берутся за темы науки, не заботясь о квалификации научной, о багаже точных и бесспорных научных сведений. Работники розыскных органов присоединяются к этой критике со своей стороны, упрекая авторов детективных произведений в смутном, приблизительном знании практики этой работы, в кабинетных представлениях как о преступниках, так и о людях, ведущих с ними борьбу. Что же до нас, людей литературы, то мы не только можем, мы должны выдвинуть против тех же многочисленных «писателей-детективистов», «писателей-фантастов» (отчасти и «писателей-познавательщиков») свои, не менее серьезные, встречные претензии. И главной из них будет та, что значительная часть этих трудоспособных и плодовитых товарищей, пускаясь на путь писания и издания своих произведений, имея или не имея нужную для этого реальную квалификацию, относится совершенно равнодушно к квалификации литературной. Они не только не ставят перед собою задачу прежде научиться вообще писать и только затем уже начать совершенствоваться в каком-то одном частном жанре: они, как я уже демонстрировал, агрессивно относятся к самой идее такой квалификации. В результате возникают поделки, иногда убогие и по материалу, реже свидетельствующие о превосходном знании этого материала — криминологического, бытового, в области розыска или же научного, — но почти всегда не являющиеся ни в какой мере произведениями литературы. «Отсюда — гнев и слезы», как говорили в древнем Риме. 2 Можно ли, если дела обстоят так, как только что было изложено, заниматься проблемой «языка детективной и научно-фантастической литературы»? Следует ли и целесообразно ли «изучать» его как своеобразную и принципиально особую ветвь или разновидность литературного языка? Я думаю, ответ на этот вопрос зависит от самого подхода к теме. Если, исходя из априорного представления, по которому «приключенческая и фантастическая литература» должна иметь свой особый язык, пытаться строить некий его идеал и затем прикидывать на нем, как на оселке, реальный язык таких произведений, то нас постигнет безусловная неудача. Построить такой язык-оптимум у нас нет ни возможностей, ни данных, а следовательно, и судить, соответствует ли ему реальный язык «фантастов» и «приключенцев», нельзя. Да никто и не доказал, что это было бы правомерно. Иное дело, если мы постулируем положение, согласно которому язык подобных произведений необходимо должен сначала удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к языку художественной литературы в целом, а затем уже, в каких-то деталях и частностях, имеет основание и право на свои специфические особенности. В этом случае положение изменится и мы сможем, по-видимому, зафиксировать более или менее точную картину реально существующего языка, а затем и применить оценочные критерии. Значит, надо разобрать возможно большее число произведений «приключенческого» (и, практически являющегося его разновидностью, «фантастического») «жанра», проанализировать их язык и тогда только выносить приговор. Честно говоря, я сделал попытку пойти по этому пути. Однако внезапно читатель и литератор пересилили во мне беспристрастного филолога: я искал в десятке романов, изданных в серии «Библиотека военных приключений» и других, примет авторского языка, но именно этого — своеобразного, определенного, пусть неправильного или даже уродливого языка — в них не было. Глаз мой от книги к книге скользил по десяткам тысяч примерно одинаковых, никак не окрашенных, не имеющих в себе ничего индивидуального предложений, подвергшихся, по-видимому, неоднократной правке со стороны редакторов и корректоров и поэтому не могущих быть названными ни безграмотными, ни просторечными. При всем желании я не находил почти никаких бросающихся в глаза ляпсусов, нелитературных выражений, уродливостей лексики или синтаксиса. Ничего этого не было; рука не зачерпывала ни единого из тех острых и смешных провинциализмов и вульгаризмов, которые так любят авторы газетных фельетонов. Их не было, но — увы! — не было и «языка», если только под этим словом понимать язык личный, авторский, и особенно — язык художественный. Есть ли смысл и даже возможность подвергать анализу подобный материал? И я перестроил свою задачу. Поскольку в практике нашей литературы фантастическая тема в девяноста случаях из ста решается как тема одновременно авантюрная, есть полная возможность изучить язык приключенческой литературы именно на ее фантастических образцах. А так как, к сожалению, мы еще не слишком богаты произведениями этого рода, которые могут приниматься всерьез как художественные, то разумно взять для анализа немногие, наиболее современные и наиболее выдающиеся образцы их, может быть, даже один такой лучший образец, и разобраться именно в нем. Но прежде, чем перейти к этому, необходимо выяснить некоторые общие принципы нашего отношения к такому априорному понятию, как «язык научно-фантастической литературы». 3 Никем и никогда еще не было доказано, будто в распоряжении писателей, работающих над научно-фантастической темой, имеется какой-то особый язык, обладающий строго определенной и общей им всем характеристикой, отличный от того, что мы видны у представителей других кругов литературы. Разве установлено, что «языки» Жюля Верна, Герберта Уэллса и А. Н. Толстого — авторов, работавших в области фантастики, — имеют между собой черты жанровой общности? Разве доказано в то же время, что язык и стилистическая манера Уэллса, поскольку он является «фантастом», имеют больше сходства с языком и манерой Ж. Верна, тоже «фантаста», чем, скажем, с языком Голсуорси, не имеющего решительно никакого отношения к фантастике? Кто и на каком материале смог бы вообще обнаружить подобное сходство между словесной тканью произведений Ж. Верна, Г. Уэллса, А. Толстого, Робида, Рони-старшего, В. Одоевского, Б. Келлермана, А. Конан-Дойла, Г. Адамова, И. Ефремова и других авторов-фантастов, сплошь и рядом принадлежащих к совершенно различным историческим литературным линиям и школам, к противоположным по смыслу и знаку направлениям? Само собой — никто, да и предположение о наличии такой общности абсурдно. Однако если это верно, то можно ли тогда вообще всерьез ставить вопрос об описании и исследовании «языка фантастической (это же относится и к «авантюрной») литературы»? Если и можно говорить, то никак не о языке фиктивного единства «приключенческого» или «фантастического жанра», а лишь о тех своеобразных изменениях в языковых средствах писателя, к которым обычно понуждает его обращение к специфическим для этих разделов прозы материалу и теме. Но необходимы ли такие изменения, обязательны ли они? Обычно это считается само собою разумеющимся и вот на каком, сравнительно простом, основании. Писатель, работающий в области «научной фантастики», трактует в своих произведениях вопросы науки. Общепризнано, что наука пользуется если не своим, отдельным от общелитературного, языком, то, во всяком случае, чем-то вроде специального диалекта с многочисленными «поднаречиями», а на худой конец — своим особым, резко отличающимся от общенародного, словарем. Разве не ясно, что автор-фантаст неминуемо вынужден прибегать к этому словарю и к этим жаргонам: ему не обойтись без них и при построении речевых характеристик персонажей, людей «арготирующих», поскольку они являются представителями мирка ученых и техников, и при объяснении читателю тех научных проблем, без которых не мыслится среднее научно-фантастическое произведение. Тезис этот имеет видимость полной основательности, и на нем следует остановиться. В основе — вполне бесспорное положение: если автор, меняя тематику своих произведений, обращается к новому материалу, переходит, скажем, от жизни военных моряков к жизни работниц текстильной фабрики, литературоведов или трактористов, он неизбежно сталкивается с необходимостью перестройки части своего словаря. Это весьма легко показать на примерах классических, не имеющих, кстати, никакого отношения к научной фантастике. «Анна Каренина» Толстого написана не в том лексическом ключе, как «Тихон и Маланья»; язык «Холстомера» отличается от языка повести «Бог правду видит, да не скоро скажет»; вряд ли стоит доказывать, что это — так. Словарь того или другого литературного произведения, разумеется, связан с его темой, зависит в известной мере от нее, управляется ею; однако связь эта настолько сложно опосредствована и материалом, на котором автор развертывает эту тему, и его привычной поэтикой, и фабулой, и многим другим, что восходить от этого словаря к представлениям о самом произведении или пытаться выводить словарный тип из типа тематического всегда будет совершенно безнадежным предприятием. Никогда и нигде автор не строит свои произведения (фантастические или нет — безразлично) в условиях узкой языковой специализации. В «Человеке-невидимке» Уэллса в центре повествования стоит гениальный ученый и разрабатываемая им проблема науки. Однако в языке романа чрезвычайно сильна просторечная стихия мещанских пригородных говоров из окрестностей Лондона. В «Человеке, который мог творить чудеса» и в «Лиловой поганке» вообще не фигурируют никакие ученые: все держится исключительно на психологии, речи, действиях «маленьких людей» — лавочников, мелких чиновников. На русской почве такого рода рассказы могли бы быть без труда написаны языком и в манере гоголевской «Шинели», ибо и мистер Фодерингэй, герой первого, и мистер Комбс — центральная фигура второго —ничем не отличаются в социальном плане от Акакия Акакиевича Башмачкина. Удивительно ли, что в диалогах Фодерингэй — пастор Мейдиг или в буйных выкриках взбунтовавшегося Комбса мы не найдем ни одной нотки, которая не могла бы прозвучать в большей части самых не фантастических рассказов Ч. Диккенса? Язык писателя-«приключенца», в частности — пишущего на научно-фантастические темы... Даже самое первое рассмотрение его показывает, что это — чрезвычайно сложное, изменчивое, непостоянное целое. Писатель художественно одаренный владеет широкой палитрой языковых, словесных красок; вряд ли можно указать на творчество хотя бы одного значительного мастера слова, всегда пользующегося только одним, заранее заданным диапазоном речи, работающего всегда одним и тем же словарем, на одном ограниченном запасе языковых средств. Тот же Уэллс чрезвычайно разнообразен в выборе всех этих художнических орудий. Одним языком написаны «Мистер Скельмерсдэл в стране фей» или уже упомянутая «Лиловая поганка», и совсем иным «Машина времени». Даже на протяжении одного и того же произведения меняется многократно его языковая стихия. Речевые потоки идут, причудливо переплетаясь, подчеркивая и «фонируя» один другой. И это — необходимо. 4 Вот два отрывка из двух литературных произведений: «В конце марта, в один из тех первых весенних дней, неожиданно врывающихся в белый от снега, тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые кадки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами... — в такой день Иван Ильич вышел из технической конторы, что на Невском, расстегнул хорьковую шубу и сощурился от солнца». «Шумели старые липы в сквере. Воздух был влажен и тепел. На куче песку, один во всем сквере, видимо уже давно, сидел маленький мальчик в грязной рубашке... Ветер поднимал время от времени его светлые и мягкие волосы. В руке он держал конец веревочки, к другому концу веревочки была привязана за ногу старая взлохмаченная ворона. Она сидела недовольная и сердитая и, так же как и мальчик, глядела на Скайльса». Между этими отрывками — фрагментом большого, на самых высоких «регистрах» художественности и «серьезности», в ключе великолепных реалистических традиций русской литературы романа-эпопеи «Хождение по мукам» и таким же фрагментом, вырванным мною из научно-фантастического романа того же писателя, нет в отношении стиля и языка никакой принципиальной разницы. Человек, не знающий «Сестер» и «Аэлиты», бесспорно не сумел бы отличить одну цитату от другой, не смог бы установить водораздел между ними. Можно внимательно, с карандашом в руках, читать эти два замечательных произведения и пoтом случайно перепутать выписки и оказаться в чрезвычайном затруднении: поди, определи по стилю и слогу, где история и где фантастика, где «психологический роман» и где «фантастический» — тот же язык, тот же, присущий данному автору и данному направлению в большой русской литературе, стиль. Кажется, ясно: проблема особого, специфического языка и стиля «жанра научной фантастики» — такая же надуманная проблема, как и проблема самого существования этого жанра. Ни такого языка, ни такого особого стиля нет, быть не может и не должно. Настоящий мастер слова может сегодня обратиться к фантастической теме так же, как завтра он обратится к теме исторической и психологической. И он обязан решать новую задачу во всеоружии всего арсенала свойственных ему художественных средств, не освобождая себя ни от каких требований, предъявляемых большой литературой. 5 Так обстоит дело в теории. А на практике? Каким языком пишут наши сегодняшние советские «фантасты» и что можно сказать по поводу фактически существующего их языка и стиля? К глубочайшему моему огорчению, я никак не могу утверждать, что им (говорю о «них», как об известной совокупности работающих в этом роде авторов), — что им удалось до настоящего времени создать образцы стилистического и языкового мастерства, которое хоть сколько-нибудь приблизило их к уровню классиков этого же литературного направления. Для того чтобы доказать это положение, надлежало бы, конечно, анализировать и сличать между собой произведения многих авторов: наша научно-фантастическая литература, долгие годы, правда, пребывавшая в чрезвычайном издательском «загоне» и количественно весьма скудная, сейчас как будто вступает в период некоторого роста и расцвета. Книжки на темы будущего науки, претендующие на звание «художественных», а не просто научно-популярных, «фантастических», а не только «научно-фантастических», выходят все чаще и чаще. Художественный уровень этих произведений разнообразен и неровен. Наряду с образцами слабой скорописи, даже не претендующей на принадлежность к большой литературе (назову здесь, для примера, такие образцы, как вышедшая еще в 1947 году книжка Ф. Пудалова «Клад погребенного моря», курьезная помесь учебника по нефтедобыванию с беллетристикой типа дореволюционного Ната Пинкертона, или ее ровесницу — повесть двух авторов «Человек-ракета», напрасно изданную Детгизом), мы встречаемся здесь с писателями, создавшими множество объемистых произведений, уже безусловно подлежащих серьезной и внимательной оценке со стороны критики. Вспомним в этой связи творчество Александра Романовича Беляева, два издания романов которого одно за другим буквально расхватаны на наших глазах за последние дни в книжных магазинах,— писателя, которого не скинешь со счета нашей литературы 30-х годов. Вспомним романы Гр. Адамова и А. Казанцева, на которых выросло целое поколение нашей молодежи. Укажем на довольно интересно начинающего, молодого в литературном отношении, нашего товарища — ленинградца Георгия Мартынова. Не упустим, наконец, указать на творчество весьма интересного писателя-фантаста Ивана Ефремова, литературная работа которого является тем более значительной, что она идет, своеобразно сочетаясь с работой научной и научно-практической. Мы часто говорим о Жюле Верне как о писателе, сумевшем предсказать ряд изобретений и открытий, сделанных затем в науке без его непосредственного участия. Но вот перед нами писатель-фантаст, который десяток лет назад опубликовал фантастические рассказы об открытии алмазных россыпей в определенных районах Сибири, и притом — в совершенно определенных геологических условиях, в так называемых «кимберлитовых трубках» геологических пород. Прошло несколько лет, и именно в этих местах, именно в таких «кимберлитовых трубках» алмазы были действительно найдены, причем в количестве, вызвавшем революцию в алмазном деле всего мира; найдены не без непосредственного участия самого автора-фантаста, работающего в качестве крупного геолога и палеонтолога. Сегодняшняя наша научно-фантастическая литература поистине необычайно разношерстна и разнокалиберна. Очень трудно рассматривать в одном ряду произведения И. Ефремова, автора с бурным полетом фантазии, уводящего читателя то в историческое прошлое человека, то в глубь времен, не выразимых никакими словами и числами, имеющего дело то с заброшенными рудниками екатерининской поры где-то в наших реальных горнорудных районах, то с галактиками и супергалактиками, удаленными от нас на сотни и тысячи световых лет, и, скажем, В. Немцова, принципиально заявляющего, что в фантастической литературе законно фантазирование лишь в пределах, предусмотренных планами ближайшей пятилетки. Ведь Немцов пишет и называет фантастическими повествования о том, как будет построен, скажем, шагающий экскаватор с ковшом на 25 тонн, в то время когда такой же экскаватор с ковшом емкостью в 23 тонны уже работает и начинает устаревать. Именно поэтому я и вынужден отказаться от одновременного рассмотрения проблем языка всех этих многочисленных авторов и тем более их произведений. Я не могу равнять профессионала А. Беляева, писателя, не являющегося ученым-специалистом, и, скажем, покойного В. Обручева, ученого огромного, мирового масштаба, литературное творчество которого, при всем вызываемом им живом интересе и всей любви к нему читателя, не поднимается над уровнем просвещенного дилетантизма в художественном отношении. Так же нельзя рассматривать рядом, анализировать заодно, допустим, музыкальное творчество Даргомыжского вместе с сочинениями, пусть очень любопытными, великого писателя, но дилетанта в музыке, А. С. Грибоедова. И вот я намерен поступить так. Кажется, не подлежит сомнению, что корифеем современной, сегодняшней нашей научно-фантастической литературы является Иван Ефремов. В ряду писателей-фантастов он по праву считается человеком с наиболее своеобразным и установившимся стилистическим «лицом», автором, обладающим своей поэтикой, не чуждающимся ни поэзии, ни образности, ни трудной работы над языком и стилем. Ефремов — писатель плодовитый, неустанно выпускающий новые и новые книги. Последнее его произведение — большой фантастический роман «Туманность Андромеды», напечатанный в сокращенном виде в журнале «Техника — молодежи»,— с упоением читается, бурно обсуждается читателями и, очевидно, в скором времени выйдет в свет отдельным изданием. Мне кажется, мы не совершим большой ошибки, если, рассмотрев язык и стиль этого — самого последнего — романа одного из признанных писателей-фантастов, будет судить о нем как о лучшем, что есть в стиле и языке всей нашей научной фантастики. 6 Итак — язык и стиль «Туманности Андромеды». Начнем с самого простого: с обычного, человеческого, ничуть не «фантастического» предмета, с синтаксиса. Кажется, бесспорно: чем сложнее материал, трактуемый автором, тем яснее и точнее должны быть синтаксические связи. «Я еду, не возвращаясь в дом...» — говорит один из героев Ефремова, Это должно означать: перед отъездом я не заеду к себе (IV, 25). [В дальнейшем все цитаты приводятся по тексту романа, напечатанному в журнале «Техника — молодежи». Римские цифры — номера журнала за 1957 год, арабские — страницы.] «Со стола он снял бронзовую статуэтку артистки... Все это с немногочисленной одеждой поместилось в алюминиевый контейнер...» (IV, 25). Не знаю, какая одежда считается «многочисленной», но автор отнюдь не обвиняет статуэтку артистки в «дезабилье». Он говорит о небольшом количестве одежды самого героя, взятой в путешествие. «Тантра (название ракеты) уравняла свою скорость с внутренней планетой...» (III, 22). Скорость можно уравнивать только со скоростью, а никак не с движущимся телом. «Целый ряд действий, предпринимаемых только благодаря опрокинутому в будущее сознанию современного человека, могли бы исчезнуть, словно от взмаха волшебной палочки...» (V, 29). «Он узнал Веду Конг... так много занимавшую прежде его мысли, пока не выяснилась разность их (мыслей, молодых людей? — Л. У.) путей...» (ХIII, 30). «Дар Ветер... отстранил Веду... вглядываясь в оттенок новизны бесконечно дорогого лица, сообщенный необычной прической...» (XI, 26). Я не рискую выписывать хотя бы десятую часть подобных мест, которыми пестрят страницы романа, — их слишком много. Не удержусь от последней: «Эвде... сообщите... сами... — прошептал он в сторону стоявшего заведующего обсерваторией, упал и, после тщетных попыток приподняться, сдался...» (VIII, 29). Научно-фантастический термин «сдался» означает тут «потерял сознание». Вывод, к сожалению, может быть только один: синтаксис романа небрежен, дефектен, туманен, слаб. С этим пороком весьма близко сочетается и другой: автор часто употребляет самые обычные слова в каком-то смещенном, невыверенном значении, безнадежно «одвусмысливая» содержание своей речи: «Стремительным движением Эрг Hoop вытянул кресло...» (I, 27). Что-либо одно: или «стремительно», или «вытянул». «Предпринимали множество опытов и предварительной подготовки...» (III, 25). «Мелькнул памятник... изобретателю искусственного сахара...» (IV, 26). А разве существует естественный сахар, добываемый в рудниках? Автор хотел так определить «синтетический» сахар, в отличие от добываемого из растений. «Девушка с короткими льняными волосами показывала труднейшие упражнения в самых невозможных позициях своего великолепно развитого тела... » (VI,28). «Чара Нанди жестом защиты притянула к себе прекрасного историка и прижалась к ее щеке...» (V, 24). Удивленный читатель только тут начинает соображать, что прекрасный историк — тоже женщина. Критик чувствует себя просто подавленным обилием великолепных обмолвок и не может без конца расширять их списки. Читателям остается поверить, что эти списки могли бы заполнить, употребляя терминологию автора, «пространство в десятки парсеков». Тут и «остатки стен неизвестно для чего (?) построенного на высотах монастыря», и «неслыханно-молодой, двадцативосьмилетний начальник экспедиции», и люди, улыбающиеся «неповторимо-ясно», — перебрать это все и привести в какую-либо систему совершенно невозможно. Но не об этом я хочу сейчас говорить: такого рода ошибки могут быть свойственны писателю любой темы, любого литературного жанра. Быль молодцу не в укор! К иному типу ошибок, уже не стилистических только, лексических или словарных, имеющих случайный характер и небольшое принципиальное значение, а куда более существенных, следует отнести слишком, к сожалению, многочисленные места, где средствами языка (или, скорее, некоторого авторского косноязычия) создаются огорчительные образцы назойливой, режущей глаз и ухо стилистической пошловатости. Оценивая эту сторону дела, нельзя не напомнить о теме произведения: ведь оно трактует не только вопросы астрономии или техники звездоплавания. Оно перебрасывает нас в коммунистическое общество, сталкивает нас с людьми коммунистической жизни и коммунистической психологии. Все в них — внешность, душевные качества, привычки, манера говорить — должно убеждать нас в том, что перед нами люди нашего далекого и возвышенно-прекрасного будущего. Так вот, какими же рисуются эти люди-примеры в «Туманности Андромеды»? Как они ведут себя, как чувствуют, что для них представляется высоким и идеальным? Что такое «эстетика» в их понимании? Задавая этот вопрос, я не хочу, разумеется, верить авторским декларациям: по декларациям все обстоит благополучно. «Прекрасные историки» и «очаровательные астронавигаторы» в то же время являются великолепными артистками, способными поразить зрителя «самыми невозможными позициями своих великолепных тел». Мужчины — смелы, благородны, «непредставимо-быстро» решают сложнейшие математические задачи, неколебимо идут на подвиги и смерть. Это «силико-боровые» или «хромо-ванадиевые» герои, и, хотя всем им «ничто человеческое не чуждо», все влюбляются, по уверению автора, и страдают, — читатель не может поверить на слово их «силико-боровой» любви. Ему, читателю, поди и покажи ее в образах. А образы говорят вот что: «Дар Ветер замер, ошеломленный силой противоречивых чувств...» «Дар Ветер улыбнулся по-своему, неповторимо-ясно, и отошел» (IV, 24—25). Ну что ж? С одной стороны, человек узнал, что «тридцать седьмая звездная радиостанция, наконец, заговорила», а с другой, — он в этот момент «увидел медленно встававшую Веду Конг. Обострившийся слух уловил ее прерывистое дыхание...» Выражено все это, так сказать, далеко не на достойной далекого нового мира высоте стиля и языка, но, тем не менее, выражено понятно. Но дальше... «Дар Ветер... сбросил одежду... и стал у воды перед Эвдой еще более массивный и могучий, чем Мвен Мас. Эвда приподнялась на носки и поцеловала уходящего друга...» (IV, 25). Что это? В воздухе начинает пахнуть не то Игорем Северяниным («Она на пальчики привстала и подарила губы мне...»), не то Н. Н. Брешко-Брешковским с его «атлетами с атласной кожей и могучими мышцами», не то современным «пляжным адюльтером» из плоских западных боевиков. Впечатление, к сожалению, не проходит по мере углубления в роман. «Дар Ветер не мог забыть... красно-бронзовую девушку с отточенной гибкостью движений... » «Веда кончила петь (прекрасный историк, она и замечательная певица и превосходная танцовщица. — Л. У. )... и, как всегда, алая от волнения, присоединилась к подругам...» (V, 23—24). «Женщина встала, с великолепным изяществом выпрямив свой стан, и протянула африканцу открытую ладонь...» (V, 27). Что это такое? — хочется спросить. Имеет ли право современный автор, рисуя будущее коммунистическое общество, барахтаться в потоке слов и образов, заимствованных из самых низкопробных бульварных повестушек, культивировать язык и стиль не большой литературы, а именно словесной суетни этих далеко не почтенных, хотя и ходких когда-то произведений? Конечно, не может, не должен, а если это происходит, — вот вам превосходный образец результатов самозамыкания фантастической темы внутри обладающего некоей эстетической автаркией воображаемого фантастического «жанра». Дальше в лес, больше дров. «Пора, — обревший металл голос Эрга Ноора хлестнул, точно удар бича...» (II, 28). Это — что? Какая-то очередная повесть о ковбоях Дальнего Запада? Нет, это звездная экспедиция коммунистического мира отправляется в долголетние странствия. Можем ли мы поверить, что в миг, когда первый спутник в реве и грохоте взрывов улетел в небо, чей-то голос, «обревший металл»,хлестнул кого-то, «точно удар бича»? Не можем. «Мвен Мас — очень красивая комбинация холодного ума и неистовства желаний...» Кто так выражается? Героиня «Дневника горничной» в конце прошлого века? Девица из романа княгини Бебутовой, печатавшегося в «Петербургском листке» по заказу хозяина «Цирка Модерн», где в ту неделю выступал какой-нибудь «эбеновый великан-негр Мацисто»? Ничего подобного: таков и язык и вкусы прелестной Эвды, одной из представительниц три тысячи девятьсот пятидесятого года нашей эры. Страшно подумать, что это пророчество И. Ефремова может осуществиться! И вот — верх достижений этой своеобразной эстетики, этого устрашающего винегрета из эстетических идеалов дореволюционной «крошки-содержаночки» и словесной ткани, достойной на сей раз уже не Брешко-Брешковского, а самой Крыжановской-Рочестер, автора теософически-истерических романов девятисотых годов. Герои-звездоплаватели, ученые, обнимающие своими полетами и полетами ума весь мир, до самых последних глубей галактик и супергалактик, являются на выступление в некий всемирный лекционный зал, где подвизаются их прелестные и в то же время высокоученые подруги — историки, физиологи, астронавигаторы и т. п. Это — особый случай: Земля впервые будет устанавливать связь с другой вселенной, лежащей за непредставимыми безднами пространства. Историк Веда Конг, в которую влюблен ученый и администратор Дар Ветер, будет делать доклад «через весь космос». Два часа назад двое молодых людей будущего обменялись репликами. Сделали они это, конечно, не лицом к лицу, а при помощи «вектора дружбы» — особого телеустройства, «прямого соединения, проводившегося между связанными глубокой дружбой людьми, чтобы общаться в любой момент» (объяснение автора). Он сказал по «вектору дружбы»: «Веда, осталось два часа. Надо переодеться». Женщина на экране «подняла руки в густым светло-пепельным волосам. — Повинуюсь, мой Ветер, — тихо рассмеялась она». Правда — здорово написано? Стоило «мобилизовать технику будущего»! И вот они — на месте. «Дар Ветер оглянулся. Незамеченная им, у светящейся прозрачной колонны стояла Веда Конг. Для выступления она надела лучший из нарядов, наиболее красивший женщину и изобретенный больше восьми тысяч лет назад, еще в эпоху критской культуры (невеселое предсказание для модных художников и модниц будущего.— Л. У. ). Тяжелый узел пепельных волос, подобранных на затылке, не отягощал сильной стройной шеи. Широкая и короткая юбка (критского периода. — Л. У.), расшитая по серебряному полю голубыми цветами, открывала загорелые ноги в туфельках вишневого цвета. Крупные, нарочито-грубо заделанные (!) в титановую цепь (как она выглядит?) вишневые камни — фаанты с Венеры — горели на нежной коже в тон пылавшим от волнения щекам и маленьким ушам. Мвен Мас, впервые видевший ученого историка, рассматривал ее с нескрываемым восхищением...» (II, 26). Как тут не восхититься — не историк, а совершенная картинка с мыла «Молодость» фирмы Брокар и К° выпуска 1909 года. И если бы это было случайной обмолвкой, нечаянным вкраплением в иного порядка словесно-образную ткань, — полбеды. Нет, так построено все, что касается отношений между полами и женской прелести того мира. «Рыжекудрая девушка (в 3950 году действуют исключительно незамужние девушки и независимые холостяки. Мужей, жен и детей в романе не встречается. — Л. У. ) оставалась неподвижной, точно статуя розового мрамора, в которой с тончайшим совершенством воспроизвели модель...» Что за парфюмерная эстетика, да притом же в случае, когда речь идет не о здоровом человеке, а о девушке, пребывающей многие месяцы в летаргическом состоянии? «Повинуюсь, мой Ветер, — шепнула Веда (на этот раз уже не по «вектору дружбы». — Л. У.) свои магические слова, заставившие забиться его сердце и вызвавшие краску на его бледных щеках...» (I, 26). Это, знаете, уже не Бебутова и не Брешковский. Это уже — XIX век: Анна Радклиф, если не сам Ричардсон. Что можно добавить к этому? Автор явно не чувствует своей ответственности за свой язык, за свой стиль. Его интересует, по-видимому, одно изложение «научно-фантастических мыслей». Но ведь даже и эти мысли — а в их содержании он разбирается несравненно глубже и серьезнее, нежели в прелестях женщин и достоинствах мужчин — нельзя выразить вне языка. Каким же языком он пользуется на этот раз? «Эрг Hoop бросил взгляд на зависимые часы...» Вы понимаете, что это значит? Нет. Автор не считает своей обязанностью ни в тексте, ни в примечаниях разъяснить читателям такие пустяки: должны доходить своим умом. Вас уверяют, что «солнечный рояль с тройной клавиатурой» слабоват для передачи удивительной «симфонии развития», — но что вам это говорит? Вы же представления не имеете, какими бывают «солнечные рояли» даже и с ординарной клавиатурой. А если вас заинтересуют такие вопросы и автор пустится в объяснения... Ну тогда — держитесь! Вот как объясняется, что за «симфонию развития» сочинил некий Дис Кен: «Дис хотел сказать о кибернетике гередитарных ритмов. Известно, что живой организм при развитии из материнской клетки надстраивается аккордами молекулярных связей из первичной парной спирали. Постройка организма развертывается в плане, аналогичном развитию музыкальной симфонии, или — если по-другому — логическому развитию в электронной счётной машине...» Вполне вам ясно, дорогие читатели? Если так, могу позавидовать — для меня все это звучит как весьма известный пример из чьей-то «Логики»: «Против Канта свидетельствует также наличие интеллектуальной конципирующей и комплементарной к ней интеллигибельной иррациональной интуиции...» Если это — язык художественной фантастической литературы, то, я полагаю, писателям нечего о нем и говорить. Перенесем дискуссию куда-либо на факультет физики и математики. Не надо думать, что и здесь перед нами случайная погрешность автора, его неожиданная обмолвка: «Наклонная... и параболой открытая в небо... сверкала... спираль из бериллиевой бронзы, усеянная... точками рениевых контактов... Под ней находились четыре конуса, покрытые зеленоватым циркониевым сплавом...». (V, 26). Ей богу, если я вам скажу, что у меня есть знакомый, как две капли воды похожий на кроманьонца, восстановленного по черепу М. Герасимовым, то — одно из двух: либо вы видели кроманьонца — и сможете вообразить моего друга, или не видели — тогда все ваши усилия напрасны. Так неужели же И. Ефремов нацеливает свое произведение только на тех читателей, которые видели и знают и «рениевые контакты», и «циркониевые сплавы», и «силико-боровую башенку», и даже «алые фаанты с Венеры». А если это не так, то он тратит свои силы впустую. Но тратит их и читатель. Что может думать и что может переживать он, вчитываясь в такие смутные строки: «Люди тысячелетиями смотрели на кольцевые туманности (что, между прочим, совершенно неверно: никто на них не смотрел до изобретения телескопов. — Л. У .)... и не знали, что перед нами нейтральные поля нуль-гравитации, по закону репагулюма — перехода между тяготением и антитяготением. Там именно и скрывалась загадка нуль-пространства...» (V, 27). Вы раздавлены, вы ошарашены: ведь этого нельзя понять, если не закончить курс двух или нескольких факультетов. Утешьтесь: «Я — не знаток биполярной диалектической математики, — говорит в ответ на объяснения физика Рен Боза его современник Дар Ветер, — тем более такого его раздела, как репагулярное исчисление, исследование преград перехода. Но то, что вы сделали в теневых функциях, это принципиально ново, хотя еще плохо понятно нам, людям обычным, без математического ясновидения. Осмыслить величины вашего открытия я не могу...» Я так же еще не могу окончательно осмыслить величины открытия И. Ефремовым этого нового стиля и языка, которыми, как «репагулярным исчислением», он, видимо, надеется «исследовать преграды перехода». Но я знаю одно: это не должно и не может быть языком нашей научно-фантастической литературы. Источник: журнал «Звезда», 1958, № 9, стр. 235-243.1 goo.gl/jmkDsK
|
| | |
| Статья написана 14 августа 2017 г. 19:11 |
Кремлевский мечтатель Основной целью моей поездки из Петрограда в Москву была встреча с Лениным. Мне было интересно повидаться с ним, и я должен сказать, что был предубежден против него. На самом деле я встретился с личностью, совершенно непохожей на то, что я себе представлял. Ленин — не человек пера; его опубликованные труды не дают правильного представления о нем. Написанные в резком тоне брошюры и памфлеты, выходящие в Москве за его подписью, полные ложных концепций о психологии рабочих Запада и упорно отстаивающие абсурдное утверждение, что в России произошла именно предсказанная Марксом социальная революция, вряд ли отражают даже частицу подлинного ленинского ума, в котором я убедился во время нашей беседы. В этих работах порой встречаются проблески вдохновенной проницательности, но в целом они лишь повторяют раз навсегда установленные положения и формулировки ортодоксального марксизма. Быть может, это необходимо. Пожалуй, это единственно понятный коммунистам язык; переход к новой фразеологии сбил бы их с толку и вызвал полную растерянность. Левый коммунизм можно назвать позвоночным столбом сегодняшней России; к сожалению, это неподвижный позвоночник, сгибающийся с огромным трудом и только в ответ на почтительную лесть.
Жизнь в Москве, озаренной ярким октябрьским солнцем и украшенной золотом осенней листвы, показалась нам гораздо более оживленной и легкой, чем в Петрограде. На улицах — большое движение, сравнительно много извозчиков; здесь больше торгуют. Рынки открыты. Дома и мостовые — в лучшем состоянии. Правда, сохранилось немало следов ожесточенных уличных боев начала 1918 года. Один из куполов нелепого собора Василия Блаженного, у самых ворот Кремля, был разбит снарядом и все еще не отремонтирован. Трамваи, которые мы видели, перевозили не пассажиров, а продукты и топливо. Считают, что в этом отношении Петроград лучше подготовлен к зиме, чем Москва. Десять тысяч крестов московских церквей все еще сверкают на солнце. На кремлевских башнях по-прежнему простирают крылья императорские орлы. Большевики или слишком заняты другими делами, или просто не обращают на них внимания. Церкви открыты; толпы молящихся усердно прикладываются к иконам, нищим все еще порой удается выпросить милостыню. Особенной популярностью пользуется знаменитая часовня чудотворной Иверской божьей матери возле Спасских ворот; многие крестьянки, не сумевшие пробраться внутрь, целуют ее каменные стены. Как раз напротив нее на стене дома выведен в рамке знаменитый ныне лозунг: «Религия — опиум для народа». Действенность этой надписи, сделанной в начале революции, значительно снижается тем, что русский народ не умеет читать. У меня произошел небольшой, но забавный спор насчет этой надписи с г. Вандерлипом, американским финансистом, жившим в том же правительственном особняке, где и мы. Он считал, что она должна быть уничтожена. Я находил, что ее стоит сохранить как историческую реликвию, а также потому, что веротерпимость должна распространяться и на атеистов. Но г. Вандерлип принимал это так близко к сердцу, что не мог понять моей точки зрения. Особняк для гостей правительства, где мы жили вместе с г. Вандерлипом и предприимчивым английским скульптором, каким-то образом попавшим в Москву, чтобы лепить бюсты Ленина и Троцкого, — большое, хорошо обставленное здание на Софийской набережной (№ 17), расположенное напротив высокой кремлевской стены, за которой виднеются купола и башни этой крепости русских царей. Мы чувствовали себя здесь не так непринужденно, более изолированно, чем в Петрограде. Часовые, стоявшие у ворот, оберегали нас от случайных посетителей, в то время как в Петрограде ко мне мог зайти поговорить, кто хотел. Г.Вандерлип, по-видимому, жил там уже несколько недель и собирался пробыть еще столько же. С ним не было ни слуги, ни секретаря, ни переводчика. Он не обсуждал со мной свои дела и лишь раза два осторожно заметил, что они носят строго финансовый, экономический и отнюдь не политический характер. Мне говорили, что он привез рекомендательное письмо к Ленину от сенатора Хардинга, но я не любопытен по природе и не пытался ни проверить это, ни соваться в дела г. Вандерлипа. Я даже не спрашивал его, как вообще можно в коммунистическом государстве вести коммерческие переговоры и финансовые операции с кем бы то ни было, кроме самого правительства, и как можно иметь дело с правительством, совершенно не касаясь политики. Должен признаться, что все эти таинственные вещи выше моего понимания. Но мы вместе ели, курили, пили кофе и беседовали, соблюдая полнейшую сдержанность. Благодаря тому, что мы избегали упоминать о «миссии» г. Вандерлипа, она раздулась в нашем сознании до огромных размеров, и мысль о ней стала неотвязной. Формальности, связанные с подготовкой моей встречи с Лениным, были утомительно длинны и вызывали раздражение, но вот, наконец, я отправился в Кремль в сопровождении г. Ротштейна, в прошлом видного работника «коммунистической партии в Лондоне, и американского „товарища“ с большим фотоаппаратом, который, как-я понял, тоже был сотрудником Наркоминдела. Я помню Кремль в 1914 году, когда в него можно было пройти так же беспрепятственно, как в Виндзорский замок; по нему бродили тогда небольшие группы богомольцев и туристов. Но теперь свободный вход в Кремль отменен, и попасть туда очень трудно. Уже в воротах нас ожидала возня с пропусками и разрешениями. Прежде чем мы попали к Ленину, нам пришлось пройти через пять или шесть комнат, где наши документы проверяли часовые и сотрудники Кремля. Возможно, что это и необходимо для личной безопасности Ленина, но это затрудняет живую связь России с ним и — что еще важнее с точки зрения эффективности руководства — затрудняет его живую связь с Россией. Если то, что доходит до него, пропускается через некий фильтр, то так же фильтруется и все, что исходит от него, и во время этого процесса могут произойти весьма значительные искажения. Наконец, мы попали в кабинет Ленина, светлую комнату с окнами на кремлевскую площадь; Ленин сидел за огромным письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Я сел справа от стола, и невысокий человек, сидевший в кресле так, что ноги его едва касались пола, повернулся ко мне, облокотившись на кипу бумаг. Он превосходно говорит по-английски, но г. Ротштейн следил за нашей беседой, вставляя замечания и пояснения, и это показалось мне весьма характерным для теперешнего положения вещей в России. Тем временем американец взялся за свой фотоаппарат и, стараясь не мешать, начал усердно снимать нас. Беседа была настолько интересной, что все это щелканье и хождение не вызывало досады. Я ожидал встретить марксистского начетчика, с которым мне придется вступить в схватку, но ничего подобного не произошло. Мне говорили, что Ленин любит поучать людей, но он, безусловно, не занимался этим во время нашей беседы. Когда описывают Ленина, уделяют много внимания его смеху, будто бы приятному вначале, но затем принимающему оттенок цинизма; я не слышал такого смеха. Линии его лба напомнили мне кого-то, я никак не мог вспомнить, кого именно, пока на днях не увидел г. Артура Бальфура, сидевшего возле затененной лампы. У него в точности такой же высокий, покатый, слегка асимметричный лоб. У Ленина приятное смугловатое лицо с быстро меняющимся выражением, живая улыбка; слушая собеседника, он щурит один глаз (возможно, эта привычка вызвана каким-то дефектом зрения). Он не очень похож на свои фотографии, потому что он один из тех людей, у которых смена выражения гораздо существеннее, чем самые черты лица; во время разговора он слегка жестикулировал, протягивая руки над лежавшими на его столе бумагами; говорил быстро, с увлечением, совершенно откровенно и прямо, без всякой позы, как разговаривают настоящие ученые. Через весь наш разговор проходили две — как бы их назвать — основные темы. Одну тему вел я: «Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство вы стремитесь построить?» Вторую тему вел он: «Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтоб подготовить ее? Почему вы не уничтожаете капитализм и не создаете коммунистическое государство?» Эти темы переплетались, сталкивались, разъясняли одна другую. Вторая тема возвращала нас к первой: «Что вам дала социальная революция? Успешна ли она?» А это, в свою очередь, приводило ко второй теме: «Чтобы она стала успешной, в нее должен включиться западный мир. Почему это не происходит?» До 1918 года все марксисты рассматривали социальную революцию как конечную цель. Пролетарии всех стран должны были соединиться, сбросить капитализм и обрести вечное блаженство. Но в 1918 году коммунисты, к своему собственному удивлению, оказались у власти в России, и им надлежало наглядно доказать, что они могут осуществить свой золотой век. Коммунисты справедливо ссылаются на условия военного времени, блокаду и тому подобное, как на причины, задерживающие создание нового и лучшего социального строя, но тем не менее совершенно очевидно, что они начинают понимать, что марксистский образ мышления не дает никакой подготовки к практической деятельности. Есть множество вещей — я упоминал некоторые из них, — за которые они не знают, как взяться… Но рядовой коммунист начинает негодовать, если вы осмелитесь усомниться в том, что при новом режиме все делается самым лучшим и самым разумным способом. Он ведет себя, как обидчивая хозяйка, которая хочет, чтобы ее похвалили за образцовый порядок в доме, хотя там все перевернуто вверх дном из-за переезда на новую квартиру. Такой коммунист напоминает забытых теперь суфражисток, обещавших рай на земле, как только удастся освободиться от тирании «установленных мужчиною законов». Но Ленин с откровенностью, которая порой ошеломляет его последователей, рассеял недавно последние иллюзии насчет того, что русская революция означает что-либо иное, чем вступление в эпоху непрестанных исканий. Те, кто взял на себя гигантский труд уничтожения капитализма, должны сознавать, что им придется пробовать один метод действия за другим, пока, наконец, они не найдут тот, который наиболее соответствует их целям и задачам, писал он недавно. Мы начали беседу с обсуждения будущего больших городов при коммунизме. Мне хотелось узнать, как далеко пойдет, по мнению Ленина, процесс отмирания городов в России. Разоренный Петроград навеял мысль, которая раньше не приходила мне в голову, что весь внешний облик и планировка города определяются торговлей и что уничтожение ее, прямо или косвенно, делает бессмысленным и бесполезным существование девяти десятых всех зданий обычного города. «Города станут значительно меньше», — подтвердил Ленин. «И они станут иными, да, совершенно иными». Я сказал, что это означает снос существующих городов и возведение новых и потребует грандиозной работы. Соборы и величественные здания Петрограда превратятся в исторические памятники, как церкви и старинные здания Великого Новгорода и храмы Пестума. Огромная часть современного города исчезнет. Ленин охотно согласился с этим. Я думаю, что ему было приятно беседовать с человеком, понимавшим неизбежные последствия коллективизма, которых не могли полностью осознать даже многие его сторонники. Россию надо коренным образом перестроить, воссоздать заново… А как промышленность? Она тоже должна быть реконструирована коренным образом? Имею ли я представление о том, что уже делается в России? Об электрификации России? Дело в том, что Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации. Он делает все, от него зависящее, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности. Он сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы два района. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность? Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии, они обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированные, он видит, как новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как подымается обновленная и счастливая, индустриализированная коммунистическая держава. И во время разговора со мной ему почти удалось убедить меня в реальности своего предвидения. — И вы возьметесь за все это с вашими мужиками, крепко сидящими на земле? Будут перестроены не только города; деревня тоже изменится до неузнаваемости. — Уже и сейчас, — сказал Ленин, — у нас не всю сельскохозяйственную продукцию дает крестьянин. Кое-где существует крупное сельскохозяйственное производство. Там, где позволяют условия, правительство уже взяло в свои руки крупные поместья, в которых работают не крестьяне, а рабочие. Такая практика может расшириться, внедряясь сначала в одной губернии, потом в другой. Крестьяне других губерний, неграмотные и эгоистичные, не будут знать, что происходит, пока не придет их черед… Может быть, и трудно перестроить крестьянство в целом, но с отдельными группами крестьян справиться очень легко. Говоря о крестьянах, Ленин наклонился ко мне и перешел на конфиденциальный тон, как будто крестьяне могли его услышать. Я спорил с ним, доказывая, что большевикам придется перестроить не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа. По традициям и привычкам русские — индивидуалисты и любители поторговать; чтобы построить новый мир, нужно сперва изменить всю их психологию. Ленин спросил, что мне удалось повидать из сделанного в области просвещения. Я с похвалой отозвался о некоторых вещах. Он улыбнулся, довольный. Он безгранично верит в свое дело. — Но все это только наброски, первые шаги, — сказал я. — Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что сделано в России за это время, — ответил он. Разговаривая с Лениным, я понял, что коммунизм, несмотря на Маркса, все-таки может быть огромной творческой силой. После всех тех утомительных фанатиков классовой борьбы, которые попадались мне среди коммунистов, схоластов, бесплодных, как камень, после того, как я насмотрелся на необоснованную самоуверенность многочисленных марксистских начетчиков, встреча с этим изумительным человеком, который откровенно признает колоссальные трудностей сложность построения коммунизма и безраздельно посвящает все свои силы его осуществлению, подействовала на меня живительным образом. Он, во всяком случае, видит мир будущего, преображенный и построенный заново. Ему хотелось услышать от меня побольше о моих впечатлениях от России. Я сказал, что, по-моему, во многих вопросах коммунисты проводят свою линию слишком быстро и жестко, разрушая раньше, чем они сами готовы строить; особенно это ощущается в Петроградской коммуне. Коммунисты уничтожили торговлю раньше, чем они были готовы ввести нормированную выдачу продуктов; они ликвидировали кооперативную систему вместо того, чтобы использовать ее, и т. д. Эта тема привела нас к нашему основному разногласию — разногласию между эволюционным коллективистом и марксистом, к вопросу о том, нужна ли социальная революция со всеми ее крайностями, нужно ли полностью уничтожать одну экономическую систему до того, как может быть приведена в действие другая. Я верю в то, что в результате большой и упорной воспитательной работы теперешняя капиталистическая система может стать «цивилизованной» и превратиться во всемирную коллективистскую систему, в то время как мировоззрение Ленина издавна неотделимо связано с положениями марксизма о неизбежности классовой войны, необходимости свержения капиталистического строя в качестве предварительного условия перестройки общества, о диктатуре пролетариата и т. д. Он вынужден был поэтому доказывать, что современный капитализм неисправимо алчен, расточителен и глух к голосу рассудка, и пока его не уничтожат, он будет бессмысленно и бесцельно эксплуатировать все, созданное руками человека, что капитализм всегда будет сопротивляться использованию природных богатств ради общего блага и что он будет неизбежно порождать войны, так как борьба за наживу лежит в самой основе его. Должен признаться, что в споре мне пришлось очень трудно. Ленин внезапно вынул новую книгу Киоцца Моней «Триумф национализации», с которой он, очевидно, был хорошо знаком. — Вот видите, как только у вас появляется хорошая, действенная коллективистская организация, имеющая хоть какое-нибудь значение для общества, капиталисты сразу же уничтожают ее. Они уничтожили ваши государственные верфи, они не позволяют вам разумно эксплуатировать угольные шахты. Он постучал пальцем по книге. — Здесь обо всем этом сказано. И в ответ на мои слова, что войны порождаются националистическим империализмом, а не капиталистической формой организации общества, он внезапно спросил: — А что вы скажете об этом новом республиканском империализме, идущем к нам из Америки? Здесь в разговор вмешался г. Ротштейн, сказал что-то по-русски, чему Ленин не придал значения. Невзирая на напоминания г. Ротштейна о необходимости большей дипломатической сдержанности, Ленин стал рассказывать мне о проекте, которым один американец собирался поразить Москву. Проект предусматривал оказание экономической помощи России и признание большевистского правительства, заключение оборонительного союза против японской агрессии в Сибири, создание американской военно-морской базы на Дальнем Востоке и концессию сроком на пятьдесят — шестьдесят лет на разработку естественных богатств Камчатки и, возможно, других обширных районов Азии. Поможет это укрепить мир? А не явится ли это началом новой всемирной драки? Понравится ли такой проект английским империалистам? Капитализм, утверждал Ленин, — это вечная конкуренция и борьба за наживу. Он прямая противоположность коллективным действиям. Капитализм не может перерасти в социальное единство или всемирное единство. — Но какая-нибудь промышленная страна должна прийти на помощь России, — сказал я. — Она не может сейчас начать восстановительную работу без такой помощи… Во время нашего спора, касавшегося множества вопросов, мы не пришли к единому мнению. Мы тепло распрощались с Лениным; на обратном пути у меня и моего спутника снова неоднократно проверяли пропуска, как и при входе в Кремль. — Изумительный человек, — сказал г. Ротштейн. — Но было неосторожно с его стороны… У меня не было настроения разговаривать; мы шли в наш особняк вдоль старинного кремлевского рва, мимо деревьев, листва которых золотилась по-осеннему; мне хотелось думать о Ленине, пока память моя хранила каждую черточку его облика, и мне не нужны были комментарии моего спутника. Но г. Ротштейн не умолкал. Он все уговаривал меня не упоминать г. Вандерлипу об этом проекте русско-американского сближения, хотя я с самого начала заверил его, что достаточно уважаю сдержанность г. Вандерлипа, чтобы нарушить ее каким-нибудь неосторожным словом. И вот — снова дом на Софийской набережной, поздний завтрак с г. Вандерлипом и молодым скульптором из Лондона. Подавая на стол, старик слуга грустно глядел на наше скудное меню, вспоминая о тех великолепных днях, когда в этом доме останавливался Карузо и пел в одной из зал второго этажа перед самым избранным обществом Москвы. Г-н Вандерлип предлагал нам днем познакомиться с московским рынком, а вечером смотреть балет, но мы с сыном решили в тот же вечер уехать обратно в Петроград, а оттуда — в Ревель, чтобы не опоздать на пароход, уходивший на Стокгольм. https://www.e-reading.club/chapter.php/59... *** По замечанию Шевелы Ю.А., (обладающего одним из первых русских переводов "России во мгле") Ленин пытался договориться с Уэллсом о поддержке европейским пролетариатом российской пролетарской революции, без которой экспансия оной в Европу, на тот момент, Ленину не представлялась возможной. https://fantlab.ru/work9601 *** 







*** "Опыт автобиографии" https://www.e-reading.club/bookreader.php... The New Russia (1931) The Liberal Fear Of Russia (1914)
|
|
|
 облако тэгов
облако тэгов







