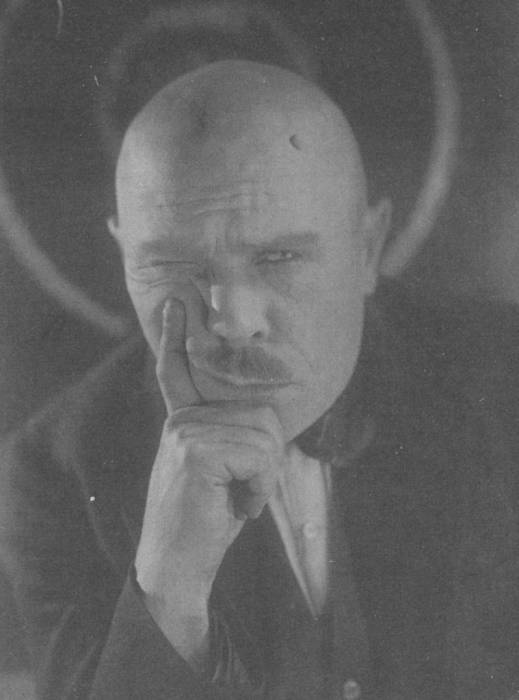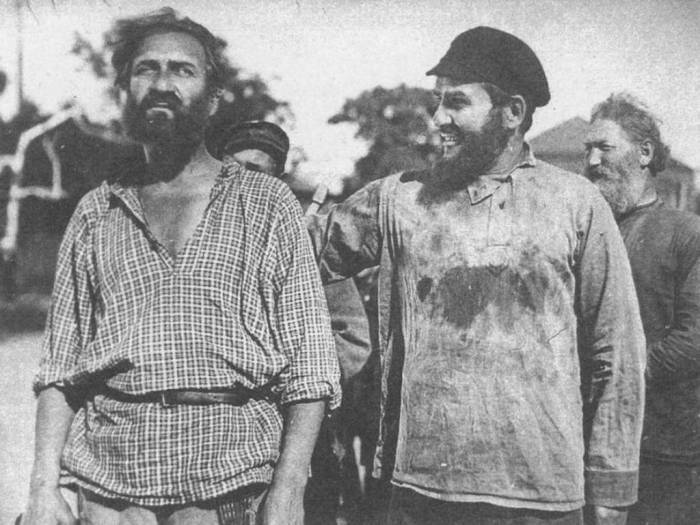| |
| Статья написана 26 марта 2018 г. 22:47 |
Впервые первая книга романа Вениамина Каверина «Два капитана» была опубликована в журнале «Костёр», №№ 8—12, 1938; №№ 1, 2, 4—6, 9—12, 1939; №№ 2—4, 1940. Роман печатался в «Костре» на протяжении почти двух лет в 16 номерах (№ 11-12 в 1939 году был сдвоенный). Следует заметить, что отрывки из первой книги печатались во многих изданиях («Огонек», 1938, № 11 (под названием «Отец»); «Резец», 1938, № 7 (под названием «Тайна»); «Огонек», 1938, № 35-36 (под названием «Мальчики»); «Ленинградская правда», 1939, 6 января (под названием «Родной дом»); «Смена», 1939, № 1 (под названием «Первая любовь. Из романа «Таким быть»»); «Резец», 1939, № 1 (под названием «Крокодиловы слезы»); «30 дней», 1939, № 2 (под названием «Катя»); «Краснофлотец», 1939, № 5 (под названием «Старые письма»); «Смена», 1940, № 4, «Литературный современник», 1939, №№ 2, 5-6; 1940, №№ 2, 3).
Первое книжное издание увидело свет в 1940 г., первое издание полностью законченного романа, содержащего уже два тома, вышло в 1945 году. Представляется интересным сравнить два варианта романа – довоенный и полный вариант (в двух книгах), завершенный писателем в 1944 году. Отдельно следует отметить, что роман, опубликованный в «Костре», является совершенно законченным произведением. Совпадая практически по всем сюжетным линиям с первой книгой знакомого нам романа, этот вариант, также содержит описание событий, которые нам известны из второй книги. В том месте, где заканчивается первая книга изданий 1945-го и последующих лет, в «Костре» имеется продолжение: главы «Последний лагерь» (о поисках экспедиции И. Л. Татаринова), «Прощальные письма» (последние письма капитана), «Доклад» (доклад Сани Григорьева в Географическом обществе в 1937 году), «Снова в Энске» (поездка Сани и Кати в Энск в 1939 году – фактически объединяет две поездки 1939 и 1944 гг., описанные во второй книге) и эпилог. Таким образом, уже в 1940 году читатели знали, чем в итоге завершиться история. Экспедиция капитана Татаринова будет найдена еще в 1936 году (а не в 1942-м), потому что никто не помешал Сане организовать поиски. Доклад в Географическом обществе будет прочитан в 1937 году (а не в 1944-м). Мы прощаемся с нашими героями в Энске в 1939 году (дату можно определить по упоминанию о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке). Получается, что читая сейчас журнальный вариант романа, мы попадаем в новый, альтернативный мир, в котором Саня Григорьев опередил своего «двойника» из нашей версии романа на 6 лет, где нет войны, где все остаются живы. Это очень оптимистичный вариант. Следует учесть, что по завершении публикации первого варианта романа В. Каверин намеревался сразу же приступить к написанию второй книги, где главное внимание уделялось бы арктическим приключениям, но начавшаяся война помешала тогда в осуществлении этих планов. Вот что писал В. Каверин: «Я писал роман около пяти лет. Когда первый том был закончен, началась война, и лишь в начале сорок четвёртого года мне удалось вернуться к своей работе. Летом 1941 года я усиленно работал над вторым томом, в котором мне хотелось широко использовать историю знаменитого лётчика Леваневского. План был уже окончательно обдуман, материалы изучены, первые главы написаны. Известный учёный-полярник Визе одобрил содержание будущих «арктических» глав и рассказал мне много интересного о работе поисковых партий. Но началась война, и мне пришлось надолго оставить самую мысль об окончании романа. Я писал фронтовые корреспонденции, военные очерки, рассказы. Однако, должно быть, надежда на возвращение к «Двум капитанам» не совсем покинула меня, иначе я не обратился бы к редактору «Известий» с просьбой отправить меня на Северный флот. Именно там, среди лётчиков и подводников Северного флота, я понял, в каком направлении нужно работать над вторым томом романа. Я понял, что облик героев моей книги будет расплывчат, неясен, если я не расскажу о том, как они вместе со всем советским народом перенесли тяжёлые испытания войны и победили». Остановимся подробнее на различиях в вариантах романа. 1. Особенности журнального варианта Даже беглое знакомство с вариантом «Костра» позволяет убедиться, что роман печатался одновременно с его написанием. Отсюда и неточности и нестыковки в главах по мере публикации, а также изменение вариантов написания имен и названий. В частности, это произошло с разбивкой романа по частям. При начале публикации в № 8 в 1938 г. нет указания на части, есть только номера глав. Так продолжается до 32-й главы. После этого с главы «Четыре года» начинается вторая часть, так и озаглавленная «Часть вторая». Названия в нее в журнале нет. Нетрудно убедиться, что в современном варианте романа этой главой начинается уже третья часть «Старые письма». Таким образом, фактически в так и не указанной «первой части» журнальной публикации объединены первая и вторая части романа. Еще интереснее со следующей частью, которая становится не третьей, как это следовало ожидать читателям «Костра», а четвертой. У нее уже появляется название. Такое же, как и в современном варианте – «Север». Аналогично с пятой частью – «Два сердца». Получается, что во время публикации было принято решение разбить первую часть на две и перенумеровать остальные части. Однако, похоже, что с публикацией четвертой и пятой частей не все обстояло так просто. В шестом номере в 1939 году, по завершении публикации второй части, редакция опубликовала такой анонс: «Ребята! В этом номере мы закончили печатанием третью часть романа В. Каверина «Два капитана». Осталась последняя, четвертая часть, которую вы прочтете в следующих номерах. Но уже сейчас, прочитав большую часть романа, вы можете судить, интересен ли он. Сейчас уже ясны характеры героев и их отношения друг к другу, сейчас уже можно догадываться о их дальнейшей судьбе. Напишите нам свое мнение о прочитанных главах». Очень интересно! Ведь четвертая часть (№№ 9–12, 1939) не стала последней, завершающая пятая часть была опубликована в 1940 году (№№ 2—4). Еще один интересный факт. Несмотря на то, что в журнале указано, что печатается сокращенный вариант, сравнение вариантов показывает, что практически никакого сокращения нет. Текст обоих вариантов на протяжении большего части текста совпадает дословно, за исключением особенностей довоенной орфографии. Более того, в журнальном варианте имеются эпизоды, не попавшие в окончательный вариант романа. Исключение составляют четыре последних главы. Впрочем, это вполне объяснимо – именно они были переписаны заново. Вот как изменились эти главы. Глава 13 пятой части журнального издания «Последний лагерь» стала главой 1 части 10 второй книги «Разгадка». Глава 14 пятой части журнального издания «Прощальные письма» стала главой 4 части 10. Глава 15 пятой части журнального издания «Доклад» – главой 8 части 10. И, наконец, события главы 16 «Снова в Энске» пятой части журнального издания частично были описаны в главе 1 части 7 «Пять лет» и главе 10 части 10 «Последняя». Особенностями журнальной публикации можно объяснить и имеющие место ошибки в нумерации глав. Так мы имеем две двенадцатых главы во второй части (по одной двенадцатой главе в дух разных номерах), а также отсутствие главы под № 13 в четвертой части. Еще одно упущение – в главе «Прощальные письма» пронумеровав первое письмо, издатели оставили без номеров остальные письма. В журнальном варианте мы можем наблюдать изменение названия города (сначала Н-ск, а затем Энск), имен героев (сначала Кирэн, а затем Кирен) и отдельных слов (например, сначала «попиндикулярны», а затем «попендикулярны»). 2. О ноже В отличие от известного нам варианта романа, в «Костре» главный герой теряет у трупа сторожа не монтерский, а перочинный нож («Во-вторых, пропал перочинный нож» – глава 2). Впрочем, уже в следующей главе этот нож становится монтерским («Не он, а я потерял этот нож — старый монтерский нож с деревянной ручкой»). Но в главе «Первое свидание. Первая бессонница» нож опять оказывается перочинным: «Так было, когда восьмилетним мальчиком я потерял перочинный нож возле убитого сторожа на понтонном мосту». 3. О времени написания воспоминаний Первоначально в главе 3 было «Теперь, вспоминая об этом через 25 лет, я начинаю думать, что моему рассказу все равно не поверили бы чиновники, сидевшие в Н-ском присутствии за высокими барьерами в полутемных залах», стало «Теперь, вспоминая об этом, я начинаю думать, что моему рассказу все равно не поверили бы чиновники, сидевшие в энском присутствии за высокими барьерами в полутемных залах». Разумеется 25 лет это не точный срок, в 1938 году – во время публикации этой главы 25 лет от описываемых событий еще не прошло. 4. О путешествиях Сани Григорьева В 5 главе в журнальном варианте герой вспоминает: «Я был на Алдане, летал над Беринговым морем. Из Фербенкса я вернулся в Москву через Гаваи и Японию. Я изучал побережье между Леной и Енисеем, пересек на оленях Таймырский полуостров». В новом варианте романа у героя другие маршруты: «Я летал над Беринговым, над Баренцевым морями. Я был в Испании. Я изучал побережье между Леной и Енисеем». 5. Родственная услуга А вот это одно из самых интересных различий в изданиях. В 10 главе журнального издания тетя Даша читает письмо капитана Татаринова: «Вот как дорого нам обошлась эта родственная услуга». Внимание: «родственная»! Разумеется, в новом варианте романа слова «родственная» нет. Это слово сразу убивает всю интригу и делает невозможным вариант с фон-Вышимирским. Вероятно, впоследствии, когда необходимо было усложнить сюжет и ввести в действие фон-Вышимирского, Каверин понял, что слово «родственная» в письме явно лишнее. В результате этого, когда то же самое письмо цитируется в «Костре» в главах «Старые письма» и «Клевета» слово «родственная» их текста исчезает. 6. Как зовут Тимошкина Интересные метаморфозы произошли Тимошкиным (он же Гаер Кулий). Первоначально, в журнальном варианте его звали Иван Петрович. Впоследствии в новом варианте романа он становится Петром Иванычем. Почему – непонятно. Еще одна деталь, связанная с Гаером Кулием – его бегство, описанное в 13 главе: «Мешок на плечо — и на десять лет этот человек исчез из моей жизни». В новом варианте стало «Мешок на плечо — и на много лет этот человек исчез из моей жизни». 7. «Бороться и итти» Легендарные строки Альфреда Теннисона: «To strive, to seek, to find and not yield» в журнальном варианте имеют два варианта перевода. В 14 главе герои дают клятву с классическими «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Однако в названии следующей главы возникает альтернативный вариант: «Бороться и итти, найти и не сдаваться». Именно эти слова говорит в отчаянии Петька Саньке, бросив шапку на снег. Точно такие слова в клятве вспоминает Санька в главе «Серебряный полтинник». Но затем дважды в тексте – после встречи Саньки и Петьки в Москве и в эпилоге снова: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». 8. О распределителе Наробраза Этого описания распределителя из журнального варианта в последующих изданиях нет. «Случалось ли вам когда-нибудь видеть в Эрмитаже «Разбойничий лагерь» Сальватора Розы? Перенесите нищих и разбойников с этой картины в бывшую мастерскую живописи и ваяния у Никитских ворот, и распределитель Наробраза, как живой, предстанет перед вами». 9. Лядов и Алябьев В журнальном варианте в главе «Николай Антоныч» протестуют «против реального училища Алябьева». В новом варианте – училище Лядова. 10. Ковычка и Кавычка В журнальном варианте Кавычку называют Ковычкой. 11. Катька и Катя Интересная деталь. Практически везде в первых частях романа в «Костре» Саня называет Катю Катькой. Катей – очень редко. В новом варианте романа кое-где «Катька» осталась, но в большинстве мест она упоминается уже как «Катя». 12. Где училась Марья Васильевна В 25 главе журнального варианта «Татариновы» о Марье Васильевне: «Она училась в медицинском институте». Впоследствии это было чуть изменено: «Она училась на медицинском факультете». 13. О болезнях Как известно из романа, сразу после испанки Саня заболел менингитом. В журнальном варианте дело обстояло гораздо драматичней; да и сама глава называлась «Три болезни»: «Вы думаете, может быть, что, однажды очнувшись, я стал поправляться? Ничуть не бывало. Едва оправившись от испанки, я заболел плевритом — и не каким-нибудь, а гнойным и двусторонним. И снова Иван Иваныч не согласился с тем, что моя карта бита. При температуре сорок один, при пульсе, падавшем каждую минуту, я был посажен в горячую ванну, и, к удивлению всех больных, не умер. Исколотый и изрезанный, я очнулся через полтора месяца, как раз в ту минуту, когда меня кормили молочной кашей, снова узнал Ивана Иваныча, улыбнулся ему и к вечеру опять потерял сознание. Чем я захворал на этот раз, этого, кажется, не мог определить и сам Иван Иваныч. Знаю только, что он часами сидел у моей постели, изучая странные движения, которые я делал глазами и руками. Это была, кажется, какая-то редкая форма менингита — страшной болезни, от которой поправляются очень редко. Как видите, я не умер. Напротив, в конце концов я снова пришел в себя и, хотя долго еще лежал с закатанными к небу глазами, однако был уже вне опасности». 14. Новая встреча с доктором Детали и даты, которые были в журнальном варианте, в книжном убираются. Было: «Удивительно, как мало переменился он за эти четыре года», стало: «Удивительно, как мало переменился он за эти годы». Было: «В 1914 году, как член партии большевиков, он был сослан на каторгу, а потом на вечное поселение», стало: «Как член партии большевиков, он был сослан на каторгу, а потом на вечное поселение». 15. Оценки «Посы» – «посредственно» журнального варианта становятся «неудами» в книжном. 16. Куда уезжает доктор В журнальном варианте: «На Дальний Север, на Кольский полуостров». В книжном: «На Крайний Север, за Полярный круг». Везде, где в журнальном варианте упоминается Дальний Север, в книжном издании – Крайний Север. 17. Сколько лет было Кате в 1912? Глава «Катькин отец» (журнальный вариант): «Ей было четыре года, но она ясно помнит этот день, когда уезжал отец». Глава «Катин отец» (книжный вариант): «Ей было три года, но она ясно помнит тот день, когда уезжал отец». 18. Через сколько лет Санька встретился с Гаером Кулием? Глава «Заметки на полях. Валькины грызуны. Старый знакомый» (журнальный вариант): «С минуту я сомневался — ведь я его больше десяти лет не видел». Десять лет – этот срок полностью совпадает с тем, что было указано ранее в 13 главе. А теперь книжный вариант: «С минуту я сомневался — ведь я его больше восьми лет не видел». Сколько прошло лет – 10 или 8? События в вариантах романа начинают расходиться по времени. 19. Сколько лет Сане Григорьевой Опять про расхождения по времени. Глава «Бал» (журнальный вариант): «— Сколько ей лет? — Пятнадцать». Книжный вариант: «— Сколько ей лет? — Шестнадцать». 20. Сколько стоил билет до Энска? В журнальном варианте (глава «Еду в Энск»): «У меня было только семнадцать рублей, а билет стоил ровно втрое». Книжный вариант: «У меня было только семнадцать рублей, а билет стоил ровно вдвое». 21. Где Саня? Училась ли Саня Григорьева в школе, когда ее брат приехал в Энск? Загадка. В журнальном варианте мы имеем: «Саня давно уже была в школе». В книжном: «Саня давно уже была на уроке у своего художника». И дальше, в «Костре»: «Она в третьем часу придет. У нее сегодня шесть уроков». В книге просто: «Она в третьем часу придет». 22. Профессор-зоолог В журнальном варианте в главе «Валька»: «Это был известный профессор-зоолог М.» (он же упоминается затем в главе «Три года»). В книжном варианте: «Это был известный профессор Р.». 23. Квартира или кабинет? Что же все-таки располагалось на первом этаже школы? Журнальный вариант (глава «Старый друг»): «На площадке первого этажа, у квартиры Кораблева, стояла женщина в черной шубке, с беличьим воротником». Книжный вариант: «На площадке первого этажа, у географического кабинета, стояла женщина в шубке с беличьим воротником». 24. Сколько теток? Глава «Все могло быть иначе» (журнальный вариант): «Она зачем-то рассказала, что у нее там живут две тетки, которые не верят в бога и очень гордятся этим, и что одна из них окончила философский факультет в Гейдельберге». В книжном варианте: «три тетки». 25. Кто у Гоголя небокоптитель? Журнальный вариант (глава «Марья Васильевна»): «Я отвечал, что у Гоголя все герои — небокоптители, кроме типа художника из рассказа «Портрет», который все-таки кое-что сделал согласно своим идеям». Книжный вариант: «Я отвечал, что у Гоголя все герои — небокоптители, кроме типа Тараса Бульбы, который все-таки кое-что сделал согласно своим идеям». 26. Лето 1928 или лето 1929? В каком же году Саня поступил в летную школу? Когда ему исполнилось 19 лет: в 1928 (как в книге) или в 1929 (как в «Костре»)? Журнальный вариант (глава «Летная школа»): «Лето 1929 года». Книжный вариант: «Лето 1928 года». Когда кончились теоретические занятия можно не сомневаться – в обоих вариантах: «Так проходил этот год — трудный, но прекрасный год в Ленинграде», «Прошел месяц, другой, третий. Мы кончили теоретические занятия и окончательно перебрались на Корпусный аэродром. Это был «большой день» на аэродроме — 25 сентября 1930 года». 27. Видел ли Санька профессоров? В журнальном варианте, описывая свадьбу сестры, Саня утверждает, что «по правде говоря, я впервые в жизни видел настоящего профессора». Конечно, это не так. Он же видел в зоопарке «известного профессора-зоолога М.». Санькина забывчивость исправлена в книжном варианте: «Однажды я уже видел настоящего профессора в Зоопарке». 28. Кто переводит на Север? В августе 1933 года Саня едет в Москву. В журнальном варианте: «Во-первых, я должен был заехать в Осоавиахим и поговорить о моем переводе на Север, во-вторых, мне хотелось повидать Валю Жукова и Кораблева». Книжный вариант: «Во-первых, я должен был заехать в Главсевморпуть и поговорить о моем переводе на Север; во-вторых, мне хотелось повидать Валю Жукова и Кораблева». Осоавиахим или Главсевморпуть? В «Костре»: «Меня очень вежливо приняли в Осоавиахиме, потом в Управлении Гражданского Воздушного Флота». В последующих изданиях: «Меня очень вежливо приняли в Главсевморпути, потом в Управлении Гражданского воздушного флота». 30. Сколько лет Саня не общался с Катей? Журнальный вариант: «Конечно, я совершенно не собирался звонить Кате, тем более, что за эти два года я только однажды получил от нее привет — через Саню, — и все было давно кончено и забыто». Книжный вариант: «Конечно, я совершенно не собирался звонить Кате, тем более что за эти годы я только однажды получил от нее привет — через Саню — и все было давно кончено и забыто». 31. Сальские степи или Крайний Север? Где же был Валя Жуков в августе 1933 году? Журнальный вариант: «Мне вежливо сообщили — из лаборатории профессора М., что ассистент Жуков находится в Сальских степях и едва ли вернется в Москву раньше, чем через полгода». Книжный вариант: «Мне вежливо сообщили, что ассистент Жуков находится на Крайнем Севере и едва ли вернется в Москву раньше чем через полгода». Возможно, что встреча на Севере Григорьева и Жукова первоначально автором и не планировалась. 32. Где этот дом? Журнальный вариант (глава «У доктора в Заполярье»): ««77»… Не трудно было найти этот дом, потому что вся улица состояла только из одного дома, а все остальные существовали только в воображении строителей Заполярья». В книжном варианте 77 отсутствует. Откуда взялся этот номер дома? Доктор дал адрес «Заполярье, улица Кирова, 24». Нигде большее 77-й номер дома в тексте романа не упоминается. 33. Дневники Альбанова В отличие от книжных изданий, в журнальной публикации главы «Читаю дневники» содержится примечание с указанием на первоисточник: «В этой главе использованы опубликованные в 1914 году дневники штурмана В. И. Альбанова, участника экспедиции лейтенанта Брусилова на шхуне „Св. Анна”, вышедшей из Петербурга летом 1912 года с целью пройти во Владивосток и пропавшей без вести в Большом Полярном Бассейне». 34. Кто такой Иван Ильич? В журнальном варианте в дневниках Климова/Альбанова появляется неизвестный персонаж: «У меня не выходит из головы Иван Ильич — в ту минуту, когда, провожая нас, он говорил прощальную речь и вдруг замолчал, сжав зубы и осмотревшись с какой-то беспомощной улыбкой», «Самую тяжелую форму цынги я наблюдал у Ивана Ильича, который болел ею почти полгода и лишь нечеловеческим усилием воли заставил себя выздороветь, то-есть просто не позволил себе умереть», «Снова думал об Иване Ильиче». Разумеется, Татаринова звали Иван Львович. В книжном издании указаны именно это имя и отчество. Откуда же в «Костре» взялся Иван Ильич? Невнимательность автора? Ошибка при публикации? Или какая-то другая, неизвестная причина? Непонятно… 35. Различия в датах и координатах в дневниковых записях Журнальный вариант: «Мне кажется, последнее время он был немного помешан на этой земле. Мы видели ее в августе 1913 года». Книжный вариант: «Мне кажется, последнее время он был немного помешан на этой земле. Мы видели ее в апреле 1913 года». Журнальный вариант: «На ESO море до самого горизонта свободно от льда», книжный вариант: «На OSO море до самого горизонта свободно ото льда». Журнальный вариант: «Впереди, на ENE, кажется, совсем недалеко, виден за сплошным льдом скалистый остров», книжный вариант: «Впереди, на ONO, кажется, совсем недалеко, виден за сплошным льдом скалистый остров». 36. Когда был расшифрован дневник Климова? В журнальном варианте содержится очевидная ошибка: «Поздней ночью в марте 1933 года я переписал последнюю страницу этого дневника, последнюю, которую мне удалось разобрать». В марте 1933 года Григорьев был еще в Балашовской школе. Без сомнения, правильный вариант в книжном издании: «в марте 1935 года». По этой же причине не убедительны журнальные: «Скоро двадцать лет, как была высказана «детская», «безрассудная» мысль покинуть корабль и итти на землю «Св. Марии»». Книжный вариант соответствует 1935 году: «Минуло двадцать лет, как была высказана «детская», «безрассудная» мысль покинуть корабль и идти на Землю Марии». 37. Павел Иваныч или Павел Петрович В журнальном варианте лисью кухню в главе «Мы, кажется, встречались…» показывает Павел Иваныч, в книжном варианте – Павел Петрович. 38. Про Лури В книжном варианте, описывая события, связанные с Ваноканом, Саня сначала постоянно называет своего бортмеханика по имени – Саша, а затем, только по фамилии. Похоже, что автор пришел к выводу, что два Саши сразу – это слишком много, и при дальнейшей публикации глав, а также в книжном варианте все те же события описываются с упоминанием только фамилии бортмеханика – Лури. 39. Шестилетний ненец В 15 главе «Старый латунный багор» журнального издания очевидная опечатка. Шестидесятилетний ненец в «Костре» стал шестилетним. 40. Про меланхолическое настроение В первой главе пятой части есть один забавный момент. В классическом книжном варианте: «В гостиницах у меня всегда становится меланхолическое настроение». В журнальном было гораздо интереснее: «В гостиницах меня всегда тянет выпить, и становится меланхолическое настроение». Увы, вариант с выпивкой в гостиницах не прошел проверку временем. 41. ЦО «Правда» Практически везде (за редким исключением) автор называет центральный орган печати полным названием с аббревиатурой ЦО «Правда» – так, как это было принято в то время. В книжном издании осталась просто «Правда». 42. 1913? В журнальном варианте главы «Читаю статью «Об одной забытой экспедиции»» явная ошибка: «Он вышел осенью 1913 года на шхуне «Св. Мария», с целью пройти северным морским путем, то есть тем самым Главсевморпутем, в управлении которого мы находимся». Что это: опечатка, последствия правки или ошибка автора – непонятно. Разумеется, речь может идти только об осени 1912 года, как это указано в книжном издании. 43. Встреча с Ч. Детали встречи Сани в Москве с легендарным летчиком Ч. в журнальном и книжном вариантах разнятся. По «Костру» «он в восемь часов приедет с аэродрома», в книге: «в десять». От «Правды» до квартиры Ч. «по меньшей мере четыре километра» (в «Костре») и «по меньшей мере шесть километров» в книге. 44. «Фром»? В 14 главе пятой части «Прощальные письма» журнального варианта очевидная опечатка: «параллельно движению нансеновского «Фрома»». В книжном издании правильный вариант «Фрам». 45. Что было в Рапорте Имеются существенные различия в Рапорте капитана Татаринова в журнальном и книжном вариантах. В «Костре»: «В широте 80° обнаружен широкий пролив или залив, идущий от пункта под литерой «С» в нордовом направлении. Начиная от пункта под литерой «Ф», берег круто поворачивает в вест-зюйд-вестовом направлении». В книге: «В широте 80° обнаружен широкий пролив или залив, идущий от пункта под литерой С в OSO направлении. Начиная от пункта под литерой Ф берег круто поворачивает в зюйд-зюйд-вестовом направлении». 46. Кончилась полярная жизнь Любопытная деталь из альтернативной журнальной концовки романа. Саня Григорьев прощается с Севером: «В 1937 году я поступил в Академию военно-воздушного флота и с тех пор Север и все, что с детских лет было связано с ним, отодвинулось и стало воспоминанием. Моя полярная жизнь кончилась, и, вопреки утверждению Пири, что, однажды заглянув в Арктику, вы будете стремиться туда до гроба, на Север я едва ли вернусь. Другие дела, другие мысли, другая жизнь». 47. Дата смерти И. Л Татаринова В эпилоге в «Костре» надпись на памятнике: «Здесь покоится тело капитана Татаринова, совершившего одно из самых отважных путешествий и погибшего на обратном пути с открытой им Северной Земли в мае 1915 года». Почему май? В главе «Прощальные письма» последний рапорт капитана Татаринова был написан 18 июня 1915 года. Поэтому единственно правильной датой является дата в книжном варианте: «июнь 1915 года». Об иллюстрациях Первым иллюстратором «Двух капитанов» стал Иван Харкевич. Именно с его рисунками печатался роман в «Костре» на протяжении двух лет. Исключение составляют номера 9 и 10 в 1939 году. В этих двух номерах рисунки Иосифа Еца. А дальше, с № 11-12 продолжилась публикация с рисунками И. Харкевича. Чем была вызвана эта временная замена художника – непонятно. Следует отметить, что Иосиф Ец иллюстрировал другие произведения Каверина, но его рисунки к первым главам четвертой части совсем не соответствуют стилистике рисунков Харкевича. Саню, Петьку и Ивана Ивановича читатели привыкли видеть другими. Всего в журнале 89 иллюстраций: 82 – И. Харкевича и 7 – И. Еца. Особенный интерес представляет заглавная иллюстрация, публиковавшаяся в каждом номере. Внимательно изучив этот рисунок, нетрудно убедиться, что изображенного на ней эпизода в романе нет. Самолет, пролетающий над затертым льдами кораблем. Что это? Фантазия художника, или же «тех. задание» автора – ведь роман в 1938 году еще не был дописан? Можно только гадать. Возможно даже, что автор в дальнейшем планировал рассказать читателям о том, как была найдена шхуна «Святая Мария». Почему бы и нет? Рисунки Ивана Харкевича (№№ 8—12, 1938; №№ 1, 2, 4—6, 1939) https://kid-book-museum.livejournal.com/1...
|
| | |
| Статья написана 25 марта 2018 г. 21:14 |
 
Приглашаем посетить один из самых музыкальных и поэтических городов Беларуси – сердце «Славянского базара» – древний Витебск «образца» 1987 года, и пройтись по его старинным улочкам, где в разное время прогуливались А.Пушкин, Н.Гоголь, И.Бунин, М.Шагал, К. Малевич, М. Добужинский, Л. Лисицкий... (д/ф Віцебск. 1987, сцэн. Н. Громава, В. Басаў; рэж. В. Басаў; апер. І. Скарынаў) — см. комментарий Смотрите фрагмент документального фильма «Витебск» из цикла «Города Советского Союза» об одном из древнейших городов Беларуси, отметившем свое 1000-летие в 1974 году (БТ, «Телефильм», 1987 год) https://vk.com/belteleradiofond Вначале он был оплотом ортодоксального иудаизма, затем хасидизма ХАБАД, а после – центром сионистов из «Ховевей Цион» и социалистов из Бунда. Много замечательных имен связано с Витебском, но больше всего — имя Марка Шагала. О Витебске писали Бунин, Шкловский, Эйзенштейн, Паустовский... Литературные портреты города есть в прозе Ф. Булгарина, И. Лажечникова, И. Бунина, С.Ан-ского, В. Шкловского, С. Эйзенштейна, К. Паустовского, С. Маршака... Согласно одной версии, живописец А. В. Куприн*, побывавший в Витебске на 1-й выставке местных и московских художников в 1919 г; (Источник: Энциклопедия русского авангарда http://rusavangard.ru/online/biographies/...) назвал город "белорусским Толедо". По другой версии, знаменитый И. Е. Репин назвал город "российским Толедо", и есть в этом талантливом сравнении художественная убедительность: облик Витебска, как и облик прославленного Эль Греко испанского города, впечатлял прихотливыми силуэтами церквей, костелов, синагог, колоколен, вырезными зазубринами увенчивавших холмы высокого берега Двины. _ *Куприн Александр Васильевич (1880-1960) — живописец, один из организаторов объединения «Бубновый Валет». С. М. Гершов ошибается, когда называет его в числе преподавателей Витебского художественного училища. Однако, по меньшей мере, одна картина художника находилась в собрании Музея современного искусства, который существовал при училище. Также две его картины экспонировались на Первой государственной выставке картин местных и московских художников, проходившей в Витебске в 1919 г. http://chagal-vitebsk.com/node/72 *** 1925... "Весь Витебск на экране" 1925 кінахроніка "II сесія ЦВК у Віцебску" (апер. М. Лявонцьеў і Я. Глас) 1927 Кастусь Каліноўскі Кастусь Каліноўскі — героіка-прыгодніцкі фільм рэжысёра Уладзіміра Гардзіна. Зняты на «Белдзяржкіно». Прэм'ера: 14 жніўня 1928 (Мінск), 4 снежня 1928 (Масква). 7 ч., 1978 м, 39 мин 34 сек Жанр нямое кіно Рэжысёр Уладзімір Расціслававіч Гардзін Аўтар сцэнарыя Уладзімір Расціслававіч Гардзін Аператар Навум Рыгоравіч Аптэкман Кінакампанія Беларусьфільм. Акцёры: Мікалай Сіманаў, Таццяна Булах-Гардзіна, Уладзімір Уладамірскі, Рыгор Ге, Фларыян Ждановіч, Мікалай Камісараў, Барыс Ліванаў, Соф'я Магарыл, Генадзь Мічурын, Барыс Платонаў, Валерый Плотнікаў, Павел Самойлаў, А. Церах, Аляксей Феона, Канстанцін Хахлоў, Кандрат Якаўлеў. 1929 Хамелеон «Хамелеон», СССР, БЕЛГОСКИНО, 1930, ч/б, 7 ч., 2000 м Сатирическая комедия. О нэпмане, пытающемся приспособиться к условиям новой действительности. Копия фильма в ГФФ не хранится. В ролях: Даниил Введенский, Василий Макаров, Петр Галаджев, А. Садовский, Ф. Гурок. Режиссер: Александр Левшин. Авторы сценария: Александр Левшин, А. Муромский, Елизавета Кольцова. Оператор: Самуил Файнман. Художник-постановщик: Борис Альмендинген. 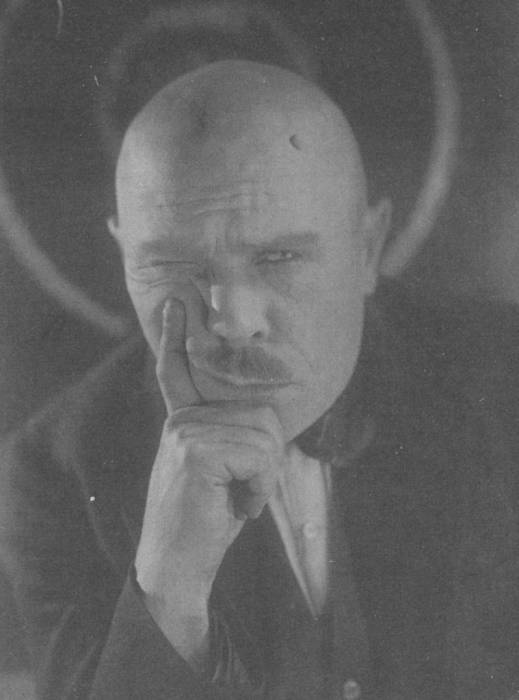
1935 ИНЖЕНЕР ГОФ (1935) другое название — Земля впереди, ч/б, звук, 7 ч., 2000 м Окрестности Витебска Режиссеры Рашель Мильман-Кример, Борис Шпис Сценарист Мануэль Большинцов Оператор Евгений Михайлов (V) Композитор Иван Дзержинский Художники Исаак Махлис, Виктор Савостин Жанр драма Кинокомпания Белгоскино Анатолий Кузнецов инженер Гоф — главная роль Георгий Горбунов Чернявский Василий Меркурьев Стась Е. Чеснокова Алёнка Любовь Мозалевская председатель колхоза Степан Каюков Олесь муж председателя колхоза Иван Назаров дед Максим Федор Чагин дед Данила Георгий Тейх Семен Антонов глухой старик Владимир Сладкопевцев горбун Борис Лифанов Зиновий Григорьевич Социальная дpама о классовой боpьбе в белоpусской деpевне в Полесье. Пеpвая большая pабота в кино В.В. Меpкуpьева (Стась). Режиссер фильма в 1937 году был репрессирован. Фильм не сохранился. 
1936 Днепр ў агні Белгоскино, 1936-1937, звук, ч/б, 65 мин, 7 ч.. 1791 м Драма Режиссеры Чеслав Сабинский, Сигизмунд Навроцкий Сценаристы Илларион Барашко, Григорий Кобец Операторы Андрей Булинский, Давид Шлюглейт Композиторы Виктор Витлин, Валерий Желобинский Художник Роберт Фэдор Звукорежиссеры: Николай Косарев, К. Познышев. Актеры Владимир Крылович Никифор Чех — главная роль Б. Томский Коган, лесопромышленник Александр Борисов Пётр Белов, большевик Александр Полибин Шимон Перс рабочий-вязчик Михаил Шифман Мойша, старый приказчик В. Рубинова Эстер Производство Белгоскино Жанр социальная драма Дореволюционные годы. Плотовщики, угнетаемые лесопромышленником Коганом, решают объявить стачку. Фильм не сохранился. 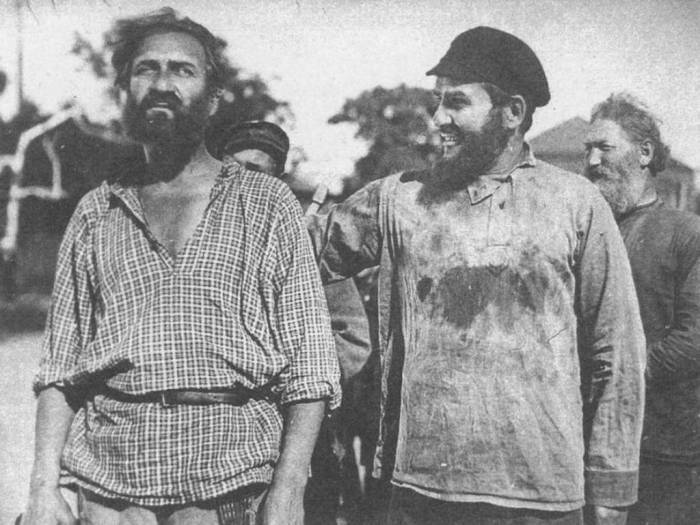
13 апреля 1937 года на экраны кинотеатров Москвы вышел белорусский историко-революционный фильм "Днепр в огне", снятый в Лоеве и Витебске. Фильм имел отличную по тем временам рекламу в газетах (в частности, в "Вечерней Москве"). По некоторым рекламным анонсам можно восстановить кадры запрещенного и не сохранившегося фильма, в том числе и те, которые были сняты в Витебске, на Западной Двине. С. Мартинович 



***
В окрестностях Витебска неоднократно снимали кинофильмы. Впервые об этом я услышал еще в начале 1960-х годов из рассказов моего школьного учителя физики Семена Станиславовича Руберта (1912-1993). Нелегко сложился его жизненный путь. До семи лет мальчик батрачил у кулака, затем попал в детскую коммуну, которая размещалась неподалеку от современного поселка Октябрьский Витебского района. С. Руберт закончил рабфак, потом пединститут. Участвовал в Великой Отечественной войне. После ее окончания работал учителем в Витебском районе и в Витебске. Вот именно Семен Станиславович однажды прямо на уроке рассказал нам, учащимся витебской СШ № 1, о том, как он, будучи воспитанником коммуны, снимался в массовке для кино. Когда это было, для какой картины, кто снимал, он, естественно, не помнил. В памяти только осталось то, что однажды в их коммуну приехали какие-то незнакомые мужчины с диковинными аппаратами. Сначала их построили, а затем приезжие попросили всех ребят пробежать гурьбой от одного места к другому. Притом обязательно надо было не смотреть ни на самих приезжих, ни их аппараты, а только себе под ноги... Кто и какой именно кинофильм снимали тогда, установить и сейчас уже, наверное, невозможно. Но случай этот остался в моей памяти вместе с другими интересными рассказами Семена Станиславовича. А вот о двух других случаях, когда на территории Витебского района снимали кинофильмы, какие имено фильмы, кто их снимал и что вообще было с ними связано, расскажу. В 1926 году была создана киностудии «Беларусьфильм». Ее дебют отметился только двумя небольшими кинокартинами. Но в следующем году было снято уже четыре киноленты. Одной из них являлась картина «Кастусь Калиновский». Снимал ее по собственному сценарию известный в то время режиссер и актер Владимир Гардин (1877-1965). Фильм, естественно, был еще немой и черно-белый. Его первый вариант состоял из семи частей (впоследствии создали еще два варианта, более коротких по метражу). Главную роль в картине доверили недавнему выпускнику Ленинградского института сценического искусства Николаю Симонову — в будущем народному артисту СССР, Герою Социалистического труда, трижды лауреату Сталинской премии. Одной из них Н. Симонов (1901-1973) был удостоен за роль Петра Первого в одноименном фильме, вошедшем в золотой фонд советской кинематографии. Кроме него в кинофильме «Кастусь Калиновский» были заняты и другие начинающие актеры, впоследствии ставшими хорошо известными. Это мхатовец, народный артист СССР Борис Ливанов (1904-1978), народный артист УССР Николай Комиссаров (1890-1957), актеры купаловского театра, народные артисты СССР Владимир Владимирский (1893-1971) и Борис Платонов (1903-1967), знаменитый белорусский актер и режиссер Флориан Жданович (1884-1937). Принято считать, что съемки первого белорусского исторического фильма проходили под Минском. Однако недавно удалось установить, что неподалеку от столицы снимались только часть фильма. Другая снималась в окрестностях Витебска. Причем, с помощью витебских... музейщиков. В первой половине июля 1927 года съемочная группа обратилась в Витебское отделение Белорусского государственного музея (так тогда назывался нынешний областной краеведческий музей) с просьбой выделить для съемок кинофильма «Кастусь Калиновский» некоторые экспонаты из фонда музея, а именно: ружья, сабли, пистолеты середины 19-го века. И, как следует из архивных документов, 20 единиц старого оружия действительно были выделены на временное пользование до 1 августа. Однако, в указанные сроки съемки не закончились. Более того, кинематографистам понадобились еще девять старинных ружей. Витебским музейщикам пришлось выручать киношников... Никаких других подробностей того, как снимали этот фильм, пока найти, к сожалению, не удалось. А вот история более поздняя. Как вспоминала дочь В. Э. Мейерхольда Ирина Всеволодовна (в будущем жена народного артиста СССР Василия Меркурьева), в 1934 году группа кинематографистов «Белкино» (так называли тогда «Беларусьфильм») снимала кинокартину «Земля впереди». Часть съемок проходила под Ленинградом, другая — под Витебском. Неподалеку от него, на мелиоративной станции, работа кипела в отсутствии В. Меркурьева, приглашенного на роль Стася: в Белоруссию он выехать не мог, так как Театр актерского мастерства, в котором он выступал, отправилась в гастрольную поездку на побережье Черного моря. И вот в один из дней, когда киношники уже потеряли всякую надежду на приезд актера, в доме, где жили кинематографисты, неожиданно открылась дверь и на пороге увидели улыбающегося Василия Васильевича. Он успел очень кстати. Съемки продолжились. «Во время съемок строптивая лощадь сбросила одного актера. Я (лошади были моей страстью) вскочила на нее и принялась успокаивать. Василий Васильевич сказал потом, что из-за этого случая он меня и полюбил. Так была решена его судьба», — вспоминала Ирина Всеволодовна. И еще ей запомнился состоявшийся тогда, летом, 1934 года, вкусный ужин, состоявшийся из сочинских гостинцев и белорусской картошки и яиц. Кстати, вскоре В. Меркурьев и И. Мейерхольд поженились. Они прожили долгую и счастливую жизнь. А. Подлипский (Было опубликовано в газете "Впрок-Витебск") Новости Витебска 27.06.2014 в 16:51 Источники: https://www.opentv.tv/shalom-tebe-moj-dre... Инна Абрамова: в 1925 году вышел фильм "Весь Витебск на экране", а в 1927 г. снимался фильм "Кастусь Калиновский" http://www.prok.by/News/We_filmed_the_movie https://vkurier.by/129954 http://kino-teatr.ru/ Ост. фильмы: https://fantlab.ru/blogarticle51492
|
| | |
| Статья написана 25 марта 2018 г. 14:56 |
Сцена массового помешательства в «Мастере и Маргарите» – с хоровым исполнением песни «Славное море, священный Байкал...» – вероятно, восходит к эпизоду из «Властелина мира». Изобретатель Штирнер мечтает, как он «подчинит своей воле миллионы людей, внушит им мысль о необходимости войны», и проводит испытания гипноиндуктора. О первых результатах испытаний пресса сообщает:
МАССОВЫЙ ПСИХОЗ Вчера вечером в городе наблюдалось странное явление. В одиннадцать часов ночи, в продолжение пяти минут, у многих людей – число их пока не установлено, но, по имеющимся данным, оно превышает несколько тысяч человек – появилась навязчивая идея, вернее, навязчивый мотив известной песенки «Мой милый Августин». У отдельных лиц, страдающих нервным расстройством, подобные навязчивые идеи встречались и раньше. Необъяснимой особенностью настоящего случая является его массовый характер. Один из сотрудников нашей газеты сам оказался жертвой этого психоза. Вот как он описывает событие: – Я сидел со своим приятелем, известным музыкальным критиком, в кафе. Критик, строгий ревнитель классической музыки, жаловался на падение музыкальных вкусов, на засорение музыкальных эстрад пошлыми джаз-бандами и фокстротами. С грустью говорил он о том, что все реже исполняют великих стариков: Бетховена, Моцарта, Баха. Я внимательно слушал его, кивая головой, – я сам поклонник классической музыки, – и вдруг с некоторым ужасом заметил, что мысленно напеваю мотив пошленькой песенки: «Мой милый Августин». «Что, если бы об этом узнал мой собеседник? – думал я. – С каким бы презрением он отвернулся от меня!..» Он продолжал говорить, но будто какая-то навязчивая мысль преследовала и его...От времени до времени он даже встряхивал головой, точно отгонял надоедливую муху. Недоумение было написано на его лице. Наконец критик замолчал и стал ложечкой отбивать по стакану такт, и я был поражен, что удары ложечки в точности соответствовали такту песенки, проносившейся в моей голове. У меня вдруг мелькнула неожиданная догадка, но я еще не решался высказать ее, продолжая с удивлением следить за стуком ложечки. Дальнейшие события ошеломили всех! – Зуппе, «Поэт и крестьянин», – анонсировал дирижер, поднимая палочку. Но оркестр вдруг заиграл «Мой милый Августин». Заиграл в том же темпе и в том же тоне... Я, критик и все сидевшие в ресторане поднялись как один человек и минуту стояли, будто пораженные столбняком. Потом вдруг все сразу заговорили, возбужденно замахали руками, глядя друг на друга в полном недоумении. Было очевидно, что эта навязчивая мелодия преследовала одновременно всех. Незнакомые люди спрашивали друг друга, и оказалось, что так оно и было. Это вызвало чрезвычайное возбуждение. Ровно через пять минут явление прекратилось. По наведенным нами справкам, та же навязчивая мелодия охватила почти всех живущих вокруг Биржевой площади и Банковской улицы. Многие напевали мелодию вслух, в ужасе глядя друг на друга. Бывшие в опере рассказывают, что Фауст и Маргарита вместо дуэта «О, ночь любви» запели вдруг под аккомпанемент оркестра «Мой милый Августин». Несколько человек на этой почве сошли с ума и отвезены в психиатрическую лечебницу профессора Стравинского. В свою очередь, победа «Августина» над другими мелодиями напоминает сцену из «Бесов»: ...Юлия Михайловна решительно прогнала было Лямшина, но в тот же вечер наши целою компанией привели его к ней, с известием, что он выдумал новую особенную штучку на фортепьяно, и уговорили ее лишь выслушать. Штучка в самом деле оказалась забавною, под смешным названием «Франко-прусская война». Начиналась она грозными звуками «Марсельезы»: Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Слышался напыщенный вызов, упоение будущими победами. Но вдруг, вместе с мастерски варьированными тактами гимна, где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко, послышались гаденькие звуки «Mein lieber Augustin». «Марсельеза» не замечает их, «Марсельеза» на высшей точке упоения своим величием; но «Augustin» укрепляется, «Augustin» все нахальнее, и вот такты «Augustin» как-то неожиданно начинают совпадать с тактами «Марсельезы». Та начинает как бы сердиться; она замечает наконец «Augustin», она хочет сбросить ее, отогнать как навязчивую ничтожную муху, но «Mein lieber Augustin» уцепилась крепко; она весела и самоуверенна; она радостна и нахальна; и «Марсельеза» как-то вдруг ужасно глупеет: она уже не скрывает, что раздражена и обижена; это вопли негодования, это слезы и клятвы с простертыми к провидению руками: Pas un pouce de notre terrain, pas une pierre de nos forteresses! Но уже она принуждена петь с «Mein lieber Augustin» в один такт. Ее звуки как-то глупейшим образом переходят в «Augustin», она склоняется, погасает. Изредка лишь, прорывом, послышится опять «qu'un sang impur...», но тотчас же преобидно перескочит в гаденький вальс. Она смиряется совершенно: это Жюль Фавр, рыдающий на груди Бисмарка и отдающий всё, всё... Но тут уже свирепеет и «Augustin»: слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требования миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников; «Augustin» переходит в неистовый рев... Франко-прусская война оканчивается. У этой сцены есть свои источники, но речь сейчас о другом. «Августин» в «Бесах» превращается из пошлой мелодии в воинственную. Кажется, и эта эволюция получила отражение в романе Беляева: Полосой через город прошла волна какого-то массового пятиминутного помешательства. Крайнее возбуждение охватило всех. И пунктом помешательства на этот раз было слово «война». – Война, война до победы! Смерть врагам! – кричали мужчины, размахивая палками и зонтами, кричали женщины, старики и дети в необычайном задоре и нестройно пели национальные гимны. Лица всех были страшны. Казалось, эти люди уже опьянены кровью и видят перед собой смертельного врага. <…> Припадок безумия прошел так же внезапно, как и начался. Ошеломленные, потрясенные люди смотрели на избитых и раненых, на следы крови на земле, на свои истерзанные, растрепанные костюмы и волосы и не могли понять, что все это значит. Комиссия, созданная для расследования причин массового помешательства людей на мотиве веселой песенки, скоро была преобразована в комитет общественного спасения. Устали? Тогда музыкальная пауза (Mozart vs 007). PS По наблюдению Р. фон Майдель (устное сообщение), в 20 веке «Марсельеза» оправится от поражений, нанесенных ей песенкой «Oh, du lieber Augustin» («Бесы» Достоевского) и гимном «Боже, Царя храни» (увертюра «1812 год» Чайковского), и победит в поединке с «Die Wacht am Rhein» («Casablanca»). *** Не думаю — у Булгакова "массовому помешательству" подверглись только виновные (в том, что соглашались на все эксперименты над собой), а у Беляева — все подряд. Я бы скорее произвел булгаковское хоровое пение от В ответ на .............................. мы, геркулесовцы, как один человек, ответим: <---> и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков», к) поголовным переходом на новый быт, л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит. А также всем, что понадобится впредь. * Признаться, не вполне понял. Смотрите. Перед нами три ситуации: (1) в романе "Властелин мира"; (2) в романе "Золотой теленок"; (3) в романе "Мастер и Маргарита". Мои рассуждения: В (1) группа людей, попавших в сферу действия гипноиндуктора, против своей воли одновременно исполняет одну и ту же песню. Некоторых из них увозят в психиатрическую лечебницу. В (3) сотрудники одного учреждения, загипнотизированные нечистой силой, против своей воли одновременно исполняют одну и ту же песню. Всех увозят в психиатрическую лечебницу. Мой вывод: ситуация (1) повлияла на (3). Теперь Ваши рассуждения: В (2) сотрудники одного учреждения изъявляют готовность к совместным действиям. В (3) сотрудники одного учреждения совершают совместные действия. Ваш вывод: ситуация (2) повлияла на (3), а ситуация (1) не повлияла на (3). Так? Где, на Ваш взгляд, совпадений больше: в (1)→(3) или в (2)→(3)? И почему, если (2)→(3), то (1) не →(3)? * Как Вы круто закрученно сформулировали вопрос... В (1)(3) совпадений, может быть, и больше, но они чисто внешние. А в (2)(3) совпадает уже психология. Причем сотрудники в (2) не просто изъявляют готовность: В особенности смущал пункт о латинском алфавите и о поголовном вступлении в общество «Долой рутину с оперных подмостков». Однако все обернулось мирно. Скумбриевич, правда, размахнулся и организовал, кроме названного общества, еще и кружок «Долой Хованщину», но этим все дело и ограничилось. Т.е. формально они туда вступили. Хотел еще сказать, что не уверен в прочтении Булгаковым беляевского романа, но полез в Сеть за подробностями и обнаружил, что Впервые сокращенный вариант романа с предисловием автора был опубликован в октябре — ноябре 1926 года в газете «Гудок». Так что, наверное, (1) всё-таки →(3), но и (2) тоже. * Ну, можно было бы добавить еще, что комментаторами "МиМ" отмечался параллелизм сцены в прозекторской ("Маргарита увидела отрезанную голову человека <...> живые, полные мысли и страдания глаза") с рассказом, позже романом "Голова профессора Доуэля" (где "голова внимательно и скорбно смотрела", "в глазах была жизнь, была мысль") — цит. по: Белобровцева И., Кульюс С. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": Опыт комментария. Таллин, 2004. С. 270; см. также с. 162-163. Это к вопросу о возможном влиянии Беляева на "МиМ". Что же касается "Властелина мира", то в связи с "МиМ" обращу Ваше внимание еще на фаустианскую тему в нем, а именно, помимо цит. места (дуэт Фауста и Маргариты), на характеристику одной из собак Штирнера: "будто сам черт сидит в этом пуделе". * О МиМ и Голове проф. Д. писал С. Шаргородский в содержательной статье "Голова Берлиоза" (Солн. сплетение. № 7. 1999. С. 50-54) * Вашими стараниями, да. Параллель Доуэль-Берлиоз, кажется, первым предложил Б. Соколов — еще в 1989 г. в коммент. к изд-ю МиМ "Высш. шк." (С. 545). Затем — в кн. "Роман М. Булгакова МиМ: Очерки творч. истории" (М., 1991. С. 140) и в "Булг. энцикл." (М., 1996. С. 349-350). Ссылаясь на послед. публикацию, Шаргородский не приводит аргументацию Соколова и объявляет его параллель ложной — в пользу собственной: "Бальзамо" Дюма — МиМ. Должен сказать, что здесь я на стороне Соколова. * Гораздо трудней предположить, что булгаковсуий хор сослуживцев, грянувший в сотый раз «Славное море, священный Байкал», возник без оглядки на массовый психоз берлинцев, к собственному ужасу вдруг запевших в совершенно неподобающих для этого местах «Мой милый Августин» (Беляев, «Властелин мира»). * В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ ПОЗИТИВИСТ БЕЛЯЕВ И САМ «ЧУДО В РЕШЕТЕ», «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» Текст: Леонид Гиршович Итак, в ящике моего стола снова заживо погребен роман. Мне не привыкать к летаргическим снам моих текстов. Не в издателя корм. Как говорит некий персонаж: «Слова понятны, а мысль тю-тю, утюкает». Бывает, что текст выдыхается прежде времени. Не наполняет собою заранее предназначенный объем до надлежащей упругости. Тогда вещь композиционно не может за себя постоять, тогда она – собачка на трех ножках из анекдота: «Жила-была собачка без одной передней ножки. Захотела пи-пи и упала». Все бывает... Словом, в хрустальном гробу моего письменного стола десять без малого лет как почивает роман в двух частях с хвостиком эпилога. И книжный переплет ему только снится. В начале нового тысячелетия я напечатал первую часть в «NB» (выходил в Иерусалиме такой славный журнал, даже пристойно плативший своим авторам). Якобы через сколько-то лет после встречи этого самого тысячелетия, произойдет еще одна знаменательная встреча – Земли с Мессией, как астрономы с «особым цинизмом» нарекли небесное тело, которое вскорости уже будет видно невооруженным глазом. Многие наши возмущаются: назвать «Спасителем» планету, с которой предстоит столнуться! Что это, примитивное невежество американского астронома китайского происхождения или намеренное оскорбление чувств верующих? По «Эху Москвы» ведутся нескончаемые дебаты об исторической роли России в грядущем конце света. В интеллектуальных кафе Буэнос-Айреса злорадствуют по адресу глобалистов. Спецпосланник американского президента – чернокожий рэппер-проповедник – носится по столицам мира, спеша донести до человечества благую весть из Вашингтона: в Соединенных Штатах полным ходом идет подготовка к эвакуации населения земного шара вкупе со всеми культурными ценностями. (Голоса: «Хотят прикарманить».) Китай занят цитированием Борхеса: Спускался вечер. Небо кишело драконами, На сей раз желтыми. В Германии «зеленые» уходят из жизни на геббельсовский манер, целыми семьями: все кончено. А где-то в Гималаях оттягивается Юра Ясин, в прошлом солдат дивизии «Гивати». Он ни о чем не подозревает. К гималайским пофигистам Мессия пришел давным-давно, сидит вместе с ними и забивает косячок. По вынесении Диагноза – ежели он с большой буквы – жизнь больного наполняется неведомым доселе опытом, им он спешит поделиться со сменившимся хозяином – выжидательно, собачьими глазами смотрит на врача, на сестру. А человечество собачьими глазами смотрит на всякого, кто «что-то знает». На фоне дипломатического ажиотажа оно позволяет скармливать своему легковерию что угодно. То вдруг пускается во все тяжкие «последнего желания». Ярмарка тщеславия в полном разгаре. Москва раздулась от спеси, не может шевельнуть лапками: любимое слово – «престиж». Аэлита Чегодаева, корректор журнала «Знамя Октября», в отчаянии: нет никакой возможности записать дочку в лицей с космическим уклоном. У закончивших этот лицей реальные шансы улететь с Земли. Но туда привозят детей на «джипах» и шестисотых «мерсах». На свое счастье Аэлита получает ужасно престижный заказ: в рамках проекта «Русский литературный канон» переработать все романы Александра Беляева в одну небольшую повестушку, объединенную общим сюжетом. Вышедшее из-под пера Аэлиты и есть вторая часть моего романа. Если первая часть, «Планета Титаник», как я уже говорил, была напечатана, даже принесла своему автору сколько-то презренного металла (примерно тридцать серебренников по местному курсу), то вторую часть, именуемую «Головы профессора Доуэля», все дружно забраковали. Тем досадней, что на мой непредвзятый взгляд автор с задачей справился. В чем же она состояла? Определенно не в зубоскальстве, не в запоздалой пародии. Перемигиваться с ровесниками, с теми, кому за шестьдесят – тоже мне интерес. Сегодня Беляев это в лучшем случае «Эй, моряк, ты слишком долго плавал...». Нет-нет, вторая часть романа – вещь скорее концептуалистская. Ведь концептуалисты только на самый поверхностный взгляд – самых подслеповатых глаз – ерничают, потешаясь над «спелым золотом» соцреализма (как это, по крайней мере, могло казаться в советское время). Сегодня мы понимаем, что и Пригов, и Рубинштейн, и Сорокин – это глубоко искреннее и вообще очень глубокое переживание эпохи средствами современной ей эстетики. Только так и возможно удержать грохот советского времени. Вернее, только так этому времени по силам удержать тебя. Ты бы, может, и мечтал вырваться, но оно держит, не отпускает. Назад в Платонову пещеру! Выстраивать мир, осознанно не желая увидеть его извне, лишь по тем наскальным картинкам, в которых предписано было его запечатлевать. Отсюда бой шестидесятничеству с его «правдой жизни». Беляевские романы сообщаются один с другим, как вагоны железнодорожного состава. Честно говоря, пока они были набиты читателями, я по ним не удосужился протиснуться. Однажды, гостя на зимних каникулах в Шяуляе, увидел книжку с картинно парящим юношей на потрепанной обложке. Фамилию писателя, разумеется, слышал. И вот, грызя сваренные в меду теннисные мячики – огромные литовские тейглах – и поедая ромбики морковного печенья непривычно пряного вкуса, я прочитал два романа, с тех пор ассоциирующиеся у меня с квазизаграничностью этих сластей. В одном маленький уродец на гоночном автомобиле с помощью науки – которая когда-нибудь все сможет – превращается в красавца. Другой назывался «Властелин мира» – Германия без гитлеровцев, хотя вроде бы налицо предвоенная современность. Сам Беляев представлялся фигурой загадочной: неясно даже где и когда жил. Потом шел фильм «Человек-Амфибия», все тех же неопределенных кровей: цветная капиталистическая злачность под советским углом зрения, роковой конец. На рубеже «миллениумов» я задумался о Беляеве, о его романах, написанных рабкоровским пером, о его тревоживших советское воображение сюжетах, о его героях, выходящих из костюмерной провинциального театра оперетты. Согласен, костюмерная, она и в столице костюмерная. Но провинция мечтательна, эта мечтательность – оборотная сторона ее честолюбия. Беляев – Александр Грин русского гностицизма образца того времени, когда буквы, составлявшие аббревиатуру РСФСР, отделялись точками. Одна шестая суши с этим клеймом едва лишь стартовала в дикий космос, но все, кто не успел попрыгать на землю, сказали себе: больше под ногами земли не будет, а значит неизведанное счастье нас ждет в условиях невесомости, мирового холода и специального питания. Миф о загранице, он же миф о планете Земля, завладел воображением провинциалов с живостью, недоступной москвичам. Единственно возможным способом исцелиться от этой напасти было превратиться в москвичей. Беляевская фантастика, где сквозь хрустальную мечту о Рио-де-Жанейро, как в телескоп, во всех подробностях смакуется хрустальная мечта человечества о чудесах, поставленных на научную ногу, – чем была она для нового советского горожанина, уже приученного к идее переустройства мира в духе провозглашения Союза Советских Социалистических Республик на Марсе, но еще не отвыкшего от пирамиды из подушечек на постели? Примерно тем же, чем для меня были шяуляйско-еврейские сласти: приторно-пряное лакомство чуть-чуть из другой жизни. Вдруг имя Беляева повстречалось мне в мемуарах эмигрантки военной волны. Авторесса, тип разночинной интеллигентки, описывает, как, будучи жительницей Царского Села, ушла с немцами, впоследствие вместе с Ивановым-Разумником работала в рижской газете «За Родину». Текст малоинтересный. К сожалению, у всей второй эмиграции скулы сведены. Упоминает она и о смерти жившего по соседству Беляева, чья жена с дочерью тоже бежала с немцами. В 20-е годы Москва с Берлином водилась. Вчера еще с Германией воевали, а сегодня две парии послевоенной Европы разгуливали под ручку. Прикажут, будем воевать завтра. И все равно этот враг не как все, «немец» рифмуется с «образец». Берлин был нам примером, немецкие инженеры были нам примером. А немецкий порядок, а немецкая пунктуальность, а их умение работать... Да чего говорить! Кабы не наши исконные пороки – следует перечисление наших достоинств – русский бы сделался немцем. (Вопрос о превращении недисциплинированного русского в дисциплинированного француза никогда не стоял.) «Американская деловитость» тоже неплохо, но раз этот локоть не укусишь, то незачем выкручивать им руки. В общем и целом для толкового русского Германия превыше всего. И да будет «золлинген» синонимом качества, а Марбург родиной премудрости. -- Беляев забыт настолько, что пора его вспомнить, – сказал я себе. Некому меня было поправить: «Еще не настолько забыт, чтоб вспоминать». Я прочитал подряд все его романы. (Точно так же с задержкой в двадцать лет я просмотрел подряд все «Семнадцать мгновений весны».) У Беляева много разного географического добра: и Индия, и Аргентина, и Калифорния, и Лазурный Берег, и океанский пароход, «плывущий средь красноватых водорослей, принесенных течением из Саргассова моря». Но Германия у него иная, не имеющая ничего общего с вышеперечисленным собранием деликатесов. Птичьего молока там нет – там есть просто молоко. Ловцов жемчуга там тоже нет – там ходят в добротных костюмах и культурно ведут себя на улицах. Немцы вошли в Пушкин в сентябре сорок первого года. Беляев – автор уймы научно-фантастических романов, написанные «не то подростком, не то переодетой женщиной». Отсутствие художественных претензий не спасло НФ как жанр. Сугубая иллюстрация научно-популярных статей, научная фантастика тем не менее была изгнана из советской литературы тридцатых. Каково было наследнику Циолковского, посылавшему в космос флот – под алыми парусами – оказаться во власти вермахта? Той самой, взлелеянной в мечтах, заграницы... Или в своем скафандре из гипса, полуживой, он приветствовал конец ненавистной «Р.С.Ф.С.Р», которую, стиснув зубы, как от привычной боли, приходилось славословить? Предпочла же его вдова для себя и ребенка нацистские ужасы большевистским (расстрел евреев был произведен едва ли не на глазах у всех, и потом кидали в толпу вещи прямо из окон). Мир беляевской фантастики покоится на трех слонах. Это импортный торт, увенчанный марципановой фигуркой гениального ученого-одиночки. Это «чудеса в решете» в результате сделанного им открытия, прекрасно вписавшегося бы в стихию всего иностранного, будь его гениальность поуживчивей. И это звездный поселок, основанный энтузиастами на бескрайних просторах космоса под эгидой какой-нибудь аббревиатуры, где наши ученые без труда ладят с иностранцем. Звезда КЭЦ – аллегория космического ГУЛАГа. Молодого ленинградского ученого втолкнули в остановившийся автомобиль – и вот уже захватывающее дух этапирование в космическое будущее. У входа в баню, где перед отправкой на звезду КЭЦ проходят санобработку, он к великой своей радости встречает жену: Тоня тоже здесь! Ему объяснили, что «он – разносчик тифа, паратифа, коклюша, дизентерии, холеры. Что на руках у него синегнойные палочки и туберкулез. На ботинках сибирская язва. У него полные карманы анаэробов, столбняка. В складках пальто возвратная лихорадка, ящур. На шляпе – бешенство, оспа, рожа». Много лет ему предстоит провести на звезде КЭЦ – в отсутствие гравитации, получая такую пищу, для которой не нужны зубы, не произнося ни единого слова и не слыша ни единого слова кругом. Да и зачем, когда все мысли читаются. Лишь изредка приходили письма с Земли, на которые он жадно набрасывался. «Письмо было от Тони. Оказывается, она досрочно вернулась домой. Ее затребовал назад Институт Хлеба, там вовсю шла работа по созданию «вечного хлеба». Принцип очень прост: хлеб добывают из воздуха...» Конец «Звезды КЭЦ» имеет общую интонационную окрашенность с финальной сценой «Доктора Живаго». Пастернак, кокетничая «созвучьем» эпохе, вполне мог в какой-то момент зазвучать в одной тональности с Беляевым, даже не подозревая об этом и уж наверное ни разу в него не заглянув. Гораздо трудней предположить, что булгаковсуий хор сослуживцев, грянувший в сотый раз «Славное море, священный Байкал», возник без оглядки на массовый психоз берлинцев, к собственному ужасу вдруг запевших в совершенно неподобающих для этого местах «Мой милый Августин» (Беляев, «Властелин мира»). В каком-то смысле позитивист Беляев и сам «чудо в решете», «человек-амфибия», представляющий собой симбиоз федоровских идеалов с «петит мор» красивой жизни, на которую он, извиняюсь, торчит, как прыщавый гимназист. Герань в иллюминаторе его ракеты, «Интернационал», исполняемый на мотив танго, – благодаря этому вклад Беляева в формирование советской культуры сопоставим с вкладом Дунаевского-Александрова. Подобно их фильмам и музыке, романы Беляева вполне могут находиться в концептуальной разработке, попытку чего, собственно, я и предпринял, однако, к моему великому непониманию, поздравлений не удостоился. Конечно, я никакой не концептуалист, если уж на то пошло – контекстуалист. А то что бы я делал в эмиграции? В советском пантеоне имя Беляева закамуфлировано. Он лично – белое пятно. Но камуфляжная сетка в любой момент может быть сорвана. А там, глядишь, в ЖЗЛ выйдет книга: «Властелин полумира – Александр Беляев». Поздно, слишком поздно. Тогда как свой роман я попытался напечатать рано, слишком рано. Утешусь тем, что из нас двоих время работает на меня. Напишу еще одну, недостающую часть: «Планета Мессия» – о том, что происходит на ней. Как мессианами намеренно изменена траектория полета Мессии. Они, давно уже сподобившиеся ангельского чина, стремятся к своей утраченой человеческой природе. «Великое бессмертие за маленькую смерть!» «Петит мор...» Роман нуждается в еще одной части, в еще одной точке опоры, без которой он опрокидывается, как собачка о трех ножках, захотевшая пи-пи. Значит, повторяю. Первая часть – «Планета Титаник». Вторая часть – «Головы профессора Доуэля». Третья часть – «Планета Мессия». И эпилог – «Уцелевший из Атлантиды». А весь роман – «Конец света». 10007449-belyaev-STAND.JPG https://static.megashara.com опубликовано у нас 7 Октября 2010 года https://stengazeta.net/?p=10007449 * https://m-bezrodnyj.livejournal.com/19588...
|
| | |
| Статья написана 25 марта 2018 г. 14:49 |
Тонущего спасает морское существо, сразу исчезающее, и спасенный, которого морское существо полюбило, вступает в брак с мнимым спасителем. С этим сюжетом покупают «Русалочку» и «Человека-амфибию».
*** У Беляева в «Сезам, откройся!» богачу предлагают купить слуг-роботов; ночью мошенники, освободившись от металлических оболочек, похищают драгоценности богача. Ср. троянского коня и 40 бочек арест разбойников. *Насчет Беляева поспорю: мне кажется, здесь другая типология. Среди ближайших аналогов — Суок, изображающая заводную куклу. Не андерсеновский ли соловей? *** Сюжет повести «Вечный хлеб» целиком заимствован из «Горшочка с кашей» Гриммов. *** Советская фантастика косноязыка и глуха, как Вселенная. «Мут Анг вернулся к скрипкороялю, в обезлюдевшую библиотеку» (Ефремов И. А. Сборник научно-фантастических произведений. Кишинев, 1987. С. 510). Мут, видите ли, Анг. Сын мустанга и сам в душе мутант. Скрипкорояль. Обезлюдевшая библиотека. Впрочем, и фантаст способен удивить речением: «Можно нанять [слугу] постарше <...> чтобы крепкий был, да только без молодого шала» (Беляев А. Изобретение профессора Вагнера. М., 1989. С. 194). Без молодого шала! *В белорус. яз. это слово тоже есть. И в смоленских говорах; в Ельницком уезде записано "...ти шалъ якей на васъ напалъ..?" (Хвала Рунету, в к-м есть даже "Смоленский обл. словарь" (1914) Добровольского.) А Беляев как раз из смоленских. *** В записной книжке (1913–1914 гг.) Владимира Эрна запечатлено видение новой мировой войны. На вооружении у немцев – «гипнотический дистурбатор», который посылает «гипнотические волны, вносившие заметное расстройство как в организацию борьбы, так особенно подавляюще действовал на психику, вызывая массовые самоубийства и помешательства»*. *** В романе «Властелин мира» описан волновой гипноиндуктор с аналогичными ТТХ, изобретенный немецким ученым. Прямое или опосредованное знакомство Беляева с записями Эрна исключено; совпадение носит конвергентный характер. ____________ * Взыскующие града: Хроника частной жизни русских религиозных философов... / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. И. Кейдана. М., 1997. С. 707. Среди героев романа Беляева «Ариэль» (1941) – «Лолита, такая милая, нежная женщина-полуребенок» (Беляев А. Избр. науч.-фантаст. произв.: В 3 т. [М.], 1958. Т. 3. С. 426)*. https://m-bezrodnyj.livejournal.com/tag/%...
|
| | |
| Статья написана 25 марта 2018 г. 13:42 |
Вопрос о прототипах литературных героев до сих пор остается одним из наиболее проблематичным — если нет прямых авторских указаний. В настоящей статье Виктор Шкловский рассматривается как один из возможных прототипов образа Остапа Бендера в дилогии И.А. Ильфа и Е.П. Петрова. Обнаруживаются коллизийные совпадения с текстом дилогии автобиографических текстов самого Шкловского и воспоминаний современников о нем. Ключевые слова: Шкловский; Ильф; Е. Петров; «Двенадцать стульев»; «Золотой теленок»; Остап Бендер; Каверин; Надежда Мандельштам; прототип; роман; советская литература.
Борис Эйхенбаум в заметке «О Викторе Шкловском» (1929) особо отмечает статус Шкловского как писателя в современной литературе: «... обсуждают не столько его идеи, стиль или теории, сколько что-то другое — его самого: его поведение, тон, намеки, манеру. Он существует не только как автор, а скорее как литературный персонаж, как герой какого-то ненаписанного романа — и романа проблемного»1. Говоря словами современного исследователя, «Шкловский был своего рода воплощением металитературности»2. Б.М. Эйхенбаум прав и не прав одновременно. Уже в это время Виктор Борисович Шкловский был увековечен в романе своего младшего коллеги Вениамина Каверина «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» (1928) под именем Виктора Некрылова. Была написана «Белая гвардия» (1922-1924) Михаила Булгакова, где Шкловский выступил в качестве прототипа Матвея Шполянского. Впереди его ждали «Сумасшедший корабль» (1930) Ольги Форш и «Алмазный мой венец» (1975-1977) Валентина Катаева. Это — те произведения, где либо авторы в принципе не скрывают наличия конкретного прототипа своего героя (мы имеем «роман с ключом»), либо сохранились (как в случае с «Белой гвардией») документальные свидетельства, в том числе — свидетельства самого Шкловского, позволяющие зафиксировать связь между героем и прототипом. Яркость и оригинальность личности и манер Шкловского давали писателям богатый материал, которым они и пользовались. Собственно говоря, об этом и пишет в процитированном нами выше высказывании Эйхенбаум. Однако это не означает, что перечень текстов, в которых отразились впечатления их авторов от встреч со Шкловским, исчерпан. Мы предлагаем рассмотреть вполне вероятную, по нашему мнению, связь с личностью — и, что, пожалуй, еще более важно для литературоведа, с текстами Виктора Шкловского — одного из самых ярких произведений русской советской литературы начала 1930-х гг. — дилогии И.А. Ильфа и Е.А. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Бендер как Мастер Начнем с известного всем эпизода. В главе XXVI «Золотого теленка» неуклонно приближающийся к заветному корейкинскому миллиону Остап Бендер входит в вагон идущего по Турксибу поезда. В поезде — и в купе, которое осчастливливает своим пребыванием командор, — едут журналисты. Собственно говоря, это не журналисты, а писатели. О склонности их к художественному труду свидетельствуют, в частности, две вставные новеллы — «Рассказ господина Гейнриха об Адаме и Еве» и «Рассказ Остапа Бендера о Вечном Жиде». Однако с творчеством возникает заминка. «Потный вал вдохновения», как называют авторы дилогии XXVIII главу «Золотого теленка», никак не влияет на качество производимых пассажирами литерного вагона текстов. И Бендер прибегает к хорошо, судя по всему, испытанному им способу зарабатывания на жизнь. Вот что он говорит недотепе Ухудшанскому: «Вы, я замечаю, все время терзаетесь муками творчества. Писать, конечно, очень трудно. Я, как старый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать. Но я изобрел такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас окатит потный вал вдохновения»3. И далее Ухудшанскому предлагается «Торжественный комплект. Незаменимое пособие для сочинения статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей» [ЗТ, с. 264]. Фактически — пособие о том, как стать писателем. Бендер не оригинален. Жанр пособия на эту тему был чрезвычайно популярен в 1920-30-е гг.4, причем классиком его и был Виктор Борисович Шкловский. Разумеется, его работы в данном жанре несколько менее лапидарны, нежели «Торжественный комплект» Бенде-ра, однако типологическое сходство между ними несомненно. Так, в известном пособии «Как писать сценарии», вышедшем несколькими изданиями, Шкловский строит процесс заочного обучения своих читателей на примерах сценариев Б. Альтшулера, Е. Виноградской, Б. Леонидова, А. Ржешевского. Точно так же «Торжественный комплект» представляет собой набор образцов передовой статьи, художественного очерка-фельетона, стихотворения и т.д. Как Шкловский разбирает текст сценария до уровня деталей и приемов, так и Бендер пре- парирует в своем пособии будущий текст своего «ученика» до уровня частей речи, особо останавливаясь (с учетом специфики ситуации) на словах, способных придать тексту ориентальный колорит. Бендер — и это очевидно — относится к своему «интеллектуальному продукту» с естественной иронией. Это понятно: творческое начало в Остапе Ибрагимовиче очень сильно; по словам же Шкловского, «в искусстве нужнее всего сохранять пафос расстояния <...> не давать себя прикручивать. Нужно сохранять ироническое отношение к своему материалу, нужно не подпускать его к себе. Как в боксе и фехтовании»5. Вероятно, так же, как Шкловский мог относиться к тому, чем ему приходилось заниматься в процессе подготовки «пособий по ...». В его фонде в РГАЛИ сохранились документы, свидетельствующие об авторской «всеядности» Виктора Борисовича. Частично их тематика оправдана фактами биографии автора: например, очевидно, какими причинами вызвано появление «Инструкции по вождению автомашин и характеристики разных марок автомобилей, составленных для Запасного броневого автомобильного дивизиона» (1915-1918 гг.)6. Но среди них, например, есть «План инструкционных лент для обучения трактористов» (1928-1929 гг.)7. В 1947 г. на заседании секции научно-художественной литературы Союза советских писателей обсуждался доклад Шкловского «Как пишут и как писать о технике»8. Обычно в «Торжественном комплекте» видят не более чем насмешку авторов «Золотого теленка» над неудачливым журналистом. Но нужно отметить, что Шкловский как ведущий практик жанра подобного пособия относился к нему всерьез. Н.Я. Мандельштам вспоминает: «Шкловский усиленно рекомендовал Мандельштаму свой способ спасения и уговаривал что-нибудь написать для кино. На то, что сценарий пройдет и будет напечатан, надеяться нельзя, объяснял Шкловский, но фабрика платит за все, начиная с заявки и либретто на нескольких страничках. Всем, к кому Шкловский хорошо относился, он давал именно этот совет и предлагал вместе написать сценарий. Такое предложение было у него чем-то вроде объяснения в любви и дружбе. <...> В кино не было идиотов. Там сидели только умные и деловые люди. А Шкловский, соблазняя Мандельштама, придумал даже сюжет для либретто: дворцовый лакей и его дочь, она уходит в революцию, а он сейчас служит в Екатерининском дворце, который стал музеем. "Вы же живете в Царском, — сказал Шкловский, — обыграйте его. Пойдите в музей и придумайте." Он вел себя, как сирена-соблазнительница»9. Фактически Бендер спасает себя продажей «Торжественного комплекта» от безденежья, но и Ухудшанского он спасает своим «Комплектом» от безработицы — как Шкловский предлагает спастись, -^т^^т^- в конечном счете, О.Э. Мандельштаму от отсутствия средств к существованию (Надежда Яковлевна неслучайно обращает внимание на деловой характер и даже на своеобразный гуманизм этого предложения). Сценарий, предлагаемый Мандельштаму, вполне сродни той бледной курице, которую вынужден съесть голодный Бендер, вторгаясь в литерный вагон [ЗТ, с. 251]. Но Шкловский никогда и не скрывал подобного утилитарного подхода: «Нужно построить жизнь так, чтобы можно было не писать, когда не пишется»10. Для этого в пособиях сознательно примитивизируется творческий процесс: «Вот вам совет, который мы, профессиональные писатели, часто даем друг другу: начинайте с середины, с того самого места, которое у вас выходит, в котором вы знаете что написать. Когда напишете середину, то найдется и начало и конец, или самая середина окажется началом. Кроме этого, нужно иметь дома заготовки — готовые написанные куски статей, записи фактов, удачных выражений, фактические сведения, — которые всегда найдут себе место в статье и никогда не пропадут даром»11. Шкловский сознательно отходит (в данном жанре) от проблемы оценки талантливости потенциального адресата его «Торжественных комплектов». «Для того, чтобы научить человека работать шаблоном, достаточно несколько недель, если попадется человек умный. Я в одной маленькой редакции научил писать статьи бухгалтера, потому что он мало зарабатывал, но писал он, конечно, плохо, так плохо, как пишет большинство работающих сейчас в газете»12. Талант не играет роли — он сводится к умению владеть определенным набором лекал13. Это связано со специфическим отношением Шкловского как теоретика и практика литературы к литературному творчеству. «Велосипеды делают сериями, одинаковыми. Литературные произведения размножают печатанием, но каждое отдельно литературное произведение должно быть изобретением — новым велосипедом, велосипедом другого типа. Изобретая этот велосипед, мы должны представить, для чего на нем колеса, для чего на нем руль. Отчетливое представление работы другого писателя позволяет вам не списывать его, что в литературе запрещено и называется плагиатом, а использовать его метод для обработки нового материала»14. В этом отношении чрезвычайно показательно, какой именно сценарий предлагал Шкловский написать Мандельштаму. Напомним, речь в нем должна была идти о судьбе дочери лакея, перешедшего на сторону революции. Н.Я. Мандельштам подробно пересказывает канву, судя по всему, и сформулированную Шкловским: «Такой сюжет назывался "историческим", хотя историей в нем и не пахло. Он был доступнее, чем "современная тема" с кознями заговорщиков и вреди- телей против революционных рабочих. <.> Рецепт "обыгрывания" был заранее известен: жандармы, тюрьма, а потом ликующие толпы со знаменами. Главное же — психология папаши, у которого два пути. Один — проклясть дочь, а потом горько раскаяться, другой — перейти на ее сторону и оказать ряд услуг будущим победителям и за это получить награду, то есть очутиться рядом с воскресшей дочкой в толпе счастливых демонстрантов. Есть еще вариант: папаша в гневе рушит дворцы, падают камни, бревна и прочие архитектурно-бутафорские предметы, а потом они собираются вместе, воскресает не дочь, а дворец, но в виде "памятника старины", подлежащего охране, или музея. Все это служило предлогом для показа красот, а что еще прекраснее царскосельских дворцов и парков»15. Совершенно очевидно, что перед нами в данном случае — интерпретация известного библейского сюжета о блудном сыне, пересказанного человеком, читавшим «Станционного смотрителя» А.С. Пушкина — причем не только саму повесть, но и анализ ее, предложенный М.О. Гершензоном16. Гершензон обратил, как известно, внимание на вариативность развития сюжета, заложенную непосредственно в пушкинском тексте: картинки с рассказом библейской притчи, висящие на стене в убогом жилище Самсона Вырина, контрастируют с реальной историей Дуни Выриной, обретшей свое счастье фактически вопреки воле отца. Можно сказать, что Шкловский в своей устной «заявке» на совместный с Мандельштамом сценарий использует не столько библейскую, сколько пушкинскую коллизию (отсюда и дочь, а не сын). В этом отношении литературное «творчество» героев Ильфа и Петрова значительно скромнее. Показательно, однако, что и Гейнрих, и Бендер используют в своих устных импровизациях именно библейские сюжеты. В то же время, следует заметить, что авторы дилогии, на наш взгляд, не только опираются (используют?) на наблюдения Шкловского, но и иронизируют над ними совершенно откровенно. Так, Шкловский вспоминает: «Как-то, разбирая корреспондентские письма, я прочитал такую заметку из Уссурийского края: "Тигры мешают сбору профсоюзных взносов, и вот корреспондент сидел в одной сторожевой будке больше суток, пока тигра не махнул на него лапой и не ушел". Я не говорю, что нужно в корреспонденции рассказывать анекдоты, но корреспонденты не должны описывать все одни и те же вещи, только в обмолвках проговариваясь о реальной обстановке»17. И откровенной пародией на эту описанную Шкловским коллизию выглядит следующий пассаж из «Золотого теленка». Когда едущая по Турксибу американка снимается, сидя между горбами верблюда, Гейнрих говорит всем присутствующим: «Вы за ней присматривайте, а то она случайно застрянет на станции, и опять будет сенсация в аме- риканской прессе: "Отважная корреспондентка в лапах обезумевшего верблюда"» [ЗТ, с. 254]. Поезд жизни и пассажир Шкловский На эти детали можно было бы почти не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство. Поезд, в котором в «Золотом теленке» едут Ухудшанский, Лавуазьян, Рубашкин, Скамейкин, а также примкнувший к ним случайный пассажир Бендер, на самом деле вез иных пассажиров. В мае 1930 г. по Турксибу совершили свое путешествие Илья Ильф и Евгений Петров. В том же 1930 г. в Госиздате вышла небольшая иллюстрированная книга Виктора Шкловского «Турксиб». «Я проехал через Турксиб. Там было пыльно, жарко, пищали ящерицы. Стояла высокая трава, то полынная, то ковыльная, то жесткая, колючая, трава пустыни, и тамариск, похожий на нерасцветшую сирень. Там в пресный Балхаш, пресное озеро с солеными заливами, текут осенью солоноватые реки. Там люди ездят на быках и на лошадях так, как мы в трамваях. Там в ковыле скачут, как будто не ногами, а изгибая одну тонкую как будто из картона вырезанную спину, — киргизские борзые. В песках ходят козы. В солончаках застревают автомобили на недели. Верблюды тащат телеги. Орлы летят за сотни верст, чтобы сесть на телеграфный столб, потому что в пустыне сесть не на что. Там строят сейчас Турксиб. Это очень нужно и очень трудно. Там так жарко, что киргизы ходят в сапогах, одетых сверх тонких валенок, в меховых штанах, в меховых шапках. А называются они не киргизами, а казаками. Строить дорогу тяжело. Воды мало. Хлеб нужно привезти. Хлеб нужно достать. Хлеб нужно где-нибудь держать. Рабочих много, над каждым нужно построить крышу. И все же построили».18 Впечатления от увиденного Шкловский описывает в точности по рекомендациям Остапа Бендера — несмотря на то, что до выхода в свет «Золотого теленка» остается еще некоторое время. Скажем, в «Торжественном комплекте» неоднократно упоминается «железный конь» — в общем-то, устойчивый образ, характерный для эпохи, когда «железный конь идет на смену крестьянской лошадке» [ЗТ, с. 63]. Шкловский разворачивает сравнение механизма с живым существом именно в декорациях стройки Турксиба. Он восхищается механизмами, помогающими человеку изменять природу, и описывает эти механизмы как живые существа — разве что, не давая им имени (подобно тому, как автомобиль Адама Козлевича был наречен Бендером Антилопой Гну): «Во многих местах вместо людей работают машины — экскаваторы. Это железные пасти на стальных шеях. Рты у них зубатые. Управляется экскава- тор одним механиком. Механик поворачивает тележку экскаватора и опускает шею машины. Экскаватор открывает стальной рот, вгрызается в песок, берет кубический метр груза, подымает шею. Песок тонкими струйками сыплется из стальных зубьев. Экскаватор поворачивается на хвосте, нагибает шею и высыпает грунт на насыпь»19. И чуть дальше: «Подходит экскаватор, открывает стальной рот и набирает в стальную пасть осколки камня, похожие на колотый сахар»20. Шкловский обращает внимание на противоречие между «мирным» («мещанским»?) бытом и героическим характером великой стройки: «Жить в пустыне очень трудно. Рабочий в городе живет в комнате, с кроватью, с примусом, иногда даже у него есть фикус. В пустыне я раз видел такой фикус. Рабочего послали в передовой отряд на стройку. Он взял с собой жену, а жена взяла с собой фикус — она не представляла себе, что такое пустыня. И вот, представь себе, лежит пустыня, пески, трава треплется клочьями на буграх, и посреди пустыни стоят два стула и горшок с фикусом. Для того, чтобы строить дорогу, нужно отказаться от фикуса и от всех навыков городской жизни»21. Жена рабочего с фикусом отзовется позднее в романе В.П. Катаева «Время, вперед!» образом жены инженера Корнеева, требующей от мужа непременно сохранять белыми его парусиновые туфли. В «Золотом теленке» появляется инженер Талмудовский, декларирующий от имени всех сторонников «сохранения фикусов»: «Да! Мы герои! <.> Привет нам, строителям Магистрали! Но каковы условия нашей работы, граждане! Скажу, например, про оклад жалованья. Не спорю, на Магистрали оклад лучше, чем в других местах, но вот культурные удобства! Театра нет! Пустыня! Канализации никакой!.. Нет, я так работать не могу!» [ЗТ, с. 276-277]. Отдельные «термины» из «Торжественного комплекта» разворачиваются у Шкловского в абзацы-новеллы с экзотическим антуражем. Скажем, памятное всем «Бай (нехороший человек)» [ЗТ, с. 266] легко сопоставимо со следующей историей: «Многие рабочие приехали на стройку издалека, а многие здешние люди — казаки. Они раньше пасли стада овец. Чужие стада. Обычно стадо принадлежало богатому человеку — баю. А пасли стадо бедные родственники. Теперь бедняки ушли на постройку. Строят, учатся, имеют местком. В степи, где так пустынно, что орлы летали за сотни километров, чтобы сесть на телеграфный столб, потому что не на что сесть в пустыне, — в пустыне сейчас есть месткомы»22. Правда, Виктор Борисович не вспоминает о «Шайтан-Арбе», но другой, вполне сходный экзотизм с легким утилитарным привкусом есть и в его описании путешествия по Турксибу: «Алма-Ата по-казакски означает "отец яблок". В горах здесь растут дикие яблони. Вокруг Алма-Аты есть культурные сады, выводят крупное, прочное, не боящееся перевозки яблоко опорто. Прежде яблоки из Алма-Аты шли в Сибирь через пустыню на верблюдах. Сейчас они поедут поездом»23. Ну а роль Узун-Кулака — Длинного уха — степного телеграфа [ЗТ, с. 274] успешно исполняют орлы, летающие за сотню километров, чтобы сесть на телеграфный столб. Поездом, однако, едут не только яблоки, но, напомним, и Бендер с Рубашкиным и Скамейкиным, и Шкловский с Ильфом и Петровым. Поездки писателей по местам эпохальных строек, будь то Турк-сиб или Беломорско-Балтийский канал, были такой же непременной составляющей литературного быта лояльного к власти писателя, как членство в Союзе советских писателей. Человек с биографией Шкловского был вместе с тем вынужден освещать героику трудовых будней еще интенсивнее и ярче, нежели кто-либо из его коллег. Но Шкловский при этом обращает внимание в своих «репортажах» на некие символические детали, которые остаются незамеченными для других «репортеров»: «Рельсы сперва кладут начерно, прямо на шпалы, без подсыпки. Называется это укладкой. По укладке нерешительно, шатаясь, проходит паровоз, тащит за собой грузы, шпалы, рельсы. Рельсы и шпалы кладут вперед, и паровоз, снова шатаясь, щупая пустыню, нерешительно идет вперед»24. Можно сказать, что шатающийся, щупающий пустыню, нерешительный паровоз Шкловского именно этой своей нерешительностью принципиально отличается от оптимистического паровоза Ильфа и Петрова, мчащегося в светлое «завтра». Но не только ею. Бендер в тексте дилогии существует в постоянном движении. Он странствует пешком, поездом, теплоходом, автомобилем, снова поездом, верблюдом. Ищет ли Бендер сокровища, спрятанные тещей Во-робьянинова, или неправедно накопленные советским миллионером, он перемещается в пространстве и времени. Жизнь командора проходит в движении; смерть настигает его в редкую минуту покоя — точно обычный здоровый сон молодого мужчины под дрожащей рукой старика должен перейти в вечный сон. Но именно так же, в движении, существует и Шкловский как персонаж его собственных книг — прежде всего, «Сентиментального путешествия» и «ZOO, или Писем не о Новый филологический вестник. 2011. №3(18). -- любви». Поезд становится едва ли не главным средством передвижения для Шкловского: «Я еду по своей звезде и не знаю, на небе ли она или это фонарь в поле. А в поле ветер»25. При этом Шкловский, как и Бендер (вернее, Бендер, как и Шкловский), едет в поезде жизни без билета. Отметим сразу, что поезд для него — место вполне привычное еще со времен тревожной военной юности. В своих автобиографических текстах Виктор Борисович точно сакрализует его: «Поезд наполнился людьми и стал похожим на красную колбасу. И вдруг без звонка и не подходя к станции снялся с места и поехал. А я без билета. Но дело было не в билете. Ехали, становились, вылезали, опять ехали. <.. > Поезд ползет. Ему — что? Гимназисты-проводники расспрашивают всех о том, как, что, где ценится. Оказывается, что в Николаеве и около Херсона мука сильно дешевле. Скажут им что-нибудь такое, а они внезапно запоют: "Славное море, священный Байкал". Кажется, это26. Вообще, что-то очень неподходящее, но в их исполнении радостное. А поезд ползет»27. Нужно при этом сразу отметить, что поезд — не единственное средство передвижения, воспетое Ильфом и Петровым и использованное Шкловским в жизни. Быть пассажиром без билета в советском поезде для Виктора Борисовича, как и для Остапа Ибрагимовича, дело характерное, но не менее характерно и пристрастие к автомобилям. «Я в качестве корреспондента ехал с Комиссией Турксиба от Семипалатинска до г. Алма-Ата, — пишет Шкловский. — Вероятно, это свыше полутора тысяч верст, считая заезды в сторону. Автомобильный поезд состоял из двух грузовиков Амо, из одной легковой машины Амо и из легковых Доджей, принадлежавших начальникам участка пути и из одного легкового Доджа, прошедшего половину дороги. В середине дороги машины были сменены на однотипные, но уже другого участка»28. Это перечисление автомобилей, разумеется, характерно для любого журналистского репортажа той эпохи, когда добросовестное внимание к подобным деталям приветствовалось. Но отсюда недалеко до памятного замечания шофера-любителя из шестой главы «Золотого теленка»: «Позвольте, — воскликнул он с юношеской назойливостью, — но ведь в пробеге нет никаких "лорен-дитрихов"! Я читал в газете, что идут два "паккарда", два "фиата" и один "студебеккер"» [ЗТ, с. 63]. Конечно, вместе с «командором» мы можем отмахнуться от этого фак- -^т^^т^- та. Однако в текстах Шкловского мы находим неоднократное, причем весьма пристрастное описание автомобилей. «"Испана-суиза"? Плохая машина. Честная, благородная машина с верным ходом, на которой шофер сидит боком, щеголяя своим бессилием, — это "мерседес-бенц", "фиат", "делоне-бельвиль", "паккард", "рено", "делаж" и очень дорогой, но серьезный роллс-ройс", обладающий необыкновенно гибким ходом. <.. > "Испана" же "суиза" — машина с длинным ходом, то есть у нее большое расстояние между нижней и верхней мертвой точкой. Это машина высокооборотная, форсированная, так сказать, — нанюхавшаяся кокаина. Ее мотор высокий и узкий»29. Становится понятным, какая именно страсть заставляет Бендера дать имя автомобилю Адама Козлевича — этому «Арго» советской литературы 1930-х гг.: «- Адам! — закричал он, покрывая скрежет мотора. — Как зовут вашу тележку? — "Лорен-дитрих", — ответил Козлевич. — Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш "лорен-дитрих" отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоит машине название — "Антилопа-Гну". Кто против? Единогласно» [ЗТ, с. 38]. Добавим, что шоферов Шкловский описывал, точно имея в виду Адама Козлевича: «Я знал шоферов, которые так и остались на своих машинах, не брали ничего, кроме керосина со своей машины, и очень любили Россию, не спали ночи от мыслей о ней»30. Понятно, что такие шоферы «кроме того, не любили уже начинающий слагаться тип комиссара; они возили его и ненавидели»31. Соавторы дилогии разворачивают эту тему в блестящий эпизод: «Владелец "Эх, прокачу!" рассорился со всем городом. Он уже ни скем не раскланивался, стал нервным и злым. Завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубашке с баллонными рукавами, он подъезжал к нему сзади и с горьким смехом кричал: — Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу! Под сто девятую статью. Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе поясок с серебряным набором, каким обычно украшают сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Козлевич продолжал ехать рядом и дразнить врага монотонным чтением карманного уголовного требника...» [ЗТ, с. 35] Шкловский, как вполне «автомобильный» человек, имел все основания не любить совслужащих и комиссаров. И, как свидетельствует его биография, они отвечали ему тем же. Бывший член партии Новый филологический вестник. 2011. №3(18). -- эсеров, Шкловский был вынужден бежать после засады, устроенной на него на квартире его друзей Тыняновых. Вот как описывает эту ситуацию В.А. Каверин: «Как нарисовать психологическую картину, сложившуюся в доме Тыняновых за эти трое суток? Люди, остановившиеся с разбега перед неожиданностью, перевернувшей их планы, одни, встретившие эту опасную неожиданность спокойно, другие — с очевидным, хотя и скрываемым волнением, были, как это ни странно, чем-то объединены. Среди них не нашлось равнодушных. Никто не желал, чтобы Шкловский, которому грозила смертельная опасность, явился и был схвачен на наших глазах. Невысказанное, где-то глубоко спрятанное чувство подсказывало, что готовится несправедливость. Ни у кого не было и тени досады — потеряно время, обеспокоены близкие. Более того, все были как бы вовлечены в некую "общественную совокупность". Правда, у этой "совокупности" было только одно право: молчать. Но молчание было выразительное. Молчание было предсказывающее. От этого молчания начали отсчитываться не дни или месяцы, а десятилетия. И еще одно: к концу вторых суток в квартире находились двадцать три человека. В наше время невозможно представить себе, что отношения между этими знакомыми, полузнакомыми, незнакомыми были основаны на полном, безусловном доверии»32. Люди, находившиеся в квартире Ю.Н. Тынянова, молчат, разумеется, вовсе не так, как молчат люди, собравшиеся в квартире Елены Станиславовны Боур, и денег, необходимых для «продолжения предприятия» Шкловского не собирают. Но вот бежит Шкловский именно так, как бежал бы Бендер. «Для побега нужны были деньги, и он <В.Б. Шкловский. — А.Ф.> на трамвае поехал в Госиздат, на Невский, 28, где все его знали, где изумились, увидев его, потому что он был отторжен и, следовательно, не имел права получить гонорар, который ему причитался. Но в административной инерции к тому времени еще не установилась полная ясность. Бухгалтер испугался, увидев Шкловского, но выписал счет, потому что между формулами существования Госиздата и Чека отсутствовала объединяющая связь. Кассир тоже испугался, но заплатил — он тоже имел право не знать, что лицу, имеющему быть арестованным, не полагается выдавать государственные деньги. Впрочем, не только эти чиновники были ошеломлены смелостью Шкловского. Весь Госиздат окаменел бы, если бы у него хватило на это времени. Но времени не хватило. Шкловский сразу же ушел — на всякий случай через запасной выход: на Невском его могли ждать чекисты»33. Кстати, схожим способом находит деньги и Бендер, пользуясь неразберихой на предприятии, где позднее работал Шкловский — на кинофабрике: «- Короче. Сколько вам следует? — У меня какой-то глухой. — Товарищ! Если вы сейчас же не скажете, сколько вам следует, то я попрошу вас выйти. Мне некогда. — Девятьсот рублей, — пробормотал великий комбинатор. — Триста! — категорически заявил Супругов. — Получите и уходите. И имейте в виду, вы украли у меня лишних полторы минуты. Супругов размашистым почерком накатал записку в бухгалтерию, передал ее Остапу и ухватился за телефонную трубку» [ЗТ, с. 227]. При этом вполне «деловой человек» Супругов оплачивает, как и обещал Шкловский, соблазняя сценарной деятельностью нуждающегося в деньгах Мандельштама, не сценарий даже, а заявку — листок с памятным всем читателям Ильфа и Петрова названием «Шея». Однако это бегство ни к чему не приводит. Шкловский возвращается назад. Он капитулирует перед победителями, что и отмечает Н.Я. Мандельштам, по мнению которой эта капитуляция носит символический для времени характер: «Психологически всех толкал на капитуляцию страх остаться в одиночестве и в стороне от общего движения, да еще потребность в так называемом целостном и органическом мировоззрении, приложимом ко всем сторонам жизни, а также вера в прочность победы и в вечность победителей. Но самое главное это то, что у самих капитулянтов ничего за душой не было. Эту поразительную пустоту лучше всех, пожалуй, выразил Шкловский в "Zoo", злосчастной книжке, где он слезно просит победителей взять его под опеку»34. Надежда Яковлевна имеет в виду заключительный пассаж «злосчастной книжки»: «Все, что было, — прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь. Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть рубашек (три у меня, три в стирке), желтые сапоги, по ошибке вычищенные черной ваксой, синие старые брюки, на которых я тщетно пытался нагладить складку. И галстук, который мне подарили. А на мне брюки со складкой. Она образовалась тогда, когда меня раздавило в лепешку»35. Ее волнует поднятая рука как символ сдачи. Если бы она была внимательней, как, впрочем, и комментаторы дилогии Ильфа и Петрова, они неизбежно сопоставили с «нехитрым багажом» Шкловского одежду «великого комбинатора»: «В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было»36. -^т^^т^- Или: «Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка» [ДС, с. 185]. И если в «Двенадцати стульях» отзываются неестественного цвета сапоги Шкловского, то прощание с читателем Остапа Ибрагимовича Бендера в точности вызывает в памяти прощание с читателями автора «Писем не о любви»: «Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Ни к кому не обращаясь, он громко сказал: — Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы» [ЗТ, с. 328]. Так гениальный теоретик и несостоявшийся писатель37 переквалифицируется в бойкого сценариста, подвизающегося на кинофабрике. Но главное, на наш взгляд, — стиль. Стиль текстов Шкловского охарактеризовал еще В.А. Каверин: «У него <В.Б. Шкловского. — А.Ф.> была своя стилевая манера, и, если даже не он, а Влас Дорошевич первым стал писать почти без придаточных предложений, одними главными (между которыми читателю представлялась полная возможность перекинуть мост), все же именно в прозе Шкловского эта манера утвердилась в полной мере и в разных жанрах»38. Перечитайте разлетевшиеся афоризмами новой эпохи реплики Остапа Бендера, и вы поймете, что их писал (говорил?) едва ли не тот же человек, чья фамилия стоит на обложке «Третьей фабрики». Бывают «странные сближения»? Трудно утверждать достоверно, был ли В.Б. Шкловский реальным прототипом Остапа Бендера. Разумеется, он был знаком с авторами дилогии о Бендере, номер его телефона дважды значится в записных книжках И.А. Ильфа — что уже дает повод думать о том, что этим номером пользовались39. Их взаимный интерес, на наш взгляд, мог быть не в последнюю очередь обусловлен и сферой научных интересов Шкловского. Дилогия И.А. Ильфа и Е.П. Петрова строится в полном соответствии с законами жанра. Этот жанр хорошо известен — плутовской роман (пикареска), в центре которого стоит история главного героя-плута, его странствий, в ходе которых проявляются те или иные его черты, и, наконец, его победы или крушения. Перед нами история жизни, в которой плут одновременно — и слуга, и хозяин. Слуга-жертва более сильного и обстоятельств, хозяин — поскольку он сам во многом их и определяет, командует ими. Пикареской активно занимались русские формалисты, одним из лидеров которых и был Шкловский. Его интересовал жанр как за- --т^фв»-- стывшая — и одновременно активная, подвижная форма, продуктивная, несмотря на длительную историю своего существования. Он и к романам о Бендере подходит с меркой жанровой. Исследователь, осознавший, как сделан «Дон-Кихот», и описавший механизмы воздействия стерновского «Тристрама Шенди» на пушкинского «Евгения Онегина», не мог не обратить внимание на типологическое сходство романов об Остапе Бендере и Жиль Бласе или Гусмане де Альфараче. Может быть, потому что он узнавал в этом типе собственный тип. «В схеме, предложенной Катаевым, Остапа Бендера не было. Героем был задуман Воробьянинов и, вероятно, дьякон, который теперь почти исчез из романа. Бендер вырос на событиях, из спутника героя, из традиционного слуги, разрешающего традиционные затруднения основного героя. Бендер сделался стихией романа, мотивировкой приключений. Несмотря на смерть, он, как настоящий удавшийся герой, ожил. Он был убит, но не исчерпан. Герои же романов приключений могут быть только исчерпаны, а не убиты. Он ожил в "Золотом теленке"»40. Ожил — значит, вернулся. Как сам Шкловский под воздействием не воробьяниновской бритвы, а политических обстоятельств ушел в небытие, в вынужденную эмиграцию, а затем вернулся в СССР. При этом возвращение (оживание) становится очевидным признанием поражения — в точности, как у Бендера. Вероятно, было и другое. Было общее видение мира. Шкловского и соавторов «бендерианы», обращавших внимание на одни и те же детали. Иначе трудно объяснить ряд мелких совпадений, поражающих людей, хорошо знающих текст романов Ильфа и Петрова, но плохо знакомых с «поденщиной» Шкловского 1920-30-х гг. Приведем несколько из них. Например, описание встречи «сыновей лейтенанта Шмидта» в кабинете предисполкома: «- Вася! — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. -Родной братик! Узнаешь брата Колю? И первый сын заключил второго сына в объятия. — Узнаю! — воскликнул прозревший Вася. — Узнаю брата Колю» [ЗТ, с. 14]. А вот коллизия, описанная Шкловским: «Мобилизовали моего брата. Он лежал в собачьей солдатской палатке. Мама искала его и кричала: — Коля, Коля! Когда она ушла, сосед поглядел на брата и, поднявшись на локте, сказал: — Жалко мне тебя, Коля»41. Разница в выходе из коллизии. У Шкловского мать не узнает его брата Колю, а у Ильфа и Петрова один лжесын «узнает» другого лжесына. Шкловский, сам привыкший к газетной поденщине, предрекает: «Время повернулось, и анекдотом мы скоро будем считать не остроумное сообщение, а те факты, которые печатаем в отделе мелочей в газетах»42. Факт, изложенный в газете «Станок», превращается в анекдот благодаря комментарию Бендера: «Это извозчик отделался легким испугом, а не я» — к двухстрочной заметке «Попал под лошадь» [ДС, с. 299]. Шкловский резонирует: «Брак на старой женщине — судьба многих авантюристически живущих людей, я видал десятки примеров»43. Но что это, как не описание истории брака Бендера и мадам Грица-цуевой? Шкловский проявляет великолепную осведомленность в деталях работы ЗАГСов: «Вы о похоронах? Расписываться? А он не пришел? Опаздывает? Работает? Как смешно, что браки и похороны за одним барьером. Посмотрите, у них и дощечки одинаковые. Что же вы не отвечаете? А я тоже не на похороны. Я разводиться. Жить невозможно. Вот вы незнакомый человек и мне не отвечаете, а я вам расскажу. Посмотрите, опять расписываются»44. Даже чувство бесконечного уважения к читателям нашего исследования, несомненно, помнящих столь яркие детали, не мешает нам процитировать ставший классическим роман: «Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков» [ДС, с. 108]. Но самым поразительным является следующее совпадение (если, конечно, это совпадение). Возвращение Ипполита Матвеевича в родной город сопровождается феерической сценой его попытки изменить внешность: «Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен тою же травянистой каймой. <.> Остап <.> внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал: "Не могу!" — и снова бушевал» [ДС, с. 142—143]. Если не считать разницы в цветовой гамме, то конспект этой сцены есть и в биографическом тексте Шкловского: «Попал к одному товарищу (который политикой не занимался), красился у него, вышел лиловым. Очень смеялись. Пришлось бриться. Ночевать у него было нельзя»45. Трагикомедия жизни реального писателя оборачивается трагикомедией жизни литературного героя. Обоим больно. «Писатель несет живую птицу — сердце в руках. Не голубя, может быть. Может быть, курицу. Но оно живое. Едет он трамваем. Толкаются. Он защищает сердце локтями. Толкаются все, даже старухи. Очень трудно. Легче говорить через героя. Начинается это так — сидишь сам перед собою, разговариваешь. Жалеешь себя, что постарел. Вот около ушей сухие складки подтянули кожу. Утром знаешь, как провел вчерашний день. Вообще, не все равно, что было раньше. Живая птица лежит, поправляя крылья, ей неудобно»46. «Легче говорить через героя», — пишет Шкловский. Через своего — несомненно. А через чужого? ПРИМЕЧАНИЯ 1 Эйхенбаум Б.М. О Викторе Шкловском // Эйхенбаум Б.М. О литературе. Работы разных лет. М., 1987. С. 444. Jejhenbaum B.M. O Viktore Shklovskom // Jejhenbaum B.M. O literature. Raboty raznyh let. M., 1987. S. 444. 2 Левченко Я. История и фикция в текстах В. Шкловского и Б. Эйхенбаума в 1920-е гг. Tartu, 2003. С. 95. Levchenko Ja. Istorija i fikcija v tekstah V. Shklovskogo i B. Jejhenbauma v 1920-e gg. Tartu, 2003. S. 95. 3 Ильф И.А., Петров Е.П. Золотой теленок // Ильф И.А., Петров Е.П. Золотой теленок / коммент Ю.К. Щеглова. М., 1995. С. 263-264. Далее ссылки на это издание см. в квадратных скобках после цитаты с указанием страницы. Il'f I.A., PetrovE.P. Zolotoj telenok // Il'f I.A., Petrov E.P. Zolotoj telenok / komment Ju.K. Scheglova. M., 1995. S. 263-264. Dalee ssylki na jeto izdanie sm. v kvadratnyh skobkah posle citaty s ukazaniem stranicy. 4 См. об этом, в частности: Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб., 1999. Sm. ob jetom, v chastnosti: Dobrenko E. Formovka sovetskogo pisatelja. Social'nye i jesteticheskie istoki sovetskoj literaturnoj kul'tury. SPb., 1999. 5 Шкловский В.Б. Пять человек знакомых. Тифлис, 1927. С. 12. Shklovskij V.B. Pjat' chelovek znakomyh. Tiflis, 1927. S. 12. 6 РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 809. RGALI. F. 562. Op. 1. Ed. hr. 809. 7 РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 284. Л. 1-3. RGALI. F. 562. Op. 1. Ed. hr. 284. L. 1-3. 8 Материалы обсуждения см.: РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 216. Materialy obsuzhdenija sm.: RGALI. F. 562. Op. 1. Ed. hr. 216. 9 Мандельштам Н.Я. Вторая книга: воспоминания. М., 1990. С. 280. Mandel'shtam N.Ja. Vtoraja kniga: vospominanija. M., 1990. S. 280. 10 Шкловский В.Б. Техника писательского ремесла. М.; Л., 1930. С. 7. Shklovskij V.B. Tehnika pisatel'skogo remesla. M.; L., 1930. S. 7. 11 Там же. С. 24. Tam zhe. S. 24. 12 Там же. С. 15. Tam zhe. S. 15. 13 «Сюжетные приемы — это набор лекал, годных не для вычерчивания любой кривой». — Шкловский В. [Без названия] // Как мы пишем. Benson (Vt.), 1983. С. 215. «Sjuzhetnye priemy — jeto nabor lekal, godnyh ne dlja vycherchivanija ljuboj krivoj». -Shklovskij V. [Bez nazvanija] // Kak my pishem. Benson (Vt.), 1983. S. 215. 14 Шкловский В.Б. Техника писательского ремесла. С. 9. — Здесь следует отметить еще один интересный факт. Шкловский воспринимается, говоря сегодняшним языком, как «культовая фигура» известного кружка «Серапионовых братьев». Как справедливо отмечает Б.Я. Фрезинский, «Шкловский — особый Серапион: и Брат, и Учитель» (Фрезинский Б.Я. Судьбы Серапионов. СПб., 2003. С. 163). Приветствием Серапионов было «Здравствуй, брат, писать очень трудно.» (именно так позднее назвал свою книгу воспоминаний один из членов кружка В.А. Каверин). Но приветствие, адресованное Бендером Ухудшанскому звучит: «Писать, конечно, очень трудно» (приветствие Брата) — после чего идет совет, как эту «трудность» преодолеть (совет Учителя). Вряд ли И.А. Ильф и Е.П. Петров, признававшие толчком к написанию первой части дилогии шуточную комедию о бриллиантах «Серапиона» Всеволода Иванова, не подозревали о подобном обращении членов кружка друг к другу. Shklovskij V.B. Tehnika pisatel'skogo remesla. S. 9. — Zdes' sleduet otmetit' esche odin interesnyj fakt. Shklovskij vosprinimaetsja, govorja segodnjashnim jazykom, kak «kul'tovaja figura» izvestnogo kruzhka «Serapionovyh brat'ev». Kak spravedlivo otmechaet B.Ja. Frezinskij, «Shklovskij — osobyj Serapion: i Brat, i Uchitel'» (Frezinskij BJa. Sud'by Serapionov. SPb., 2003. S. 163). Privetstviem Serapionov bylo «Zdravstvuj, brat, pisat' ochen' trudno...» (imenno tak pozdnee nazval svoju knigu vospominanij odin iz chlenov kruzhka V.A. Kaverin). No privetstvie, adresovannoe Benderom Uhudshanskomu zvuchit: «Pisat', konechno, ochen' trudno» (privetstvie Brata) — posle chego idet sovet, kak jetu «trudnost'» preodolet' (sovet Uchitelja). Vrjad li I.A. Il'f i E.P. Petrov, priznavavshie tolchkom k napisaniju pervoj chasti dilogii shutochnuju komediju o brilliantah «Serapiona» Vsevoloda Ivanova, ne podozrevali o podobnom obraschenii chlenov kruzhka drug k drugu. 15 Мандельштам Н.Я. Указ. соч. С. 280-281. Mandel'shtam N.Ja. Ukaz. soch. S. 280-281. 16 См.: ГершензонМ.О. Станционный смотритель // Гершензон М.О. Избранное: в 4 т. Т. 1. М.; Иерусалим, 2000. С. 86-89. Sm.: Gershenzon M.O. Stancionnyj smotritel' // Gershenzon M.O. Izbrannoe: v 4 t. T. 1. M.; Ierusalim, 2000. S. 86-89. 17 Шкловский В.Б. Техника писательского ремесла. С. 11. Shklovskij V.B. Tehnika pisatel'skogo remesla. S. 11. 18 Шкловский В. [Без названия] // Как мы пишем. Benson (Vt.), 1983. С. 214. Shklovskij V. [Bez nazvanija] // Kak my pishem. Benson (Vt.), 1983. S. 214. 19 Шкловский В.Б. Турксиб. М.; Л., 1930. С. 23. Shklovskij V.B. Turksib. M.; L., 1930. S. 23. 20 Там же. С. 25. Tam zhe. S. 25. 21 Там же. С. 22. Tam zhe. S. 22. 22 Там же. С. 2б-27. Tam zhe. S. 2б-27. 23 Там же. С. 24. Tam zhe. S. 24. 24 Там же. С. 21. Tam zhe. S. 21. 25 Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие II Шкловский В.Б. «Еще ничего не кончилось...». М., 2002. С. 197. Shklovskij V.B. Sentimental'noe puteshestvie II Shklovskij V.B. «Esche nichego ne konchilos'...». M., 2002. S. 197. 26 Ну, не только это: «Когда поезд, гремя и ухая, переходил Волгу по Сызранско-му мосту, литерные пассажиры неприятными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре. При этом они старались не смотреть друг другу в глаза. В соседнем вагоне иностранцы, коим не было точно известно, где и что полагается петь, с воодушевлением исполнили "Эй, полна, полна коробочка" с не менее странным припевом: "Эх, юхнем!"» [ЗТ, с. 250] Nu, ne tol'ko jeto: «Kogda poezd, gremja i uhaja, perehodil Volgu po Syzranskomu mostu, liternye passazhiry neprijatnymi gorodskimi golosami zatjanuli pesnju o volzhskom bogatyre. Pri jetom oni staralis' ne smotret' drug drugu v glaza. V sosednem vagone inostrancy, koim ne bylo tochno izvestno, gde i chto polagaetsja pet', s voodushevleniem ispolnili "Jej, polna, polna korobochka" s ne menee strannym pripevom: "Jeh, juhnem!"» [ZT, s. 250] 27 Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 197. Shklovskij V.B. Sentimental'noe puteshestvie. S. 197. 28 Шкловский В.Б. Поденщина. Л., 1930. С. 30. Shklovskij V.B. Podenschina. L., 1930. S. 30. 29 Шкловский В.Б. ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза II Шкловский В.Б. «Еще ничего не кончилось.». М., 2002. С. 32б. Shklovskij V.B. ZOO. Pis'ma ne o ljubvi, ili Tret'ja Jeloiza II Shklovskij V.B. «Esche nichego ne konchilos'.». M., 2002. S. 32б. 30 Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 152. Shklovskij V.B. Sentimental'noe puteshestvie. S. 152. 31 Там же. С. 145. Tam zhe. S. 145. 32 Каверин В.А. Эпилог. М., 1997. С. 28. Kaverin V.A. Jepilog. M., 1997. S. 28. 33 Там же. С. 31. Tam zhe. S. 31. 34 Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М., 1999. С. 195. Mandel'shtam N.Ja. Vospominanija. M., 1999. S. 195. 35 Шкловский В.Б. ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза. С. 329. Shklovskij V.B. ZOO. Pis'ma ne o ljubvi, ili Tret'ja Jeloiza. S. 329. 36 Ильф И.А., Петров Е.П. Двенадцать стульев II Ильф И.А., Петров Е.П. Двенадцать стульев I коммент. Ю.К. Щеглова. М., 1995. С. 131. Далее ссылки на данное издание см. в тексте в квадратных скобках после приведенной цитаты с указанием страницы. Il'f I.A., Petrov E.P. Dvenadcat' stul'ev II Il'f I.A., Petrov E.P. Dvenadcat' stul'ev I komment. Ju.K. Scheglova. M., 1995. S. 131. Dalee ssylki na dannoe izdanie sm. v tekste v kvadratnyh skobkah posle privedennoj citaty s ukazaniem stranicy. 37 Г.В. Адамович вспоминал, как первый раз увидел Шкловского: «Кажется, это было в 1912 году. <...> грубиян Маяковский, весь будто преобразившись, вытащил на Новый филологический вестник. 2011. №3(18). ---- эстраду студента, в помятом сюртуке, с огромным, выпуклым, блестящим черепом, и в каких-то необычайно-лестных, почти подобострастных выражениях представил его публике. Кажется, он даже произнес слово "гений". <...> Маяковский ошибся, назвав Шкловского гением, но ошибка его вполне понятна. <...> В книгах Шкловского, сквозь слабость чисто литературного дара, безвкусие, бахвальство, неврастению, беспомощность, просвечивает некая душевная щедрость, богатство и роскошь жизненной энергии, та самая личная необычайность, которая у него неотъемлема. <.> В Шкловском есть в этом смысле что-то от Байрона» — см.: Адамович Г.В. <«Третья фабрика» В. Шкловского> // Адамович Г.В. Литературные беседы. Кн. 2. СПб., 1998. С. 111-113. G.V. Adamovich vspominal, kak pervyj raz uvidel Shklovskogo: «Kazhetsja, jeto bylo v 1912 godu. <...> grubijan Majakovskij, ves' budto preobrazivshis', vytaschil na jestradu studenta, v pomjatom sjurtuke, s ogromnym, vypuklym, blestjaschim cherepom, i v kakih-to neobychajno-lestnyh, pochti podobostrastnyh vyrazhenijah predstavil ego publike. Kazhetsja, on dazhe proiznes slovo "genij". <.> Majakovskij oshibsja, nazvav Shklovskogo geniem, no oshibka ego vpolne ponjatna. <.> V knigah Shklovskogo, skvoz' slabost' chisto literaturnogo dara, bezvkusie, bahval'stvo, nevrasteniju, bespomoschnost', prosvechivaet nekaja dushevnaja schedrost', bogatstvo i roskosh' zhiznennoj jenergii, ta samaja lichnaja neobychajnost', kotoraja u nego neotjemlema. <.> V Shklovskom est' v jetom smysle chto-to ot Bajrona» — sm.: Adamovich G.V. <«Tret'ja fabrika» V. Shklovskogo> // Adamovich G.V. Literaturnye besedy. Kn. 2. SPb., 1998. S. 111-113. 38 Каверин В.А. Указ. соч. С. 36. Kaverin VA. Ukaz. soch. S. 36. 39 Ильф И.А. Записные книжки. 1925-1937. М., 2000. С. 277 (запись за январь-март 1930); С. 318 (запись за июль-ноябрь 1930). Il'f I.A. Zapisnye knizhki. 1925-1937. M., 2000. S. 277 (zapis' za janvar'-mart 1930); S. 318 (zapis' za ijul'-nojabr' 1930). 40 Шкловский В.Б. Перекресток // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: статьи; воспоминания; эссе (1914-1933). М., 1990. С. 473. Shklovskij V.B. Perekrestok // Shklovskij V.B. Gamburgskij schet: stat'i; vospominanija; jesse (1914-1933). M., 1990. S. 473. 41 Шкловский В.Б. Третья фабрика // Шкловский В.Б. «Еще ничего не кончилось.». М., 2002. С. 354. Shklovskij V.B. Tret'ja fabrika // Shklovskij V.B. «Esche nichego ne konchilos'...». M., 2002. S. 354. 42 Там же. С. 337. Tam zhe. S. 337. 43 Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 152. Shklovskij V.B. Sentimental'noe puteshestvie. S. 152. 44 Шкловский В.Б. Поиски оптимизма. М., 1931. С. 6. — Главка называется «ЗАГС». Shklovskij V.B. Poiski optimizma. M., 1931. S. 6. — Glavka nazyvaetsja «ZAGS». 45 Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 158. Shklovskij V.B. Sentimental'noe puteshestvie. S. 158. 46 Шкловский В.Б. Поиски оптимизма. С. 148. Shklovskij V.B. Poiski optimizma. M., 1931. S. 148. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/ostap-i...
|
|
|
 облако тэгов
облако тэгов