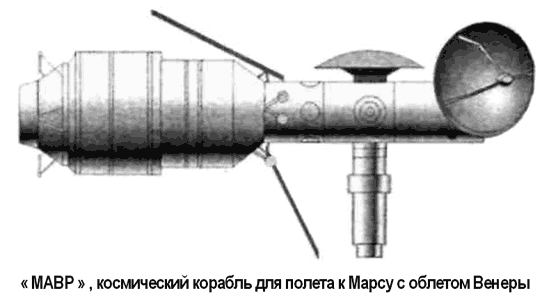| |
| Статья написана 3 июля 2020 г. 08:01 |
Янка Мавр (Иван Михайлович Федоров; 1883–1971) — ро- доначальник белорусской детской литературы. Дебютировал в 1923 г. как фельетонист — в газете «Советская Белоруссия» и ле- нинградском юмористическом журнале «Бегемот». Его первые художественные произведения появились в начале второго деся- тилетия прошлого века, в период становления белорусской совет- ской детской литературы, когда в стране отсутствовал весомый опыт издания детских книг.
В 20-е гг. ХХ века Я. Мавр создал знаковые для нацио- нальной литературы произведения, среди которых — первая научно-фантастическая повесть «Чалавек ідзе», повести при- ключенческого и научно-познавательного жанров — «У краіне райскай птушкі» и «Сын вады», первый в детской литературе отклик на реальные исторические события в форме романа — «Амок», драматические рассказы «Слёзы Тубі», «Незвычайная прынада» и «Лацароні», фантастические сказки «Вандраванне па зорках», «Пекла» и др. Писатель умело использовал художественные приемы класси- ков мировой литературы. В его творчестве встречаются реминис- ценции из произведений Л. Буссенара, Ж. Верна, Д. Дефо, А. Дюма, Ф. Купера, М. Рида, Г. Хаггарда, Г. Эмара и др. Новаторские поиски писателя основывались на тесной связи с литературными традициями и не всегда вписывались в идей- но-функциональную парадигму времени. Произведения Я. Мавра приключенческого жанра были первыми не только в Беларуси, но и во всем Советском Союзе. Писатель отмечал, что этот жанр с трудом прокладывал себе дорогу к читательской аудитории, «за- стревая» на этапе идеологической чистки: «В то время это был “предосудительный” жанр, ничего хорошего автору не дававший. Но я сознательно шел по такому пути, зная, как эти книги нужны нам. И действительно — они быстро завоевали все молодое поко- ление Белоруссии и “скрепя сердце” выдавались издание за изда- нием» [4, с. 1]. И. Б. ЛАПТЕНОК. ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ... 269 Несмотря на то, что Я. Мавр прочно вошел в литературу в начале 20-х гг. ХХ в., довольно продолжительное время он оста- вался неизвестным литературной критике. Период 1924–1934 гг. писатель называл «подпольным»: «Литературная общественность “не знала” о существовании такого автора и таких книг. Вспоми- нать имя автора считалось неудобным» [4, с. 1]. В начале 30-х гг. ХХ века наблюдалось видимое ухудшение об- щественно-политического климата в стране. Именно в это время в журнале «Маладняк» (1930, № 2), органе Белорусской ассоциации пролетарских писателей (БелАПП), осуществлявшей политику жесткого идеологического контроля, появилась одна из первых ярко отрицательных рецензий на фантастическую сказку Я. Мав- ра «Пекла»: критик предложил «снять книгу» с полок книжных магазинов как «вредное издание». Формально это был яростный протест против произведения, насыщенного «чертовщиной» и ре- минисценциями из буржуазной литературы (сказалось сходство с фабулой «Восстания ангелов» А. Франса), однако на самом деле корни отрицательной рецепции находились глубже, в авторской иронии, которая имела негативную идеологическую окраску (пио- нер, главный герой произведения, «наводит порядок» в аду, управ- ляя «синедрионом» чертей, дьяволов и бесов). Со второй половины 30-х гг. ХХ в. начался новый этап твор- ческой деятельности Я. Мавра. Считается, что писатель, насытив- шись «экзотическим», иноземным материалом, решил обратиться к реалиям окружающей его действительности и отразить глобаль- ные перспективы ее преобразования. Однако, на наш взгляд, творческое переосмысление идейно-те- матической направленности произведений возникло у автора под непосредственным воздействием идеологических приоритетов вы- шеозначенного периода и тенденций развития литературного про- цесса. Отображение современности являлось трендом советской литературы 30-х гг. ХХ века. В это время созданы «Поднятая це- лина» М. Шолохова, «Страна Муравия» А. Твардовского, «Бруски» Ф. Панферова и др. Соответствующая тематика была привнесена и в детскую литературу. Среди «заказных» тем: отражение жизни со- ветской страны, ее производства, участия молодых кадров в строи- тельстве социализма, деятельности пионерской организации. В это время Я. Мавром написаны повесть «Палескія рабін- зоны», которая рассказывала о приключениях подростков на По- лесье, утопическая «Аповесць будучых дзён» — о коммунисти- ческом будущем, приключенческая повесть «ТВТ» — о трудовом воспитании маленьких граждан. ВЕК Х Х . ПРЕД ВЕС Т ЬЯ . ДНЕВНИ К И . ПИ СЬМ А . С УД ЬБ Ы 270 Вместе с тем отношение к писателю со стороны идеологов оставалось критическим. Творчество писателя рассматривалось под ярко выраженным социологическим взглядом. В статье «Дзі- цячая літаратура патрабуе сур’ёзнай увагі» (1933) В. Селиванова обвинила писателя в аполитичности, назвала «опасной» его тягу к «чистой природе», которая, по ее мнению, вызвана «еще непо- бежденной автором мелко-буржуазной ограниченностью его ми- ровоззрения», в результате чего общественно-социальные про- блемы стали для писателя всего лишь фоном, который затмил многогранный социальный мир огромной массой природно-гео- графических фактов. В статье С. Давидович «Янка Маўр» (1936) неудачными объявлены «Человек идет», «Амок», «В стране рай- ской птицы» и другие произведения писателя. Кроме прежних обвинений, возникли и более серьезные: слабое представление писателя о теории марксизма-ленинизма, отсутствие ясного и пра- вильного понимания классовых и партийных отношений в обще- стве, недостаточная активность на литературном фронте в борьбе за советскую литературу и др. Сам писатель считал, что критика его произведений являлась неконструктивной, не затрагивала вопросы художественно-эсте- тической ценности, особенности стиля и писательского подхо- да. Он отмечал, что нередко ее основной задачей было выявле- ние негативных отношений путем бездоказательных обвинений: «Из этой критики я смог сделать только один вывод: хорошо бы, чтобы критики читали то, что они критикуют. Тревожные сигна- лы вызвала статья Войнич в “ЛіМ”е [газете «Литература и искус- ство»] под названием “Чаму могуць навучыць дзяцей такія кнігі”. Из этой статьи я узнал, что книги “Шлях з цемры” и “У краіне рай- скай птушкі” написаны только для того, чтобы принести детям вред <...>. Даже традиционного заключительного абзаца “Не смо- тря на все это...” в статье не было. Вместо этого была категоричная концовка — “Явный брак”» (тут и далее перевод автора статьи — И. Л.) [5, с. 1–2]. Литературная слава и официальное признание пришли к Я. Мавру лишь в послевоенный период. Переломным моментом стало празднование 65-летия писателя и его творческого юбилея в 1948 г. В газетах «Літаратура і мастацтва», «Чырвоная змена» и «Савецкі селянін», журналах «Беларусь» і «Полымя» появились статьи о писательском мастерстве Я. Мавра: «Янка Маўр» (к 65-ле- тию со дня рождения и 25-летию литературной деятельности) и «Шлях пісьменніка» А. Якимовича, «Янка Маўр» В. Мехова, «Творы для дзяцей» Н. Перкина, «Любімы пісьменнік дзетвары» И. Б. ЛАПТЕНОК. ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ... 271 С. Нортмана и др. Я. Мавр отмечал, что только через 22 года своей литературной деятельности он «начал чувствовать вокруг себя не- кую атмосферу уважения, в основном со стороны молодых писате- лей», которые в свое время были его читателями [3, с. 2]. В выяснении объективных причин ситуации позднего при- знания и ее авторского видения важным представляется изучение процесса формирования мнений о писателе и его произведениях, которые высказывались авторитетными участниками литератур- ной системы, к числу которых можно отнести не только литерату- роведов, литературных критиков, но и переводчиков и редакторов его книг, так как от них многое зависело в процессе перевоссозда- ния художественного единства авторского произведения. Особого внимания требует рассмотрение вопросов издания произведений писателя за рубежом. Я. Мавр был в некотором смысле интернациональным писателем, являясь одним из извест- нейших эсперантистов Беларуси. В 1926 г. он вел на радио передачу на эсперанто. Благодаря переписке с эсперантистами всего мира Я. Мавр собирал необходимую достоверную информацию для написания своих произведений. Например, сведения для романа «Амок» ему поставлял преподаватель-эсперантист с острова Ява. Произведения Я. Мавра переведены на азербайджанский, ар- мянский, болгарский, грузинский, еврейский, казахский, китай- ский, латышский, литовский, молдавский, немецкий, польский, румынский, русский, таджикский, украинский, чешский и другие языки. Его книги изданы в Америке, Англии, Китае, Литве, Поль- ше, России, Украине и других странах. Отдельные его произведения появлялись в переводе на ино- странные языки вскоре после их опубликования на языке ори- гинала. Так, в 1930-х гг. изданы на украинском языке — «Амок» (1932), на польском языке — «Аповесць будучых дзён» (1934), «ТВТ» (1935) и «У краіне райскай птушкі» (1935), на литовском языке — «ТВТ» (1936). Я. Мавр перевел известные произведения русской класси- ческой и советской литературы на белорусский язык: «Детвора» А. Чехова, «Лисичкин хлеб» М. Пришвина, «Аленушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка, «Школа» А. Гайдара, «Турксиб» В. Шклов- ского и др. Среди его переводов мировой литературной класси- ки — «Приключения Тома Сойера» и «Принц и нищий» М. Твена, «Маугли» Р. Киплинга, «Девяносто третий год» В. Гюго, «Дикие ле- беди» Г. Андерсена и др. На русском языке за пределами Беларуси вышли сборники его произведений: «Избранное: повести и рассказы» (1958), «Рас- ВЕК Х Х . ПРЕД ВЕС Т ЬЯ . ДНЕВНИ К И . ПИ СЬМ А . С УД ЬБ Ы 272 сказы» (1953), «За тридевять земель: повести и рассказы» (1957) и др. Некоторые произведения публиковались в составе изданий «Анто логия белорусской литературы» (1934), «Белорусские рас- сказы» (1948), «Возрожденная земля» (1954) и др. Отдельными из- даниями вышли «ТВТ» (1956), «Человек идет» (1960), «Сын воды. В стране райской птицы. Амок: повести» (1962), «Амок» (1964), «Полесские робинзоны» (1966), «Путь из тьмы» (1968) и др. Переписка Я. Мавра и А. Тонкеля, хранящаяся в Белорусском государственном музее-архиве литературы и искусства, открыва- ет малоизвестные грани творческой индивидуальности белорус- ского писателя, раскрывает историю создания его произведений и их переводов. Совместная творческая работа Я. Мавра и А. Тонкеля, кото- рый был переводчиком его произведений на русский язык, про- должалась на протяжении полутора десятилетий. В период с 1956 по 1968 гг. А. Тонкель перевел «ТВТ, или повесть о том, как пионе- ры возмутились против гнета вещей и удивили весь мир, как они научились видеть то, чего другие не видят, и как Цыбук добывал очки» / «ТВТ, або Апавяданне пра тое, як піянеры ўзбунтаваліся супраць уціску рэчаў і здзівілі ўвесь свет, як яны навучыліся бачы- ць тое, чаго іншыя не бачаць, і як Цыбук здабываў ачкі» (1956), «В стране райской птицы» / «У краіне райскай птушкі» (1960), «Сын воды» / «Сын вады» (1960), «Человек идет» / «Чалавек ідзе» (1960), «Амок» / «Амок» (1964), «Полесские робинзоны» / «Палескія ра- бінзоны» (1968), «Путь из тьмы» / «Шлях з цемры» (1968). Началось сотрудничество Я. Мавра и А. Тонкеля с решения вопросов, связанных с переводом на русский язык повести «ТВТ». Судя по материалам переписки, Я. Мавр на этот момент уже фак- тически разуверился в реальной возможности его подготовки. С «ТВТ» связана длительная и, в некотором смысле, казусная исто- рия, которая затрагивает проблемы литературного признания произведения, отражения социально-идеологических маркеров времени на процессах развития детской литературы. Повесть «ТВТ» написана в 1934 г. После выхода произведения в Беларуси до его издания на русском языке в переводе А. Тонкеля прошло 22 года, в течение которых писателя периодически пыта- лись заставить его переписать. В момент первого издания повести ее сопровождал успех. Сви- детельством тому является присуждение писателю Первой премии на Всебелорусском конкурсе детской книги. В письме Я. Мавра к А. Тонкелю от 05.03.1955 рассказывается, что рукописью произ- ведения заинтересовался М. Горький и попросил прислать ему. И. Б. ЛАПТЕНОК. ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ... 273 Повесть была спешно переведена на русский язык и выслана. По свидетельству Я. Мавра, это произошло накануне Первого съезда писателей СССР (1934). В связи с нехваткой времени «Горький мог только бегло просмотреть ее и отдал Маршаку со словами: “По- смотрите, кажется, что-то интересное”. Маршак передал “Молодой Гвардии”, там она и погибла» [6, ф. 290, д. 101]. Вместе с тем, на I съезде писателей СССР С. Маршак в своем докладе «О большой литературе для маленьких», говоря о литературных достижениях, отметил и «значительную школьную повесть, написанную в Бело- руссии» [2, с. 38]. Однако в то время книга так и не была издана — «как идейно порочная» [6, ф. 290, д. 101]. С точки зрения Я. Мавра, трудности возникли с неприятием идеи повести, связанной с неконтролируемой самоорганизацией трудовой внешкольной деятельности ребенка. В повести расска- зывается о том, как ребята младших классов организовали Това- рищество Воинствующих Техников — в помощь учителям, родите- лям, другим людям, нуждающимся в их услугах. Через игру ребята собственными силами исправляют неисправности, наводят поря- док и практично обживают мир. Однако «ни в каких инструкци- ях не сказано, что такие “организации”, как ТВТ, могут существо- вать» [6, ф. 290, д. 101]. Автор приводит факты внедрения идеи в реальную жизнь, когда в городах Беларуси и бывшего Советско- го Союза в широком масштабе «вспыхнуло» движение ТВТ — в Бресте, Пинске, Кобрине, Калининграде, Иванове, Ставрополе, Петрозаводске, Элекмонаре. Я. Мавр с горечью пишет А. Тонкелю: «… опасность своевременно была замечена руководством комсо- мола (Москва, Минск) и пресечена в корне. Вот почему я не верю, что вам удастся протащить зловредную книгу» [6, ф. 290, д. 101]. «ТВТ» тематически перекликается с повестью А. Гайдара «Ти- мур и его команда», которая фактически положила начало тиму- ровскому движению, ставившему своей целью добровольную помощь пионеров ветеранам и просто пожилым людям. Однако произведение белорусского писателя было опубликовано на шесть лет раньше. Письмо Я. Мавру от 10.07.1950 из Ленинградкого отделения Детгиза, подписанное его директором Д. Чевычеловым и главным редактором С. Шиллегодским, хранящееся в Белорусском государ- ственном музее истории белорусской литературы, свидетельству- ет о том, что текст произведения в его оригинальном виде (Белго- сиздат, Минск, 1949) не удовлетворял издательство. С одной стороны, в высказанных редакцией замечаниях на- шли отражение распространенные в то время рамочные подхо- ВЕК Х Х . ПРЕД ВЕС Т ЬЯ . ДНЕВНИ К И . ПИ СЬМ А . С УД ЬБ Ы 274 ды к детской литературе, в соответствии с которыми выдумка и фантазия не могут относиться к реальной жизни, которая в свою очередь, не может быть подвержена критике. В письме высказыва- ются следующие замечания: «Нам кажется, что взрослые в повести обеднены, особенно родители. Мать одной девочки не в состоянии указать, как забить гвоздь, отец мальчика не может догадаться, как ввернуть винт, целая семья ничего не может сделать с перегорев- шей пробкой электросети. Колхозники не смотрят за состоянием моста, и это приводит к беде. Может быть, нужно серьезно про- думать все поведение взрослых и не допускать такого положения, при котором “яйца учат курицу”»? [9]. С другой стороны, Я. Мавру было указано на то, что все во- просы воспитания должны курироваться школой и пионерской организацией: «Движение, вызванное “ТВТ”, нельзя переоцени- вать. Оно возможно при наличии глубокой работы школы и пи- онерской организации по всестороннему воспитанию советских ребят эпохи вступления в коммунизм» [9]. Обозначив еще не- сколько замечаний, представители Детгиза предложили автору помощь в работе для установления «общей точки зрения» на ТВТ. На обороте письма расположен рукописный текст — ответ Я. Мавра, на котором обозначена дата (05.08.1950): «Я прекрасно знаю, что многое в моей книге желательно исправить. Но где гра- ницы этого “многого”? Сколько бы я ни исправлял, все равно оста- нется основание для предъявления дальнейших требований, как к “нормальному” литературно-художественному произведению. А оно у меня “ненормальное” по своей природе. Если же изменить “природу”, то не будет и произведения. Вот почему я вынужден сложить оружие» [9]. В материалах переписки Я. Мавра с А. Тонкелем мы нахо- дим сведения об истории создания «ТВТ». В письме от 02.01.1962 Я. Мавр рассказывает: произведение зародилось из «ремесленно- го воспитания и из духа моей семьи, где мы все привыкли сами справляться с вещами… Недоступного в нашей семье не было ни- чего» [6, ф. 290, д. 101]. Я. Мавр считал, что все люди, начиная с детского возраста, по- степенно должны становиться настоящими хозяевами путем вов- лечения в повседневную трудовую деятельность [1, с. 763]. С точки зрения автора, книга учит читателя важным вещам: тот, кто до- бровольно исправил вред, сделанный кем-то другим, — сам уже никогда этого не сделает; не трудно столкнуть в сторону камень с тротуара, гораздо труднее обратить на него внимание; учись по-хозяйски относиться к вещам, которые тебя окружают; не будь И. Б. ЛАПТЕНОК. ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ... 275 равнодушным, заботливо относись к своим родным, товарищам, старшим. Осмысление данной темы продолжено писателем и в письме от 25.05.1955. Я. Мавр обращает внимание А. Тонкеля на «про- блемную сторону» повести и подчеркивает, что главное досто- инство «ТВТ» — жизненность истоков произведения, отражение существующих в обществе проблем и выявление отношения к их решению со стороны граждан — и это именно то, что ставится под сомнение «цензорами»: «Возмущаться надо этим, бороться, а не замазывать елеем. И я чувствую, что буду не в состоянии замазы- вать. Я знаю, что для пуганых ворон в книге найдется достаточ- но повода, чтобы испугаться авангардизма, но такой установки у меня не было» [6, ф. 290, д. 101]. Письмо А. Тонкеля от 12.01.1956, адресованное Я. Мавру, рас- сказывает о проведенной с Детгизом работе и начале подготовки книги к печати. Переводчик радостно и с легким юмором извеща- ет писателя о долгожданном событии — начале общения с рус- ским читателем: «И так … совсем уж скоро “слух” о Вас пройдет по всей Руси великой и имя Ваше назовет всяк сущий в ней язык!» [7, ф. 290, д. 84]. Следует отметить, что и в дальнейшем, после выхода «ТВТ», А. Тонкель обращал внимание на восприятие книги зарубежным читателем. Зная, насколько это важно для автора, он извещал Я. Мавра об известных ему фактах и событиях. Так, в своем письме от 30.11.1956 он рассказывает об отзывах, поступающих в Детгиз, их теплоте и задушевности. А. Тонкель подчеркивает, что массовый советский читатель полюбил произведение и не понимает причин, по которым оно пришло к ним с опозданием на два десятилетия, домысливая казусность ситуации по-своему: «Между прочим спра- шивают: почему автор написал последнюю главу пятнадцать лет спустя? Для пущей важности, что ли? Не может быть, чтобы такую хорошую книгу так долго не издавали» [7, ф. 290, д. 84]. Несмотря на то, что стремление издать «ТВТ» на русском язы- ке получило логичное завершение, тема неприятия произведения оставалась «больной» для писателя на протяжении дальнейшей жизни. В письме А. Тонкелю от 15.12.1956 Я. Мавр отмечал: «… комсомол, пожалуй, и до сих пор глядит на нее косо, потому что деятельность по ней не подходит ни к какому параграфу инструк- ций. Когда лет семь назад в Бресте, Пинске, Кобрине началось дви- жение “ТВТ”, то комсомол постарался прекратить такое безобра- зие. У меня где-то есть “исторический документ”, присланный из Москвы в Брест <...>» [6, ф. 290, д. 101]. ВЕК Х Х . ПРЕД ВЕС Т ЬЯ . ДНЕВНИ К И . ПИ СЬМ А . С УД ЬБ Ы 276 После выхода «ТВТ» (в переводе А. Тонкеля, 1956) книга пе- реиздавалась еще пять раз. В письме от 17.07.1963 Я. Мавр с удов- летворением и некоторым сарказмом отмечал: «… моральное удовлетворение испытываю громадное. Особенно от того, что книжица, написанная 30 лет тому назад, не стареет, а молодеет (как и ее автор)» [6, ф. 290, д. 101]. Когда при подготовке очередного издания «ТВТ» Я. Мавру по- ступило предложение от А. Тонкеля направить повесть на рецен- зию С. Маршаку, им все еще руководило стремление «реабилити- ровать» произведение и добиться его признания в авторитетных литературных кругах. Я. Мавр безоговорочно поддержал иници- ативу А. Тонкеля: «Ему будет интересно узнать, что книга жила и переиздавалась в Белоруссии, а Москва и Ленинград ее не при- знавали… А теперь вдруг 115 тысяч, молниеносно раскупленных, большая благоприятная передача по радио и стыдливое молчанье прессы» [6, ф. 290, д. 101]. О сложностях литературного признания свидетельствуют и материалы переписки Я. Мавра с Б. Яковлевым, советским лите- ратуроведом, исследователем ленинианы, хранящиеся в Белорус- ском государственном архиве-музее литературы и искусства. В 1958 г. опубликованы его переводы на русский язык сле- дующих произведений Я. Мавра: повести «Полесские робинзо- ны» («Палескія рабінзоны»), «Путь из мрака» («Шлях з цемры») и «Человек идет» («Чалавек ідзе»), рассказов «Деревянная лож- ка» («Драўляная лыжка»), «Записка» («Запіска»), «Лаццарони» («Лацароні»), «Максимка» («Максімка»), «На льдине» («На кры- зе»), «Необыкновенная приманка» («Нязвычайная прынада»), «Путешествие вокруг дома» («Падарожжа вакол дома»), «Семья» («Сям’я»), «Синьора Эмилия» («Цётка Эмілія»), «Слёзы Туби» («Слёзы Тубі»), «Фуражка» («Шапка»), сказка «Путешествие в пре- исподнюю» («Пекла»). Письма от Б. Яковлева за 1955 г. раскрывают ход работы над подготовкой переводов произведений «Цётка Эмілія» и «Шлях з цемры». Б. Яковлев информирует автора о внесенных им измене- ниях в текст рассказа «Цётка Эмілія». Несмотря на то, что пере- водчик их именует «незначительными», описание текстовых из- менений свидетельствует об их существенности: по совету «ряда знатоков итальянского быта, истории и литературы» Б. Яковлев изменил фамилии нескольких действующих лиц; ввел, вместо приведенных в тексте произведения и придуманных автором, под- линные названия улиц, существующих в Турине; для привнесения итальянского звучания дал фамилию Эмилии. И. Б. ЛАПТЕНОК. ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ... 277 Б. Яковлев посчитал нужным вмешаться в стилистику про- изведения: «я, после длительных и всесторонних обсуждений с редактором сборника Е. Р. Рамм, согласился с пожеланиями, на- правленными к тому, чтобы устранить чужеродные всему идей- но-художественному замыслу Вашего рассказа черты плакатно- сти» [8, ф. 290, д. 87]. Помимо того, переводчик решил, что писателем недостаточно четко обозначен в произведении читательский адрес, и для более четкой его конкретизации в тексте сделал ряд своих правок: «рас- сказ был, видимо, рассчитан Вами прежде всего на юных читате- лей, нуждающихся в ряде пояснений, совсем необязательных для взрослого читателя. Нам хотелось поэтому придать рассказу боль- шую сжатость, стремительность…» [8, ф. 290, д. 87]. В художественное произведение по воле Б. Яковлева были привнесены определенные идеологические каноны из дипломати- ческой практики, которые показались переводчику более уместны- ми, нежели творческий вымысел. С его точки зрения, «необходимо было также учесть распространяющиеся и на художественную ли- тературу указания о тоне и характере наших выступлений на меж- дународные темы» [8, ф. 290, д. 87]. Б. Яковлев проявлял себя при работе над переводами про- изведений Я. Мавра в первую очередь не как переводчик (при- лагающий массу усилий, чтобы «раствориться» в оригинальном произведении и воссоздать как можно точнее авторский стиль), а как литературный критик и редактор, который считает, что он вправе вмешиваться в содержание и стиль произведения в соот- ветствии со своей субъективной точкой зрения. В своем письме от 20.05.1955 Б. Яковлев свысока говорит о творчестве белорусского писателя, демонстрируя авторитетность своего мнения и высоту профессионального статуса. Обращаясь к адресату, он говорит о нем в третьем лице: «У этого писателя <...> порой проявляются явные натуралистические передержки (вроде, скажем, малоблаго- уханной лужи, которую геройски преодолевает маленький герой “Пути из мрака”) или беллетристические просчеты (например, чрезмерное множество змей в “Амоке”), но в целом это писатель своеобразный <...>, занимательный и, что особенно мне дорого, глубоко интернационалистический» [8, ф. 290, д. 87]. Тон его обще- ния в процессе переписки с Я. Мавром — снисходительно-скепти- ческий. Выбрав для перевода автобиографическую повесть «Шлях з цемры», переводчик обращается к автору: «Мне думается, что книга Ваша немногим уступает превосходному автобиографиче- скому циклу Ф. В. Гладкова» [8, ф. 290, д. 87]. ВЕК Х Х . ПРЕД ВЕС Т ЬЯ . ДНЕВНИ К И . ПИ СЬМ А . С УД ЬБ Ы 278 Сложности, связанные с литературным непризнанием, оказа- ли на Я. Мавра значительное воздействие, и поэтому атмосфера уважения до конца его жизни воспринималась им как несколько неудобная, несмотря на рационализм писателя: «Много месяцев я не мог привыкнуть к этой атмосфере, не верил ей, подозревал “подвох”, даже злился. Только через несколько лет, постепенно я привык к этому и поверил, что меня действительно уважают как старого и настоящего писателя. Одновременно с этим у меня сра- зу возросло чувство ответственности и требовательности к себе. И могу сказать, что привыкнуть к этому сейчас, на старости лет, очень трудно» [3, с. 2]. Ситуация, при которой Я. Мавр был вынужден завоевывать себе место под солнцем, оказала влияние на его самоощущение и самооценку как творческой личности, что нашло отражение в его письме А. Тонкелю от 14.01.1961: «Оглядываясь на свой литера- турный путь, я всегда испытываю одно и то же чувство: горькую досаду, обиду, что из 40 лет своей литературной работы я только в последние 15 лет узнал, что из меня мог бы выйти настоящий, хороший, интересный писатель. А предыдущие 25 лет так привык к пренебрежению от моих собратьев по перу, что и сам стал отно- ситься к своему ремеслу пренебрежительно, не придавая ему ни- какого значения. А когда я, наконец, поверил в себя, то уже было поздно» [6, ф. 290, д. 101]. Преодолевая сопротивление, Я. Мавр глубоко и всесторонне отражал в своих произведениях ценность общечеловеческих вза- имоотношений, формировал негасимое желание к постижению богатого окружающего мира, изучению значимых исторических событий, осмыслению человеческой жизни, раскрытию фантазии и творческих способностей личности. И, возможно, поэтому, не- зависимо от изменения маркеров внешней литературно-критиче- ской рецепции, его произведения пользовались у читателей — и на родине, и за рубежом — неизменной популярностью, что сви- детельствует об их безусловном публичном литературном призна- нии. 1. Гурэвіч, Э. С. Янка Маўр / Э. С. Гурэвіч // Гісторыя беларускай літарату- ры ХХ стагоддзя: у 4 т. Минск, 1999. Т. 2: 1921–1941. С. 747–770. 2. Маршак, С. Я. О большой литературе для маленьких / С. Я. Маршак. М., 1934. 64 с. 3. Маўр, Я. Аўтабіяграфічныя нататкі / Я. Маўр // Государственный музей истории белорусской литературы. КП 32548. 4. Маўр, Я. Моя литературная работа / Я. Маўр // Государственный музей истории белорусской литературы. КП 19708. 5. Маўр, Я. Чаму навучыла мяне крытыка / Я. Маўр // Государственный му- зей истории белорусской литературы. КП 32549. 6. Переписка Я. Мавра с А. Л. Тонкелем // Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Ф. 290. Оп. 1. Д. 101. 7. Письма от Тонкеля А. Л. // Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Ф. 290. Оп. 1. Д. 84. 8. Письма от Яковлева Б. В. // Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Ф. 290. Оп. 1. Д. 87. 9. Письмо из Государственного издательства детской литературы, Ле- нинградского отделения, Я. Мавру // Государственный музей истории белорусской литературы. — «Вандроўнік вакол свету …» [материалы выставки]. Лаптенок Ирина Брониславовна — кандидат филологических наук, доцент, директор Института повышения квалификации и переподготовки ка- дров учреждения образования «Белорусский государственный универси- тет культуры и искусств» (Беларусь, г. Минск) Белорусская земля в воспоминаниях и документах XIX – XX вв. Российская академия наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горького; [Отв. ред .: А.И. Алиева, М.И. Щербакова]. — М. : ИМЛИ РАН, 2019. — Вып. 2.
|
| | |
| Статья написана 14 мая 2019 г. 19:46 |
Стартовать к Марсу «ТМК» (будущий МАВР) должен был 8.6.1971 г. Янка Мавр скончался 3.8.1971 г. В 1954 г. он написал повесть «Фантомобиль профессора Цыляковского», в кот. главные герои, среди прочих событий, высадились на Марсе. 
А МЫ МОГЛИ БЫТЬ ПЕРВЫМИ МАРСИАНАМИ ЕЩЕ В 80-Х ГОДАХ... Евтифьев М.Д. В этой статье по малоизвестным материалам очень хорошо описывается период нашей космонавтики, когда к ней был прикован интерес большинства нашего народа в связи с выдающимися достижениями в исследовании космического пространства. Период конец 60-х начало 70-х годов характерен разработкой разных проектов пилотируемого полета на Марс. В данной статье рассматриваются работы по Марс-проектам в ЦНИИмаш (бывшем НИИ-88) В начале этой статьи будет полезно вспомнить, что еще с 1959 г. в ОКБ-1 С.П.Королева в отделе N 9 М.К.Тихонравова (сектор Г.Ю.Максимова) группа энтузиастов начала прорисовки фантастического проекта полета человека к Луне, Марсу и Венере. Постепенно эта работа обрела форму настоящего проекта тяжелого межпланетного корабля (ТМК), предназначенного для пилотируемых дальних полетов, в том числе облета Марса. Проект ТМК в последствии стал основой для выбора характеристик перспективной ракеты-носителя Н-1. В 1960 г. ОКБ-1 С.П.Королева (отдел N 9 М.К.Тихонравова (сектор К.П.Феоктистова)) предложило проект экспедиции на Марс на космическом корабле с электроракетными двигателями и ядерным реактором как источником энергии. По этому проекту межпланетный корабль должен был собираться с использованием РН Н-1 на околоземной орбите и затем стартовать в сторону Марса с экипажем из 6-ти человек. В 1962 г. вышло постановление правительства, по которому во всех ракетных фирмах (С.П.Королёва, М.К.Янгеля, В.Н.Челомея) были начаты работы по проектам ракет-носителей (РН) обеспечивающих пилотируемые полеты на Луну, Марс и облет Венеры. Естественно от этих проектов в стороне не мог оставаться головной по ракетно-космической технике НИИ-88. Здесь исследования по межпланетным полетам начались в начале 60-х гг. В 1963 г. в НИИ-88 был сделан сравнительный анализ возможностей носителей Н-1, 8К68 (Р-56), УР-500 и комплекса "Союз" для решения основных задач по освоению космоса. Получалось, что если подтвердятся закладываемые характеристики в РН Н-1 по грузоподъемности (число запусков), то он будет наиболее предпочтителен для решения таких задач, ориентир был сделан на Н-1. В начале 1966 г. в отделе N 12 НИИ-88 Л.Г.Головина в секторе А.Ф.Евича в группе Ю.С.Пронина были развернуты серьезные изыскания по межпланетным пилотируемым экспедициям на Марс. НИИ-88 начал работы в этом направлении с определения концепции планетного исследовательского комплекса (ПИК), который должен был отделиться от межпланетного корабля (МК) и совершить посадку на поверхность Марса в целях его исследования. При этом надо было определить основные проектные характеристики баллистического спускаемого аппарата (СА), общую баллистику экспедиции в целом и провести анализ опыта разработок зарубежных Марс-проектов. Началась работа по изучению опыта Марс-проектов проектных подразделений отечественных организаций, в том числе и ЦКБЭМ (бывшее ОКБ-1, ныне ОАО РКК "Энергия" им. С.П.Королёва). В результате были выявлены две концепции ПИКа с различной тактикой исследования поверхности Марса. По первой концепции было отдано предпочтение стационарной лаборатории (СЛаб), при этом изучение планеты должно было вестись радиальными заездами подвижных лабораторий (ПоЛаб), радиус действия которых определял величину исследуемого района. По второй концепции предполагали основную роль отдать подвижным средствам. Здесь ПИК представлял собой мобильный поезд повышенной проходимости, который вез на прицепе ракету возвращения (РВ) и был "привязан" к месту посадки на марсианской поверхности. У этой концепции было много положительного: отсутствовало дублирование жилого блока, не было аварийных транспортных средств и дробления экипажа. Но при этом требовалась значительная энергетика на движение. Так появились материалы, позволяющие приступить к выработке предварительных технических условий на мобильную часть ПИКа. В начале июня 1966 г. появилось еще одно параллельное направление работ. Перед исследователями была поставлена задача: в первую очередь изучить проект ТМК ЦКБЭМ облета Марса, и разработать свой аванпроект МК с экипажем из 6 человек, но уже для облета двух планет. Проект получил шифр "Мавр" (Марс, Венера — разом). Сотрудники ЦНИИМаш (бывший НИИ-88, ныне ФГУП ЦНИИМаш) хорошо проанализировали проект ТМК и пришли к выводу, что брать "один к одному" этот корабль в проект "Мавр" нельзя. По плану межпланетный корабль "МАВР" должен был стартовать в 1975 г. и лететь по траектории в течение 480-600 суток с использованием гравитационного маневра ускорения в поле Венеры. На поверхности планет при их пролете должны были сбрасываться автоматические исследовательские зонды. В состав корабля был введен отделяемый автономный отсек для научных исследований, представляющий собой астрономический телескоп с кабиной для наблюдателя (астроблок). МК "МАВР" укладывался в общую схему марсианской экспедиции, которую продолжали параллельно разрабатывать в ЦНИИМаш, как универсальный жилой блок (УЖБ), в котором экипаж должен был провести все время полета туда, обратно и с высадкой на Марсе. Началась работа по определению состава всех систем межпланетного корабля "МАВР" (см. рис.), их массы, энергопотребления, а также потребных объемов для размещения систем и осуществления жизнедеятельности экипажа. Для этого использовались все возможные источники информации, включая проект ТМК, западные проекты, антарктические экспедиции, новейшие эргономические нормы и проекты ядерных подводных лодок с неограниченной длительностью автономного плавания. В конечном итоге был определен весь состав УЖБ, а также учтена вся наличная масса блока и ее изменения в полёте. Был определён перечень необходимых помещений УЖБ. Нашли площади и объемы для шести индивидуальных кают, салона, витаминной оранжереи, столовой, санузла, научной лаборатории, мастерской, радиационного убежища, приборного отсека, шлюза для выхода в космос и работы в отделяемом астроблоке. Была отвергнута постоянная искусственная тяжесть в полете, создаваемая путем вращения, а после консультаций с институтом медико-биологических проблем (ИМБП) был введен на борт комплекс тренажеров для снятия отрицательного воздействия постоянно действующей невесомости. В этот комплекс была включена центрифуга, где периодически могли крутиться все члены экипажа для поддержания кровеносно-сосудистой системы на должном уровне, необходимом для перенесения перегрузок в спускаемом аппарате при возвращении на Землю и для спуска на Марс (если рассматривать УЖБ как составную часть экспедиции посещения Марса). Отсек с остановленной центрифугой мог служить спортзалом. Универсальный жилой блок получался цилиндром с диаметром 6 м с поперечным делением на 5-6 этажей (агрегатно-приборный отсек, спортзал, бытовой отсек, лаборатория, оранжерея), которые соединялись центральным проходом диаметром 2 метра. Сверху наращивался шлюз для выхода в космос. Все вместе напоминало бутылку, в вогнутое донышко которой вставлялся своей верхней более выпуклой поверхностью возвращаемый аппарат (ВА) на 6 человек для входа в атмосферу Земли и посадку на ее поверхность, похожий на слегка приплюснутый спускаемый аппарат корабля "Союз". Постепенно горлышко бутылки, на которую был похож УЖБ, стало удлиняться. К шлюзовому отсеку пристроили оранжерею с посевной площадью 14 м2 и с трехэтажным размещением кольцеобразных грядок. Компоновочная схема "МАВРа" 1 — антенна радиотелескопа; 2 — блок оранжереи; 3 — зонд для исследования Марса; 4 — шлюзовой отсек; 5 — солнечные батареи; 6 — блок жилых и служебных помещений; 7 — баки двигательной установки; 8 — возвращаемый аппарат; 9 — зонд для исследования Венеры; 10 — блок для астрономических исследований; 11 — отсек субгравитации. Ориентируемый на Солнце параболический концентратор площадью 30 м2 через единственный центрально расположенный иллюминатор заводил свет, который рассеивался по грядкам с помощью зеркала Френеля. Сплошное металлическое зеркало параболического концентратора из листового алюминиевого сплава должно было служить и как отражатель радиотелескопа для научных наблюдений планет и космического пространства, и как антенна дальнего радиокомплекса для связи с Землёй (длина волны 10-40 см). Связь с Землей длительностью 1,7-3,3 ч планировалась через каждые 4-10 дней, что можно было осуществить вполне без ущерба для оранжереи. Радиотелескоп нужен был в основном только для исследований планет при пролете. Когда был решен вопрос с зондами, универсальный жилой блок удлинился еще на один отсек для крепления и обслуживания зондов. Отсек имел четыре крестообразно расположенных стыковочно-крепежных узла, через которые с внешней стороны к нему подсоединялись два сферических зонда (посадочный и орбитальный); один марсианский с тепловым экраном диаметром 6 м, включающий орбитальный и посадочный модули, и отделяемый астроблок длиной около 7 м (крепился к УЖБ перпендикулярно). В донной части УЖБ размещалась комбинированная двигательная установка (КДУ), состоящая из четырех узлов по два ЖРД (рассматривался вариант с использованием ядерных ракетных двигателей) в каждом, расположенных по максимальному диаметру крестообразно. Топливо КДУ находилось в удлиненных баках, которые размещались на внешней поверхности УЖБ и выполняли роль дополнительной радиационной защиты. В полете по межпланетной траектории на МК "Мавр" должны были разворачиваться шесть лепестков солнечных батарей рулонного типа, по габаритам соизмеримых с самим УЖБ. Характеристики МК МАВР: Схема полета — Земля — Марс — Венера — Земля. Дата старта — 1975 г. Длительность полета — 480-600 сут. Энергетика КДУ — (приращение ХС) 1,46 км/с Скорость входа ВА в атмосферу Земли ~ 13,5-15 км/с Численность экипажа ~ 6 чел. Начальный вес МК -105680 кг В том числе: Блок оранжерея ~ 2385 кг Блок лаборатория (с отделяемыми элементами) ~ 17100 кг Зонд для исследования Марса ~ 8000 кг Зонд для исследования Венеры ~ 1250 кг Грузовой ВА — 800 кг Астроблок ~ 5440 кг УЖБ — 71500кг Возвращаемый аппарат ~ 7000 кг Топливо (АТ + НДМГ): ~ 37250 кг Дожог ~ 27100кг Коррекция ~ 7400 кг Ориентация ~ 2750 кг В январе 1968 г. в ЦНИИмаш была проведена реорганизация, было образовано отделение N 1 — космических систем под руководством А.Д.Коваля. Теперь уже в этом отделении продолжались дальнейшие разработки программ межпланетных пилотируемых полетов. 12 июля 1968 г. директором ЦНИИМаш Ю.А.Мозжориным был утвержден научно-технический отчет по теме шифр "Мавр": "Проектные исследования по пилотируемым межпланетным комплексам для осуществления экспедиции с облетом Марса и Венеры", который стал результатом, проведенных в ЦНИИМаш в течение 1966-1968 гг. серьезных проектно-исследовательских работ по межпланетным пилотируемым экспедициям и, в частности, по проекту пилотируемого облета Марса и Венеры. 30 июля 1969 г. появился Приказ Министра общего машиностроения (МОМ) N 232 о разработке ракетно-космического комплекса (РКК), обеспечивающего экспедицию на планету Марс. Шифр проекта "Аэлита". В трех ракетных фирмах, упомянутых выше, начались проработки вопросов по созданию новых РКК, способных доставить на орбиту Земли МК, который должен был осуществить полет космонавтов до Марса, посадить на Марс и вернуть их на Землю. В 1969 г. в ЦКБЭМ был рассмотрен еще один проект экспедиции на Марс. В этом проекте межпланетный корабль должен был собираться на околоземной орбите, с использованием модернизированной РН Н-1М, рассчитанной на выведение больших, чем у Н-1, масс полезных грузов. В программном документе того времени "Основные направления космонавтики в 1971-1985 гг." говорилось: "Обеспечить в 80-х гг. Марс-экспедицию — мощного средства научно-технического прогресса в ракетно-космической технике в целом и наращивание военно-промышленного потенциала. Цели и задачи экспедиции, научные задачи, решаемые в рамках межпланетных экспедиций, позволяют получить большой объем информации 10 ...10 Бит, необходимой для лучшего понимания строения солнечной системы, ее эволюции, возможности существования жизни в любых ее проявлениях на других планетах". Надо сказать, что экспедиция на Марс была запланирована на 1985 г., поэтому в ЦНИИМаш вернулись к решению проблем межпланетных пилотируемых полетов с высадкой на Марс. По проекту шифр "Аэлита" в отделении N 1 ЦНИИМаш головным был отдел N 11 А.Ф.Евича, а ведущим сектор Ю.С.Пронина, который отвечал за планетный исследовательский комплекс (ПИК), десантируемый на марсианскую поверхность, и за облик всего межпланетного комплекса в целом. Теперь ориентировались на заявленный в ЦКБЭМ проект носителя Н-1М. От массы ПИКа зависела масса всего ракетно-космического комплекса. Основной задачей было нахождение таких проектных решений, которые при минимальной массе обеспечивали бы максимум отдачи. Сначала взялись за самый тяжёлый по массе и сложный по исполнению вариант ПИКа, который обеспечивал получение наибольшего количества научной информации о поверхности планеты. Это был трехзвенный шестиколесный поезд высокой проходимости с экипажем из трех человек (пилот-планетолог; врач-биолог; инженер-механик и он же по совместительству также пилот), который рассчитывался на тридцать суток автономного движения по марсианской поверхности со средней скоростью около 12 км/ч. Головное звено представляло собой лабораторию — жилой блок с кабиной управления движением, санузлом, каютами членов экипажа, шлюзом для выхода на поверхность и рабочей лабораторией с комплектом необходимого научного оборудования. Второе звено поезда являлось ракетой возвращения (РВ) на околомарсианскую орбиту с приспособлением для установки ее в вертикальное положение перед стартом. Третьим звеном был энергоблок с ядерным реактором типа "Ромашка" мощностью в 100 кВт, теневой радиационной защитой и излучателем. ПОЕЗД был вездеходом разных грунтов. Его проходимость обеспечивалась: многоосным колесным шасси со всеми ведущими колесами, попарно расположенными на звеньях; расчлененностью корпуса ПОЕЗДа; большим диаметром 3-4 м и эластичностью колес; малым удельным давлением на грунт (0,3-0,84 кг/см2). Гибкое сочленение звеньев ПОЕЗДа исключало нарушение сцепления колес с грунтом. Централизованное производство электроэнергии и привод на каждое мотор-колесо (колесо с мотором и редуктором в ступице) обеспечивали плавное изменение тяги, рекуперативное торможение, надежное управление и осуществление бортового поворота за счет разности скоростей вращения парных колес. При этом возможность обеспечения совпадения колей колес звеньев при соответствующем управлении давало выигрыш в преодолении сопротивления движению. Предполагалось, что такой ПОЕЗД сможет за месяц пребывания на Марсе преодолеть заранее намеченный маршрут длиной в 1500 км и получить планируемый объем научной информации. Основные характеристики ПОЕЗДа зависели от параметров РВ с поверхности Марса на межпланетный корабль, находящийся на околомарсианской орбите. Характеристики РВ определялись ее полезным грузом в виде капсулы с экипажем, а также контейнером с образцами и материальными носителями полученной научной информации (кинопленки, магнитной ленты и пр.). После оптимизации масса капсулы РВ была доведена до 2,2 т. Масса капсулы в основном зависит от схемы взлета самой РВ и ее стыковки с кораблем. По массе выводимого полезного груза, по габаритам и по эксплуатационным данным наиболее приемлемой оказалась РВ, работающая на топливе: пентаборан и перекись водорода. Это было перспективное топливо, которое еще не было освоено в производстве. Одним из требований к ПОЕЗДу было обеспечение его готовности к экспедиции сразу же после спуска на марсианскую поверхность. В целях экономии времени пребывания на планете он должен был съезжать с аппарелей без проведения каких-либо промежуточных операций. Исходя из этого, а так же из атмосферных условий на Марсе, была выбрана наиболее приемлемая формой СА — "затупленный конус". Относительная масса средств спуска при этом составляла около 48% от массы всего СА с его полезным грузом. Остановились же на использовании спускаемого аппарата типа "несущий корпус" с дозвуковым планированием, предпосадочным маневром "горка" и парашютно-реактивной посадкой на хвостовую часть. Относительная масса средств спуска и посадки в этом случае была на 10% больше, чем в варианте с СА "затупленный конус", но обеспечивала более "щадящий" режим спуска. Спроектированный вариант ПИКа с ПОЕЗДом получился весьма тяжелым из-за радиационной защиты ядерного реактора и получил название "научного", т.к. его концепция была направлена на получение максимума научной информации о марсианской поверхности. Работы велись и по оценке возможности реализации и проектных характеристик варианта лабораторно-жилого блока (ЛЖБ) межпланетного корабля в варианте с искусственной тяжестью. Была разработана герметичная кабина, позволяющая космонавтам в полете перемещаться при необходимости из одной половины ЛЖБ в другую через центральный блок. При подготовке итогового отчета по теме "Аэлита" возникла идея использовать марсианский грунт в качестве радиационной защиты ядерного реактора в звене энергоблока и тем самым снизить массу ПОЕЗДа. Был разработан новый вариант, где энергоблок был выполнен в виде полого контейнера со шнековым устройством, которое на марсианской поверхности обеспечивало его автоматическое заполнение грунтом. Этот грунт выполнял функции теневой радиационной защиты экипажа от радиационного излучения реактора. Масса ПИКа при этом составила 122 т, при этом около 45-50 т приходилось на сам ПОЕЗД. Шла гонка по марс-проектам. В этой области также работали ведущие фирмы США, используя весь имеющийся технический задел по лунным экспедициям. В связи с этим были рассмотрены и варианты ПИКов с меньшими возможностями по комплексному исследованию Марса и меньшей массы. В частности, был разработан проект так называемый "бинарный" вариант, массой 95 т. В нем ПИК десантировался на Марс по частям: сначала спускался автоматический СА (50 т), а затем на маяк первого — пилотируемый (46 т) с экипажем три человека. ПИК был рассчитан на тридцать суток. Затем был разработан проект ПИКа массой 80 т на тридцать суток и три человека экипажа по схеме, где основную роль должен был играть СЛаб, которую дополнял колесный "джип" (электромобиль высокой проходимости без кабины) для исследования поверхности с радиусом действия 20 км. При этом масса РВ составляла 18 т. Далее разработали проект ПИКа с массой 45 т, который был рассчитан на 7 суток с экипажем из 3 чел., включал "джип" с радиусом действия всего 5 км и РВ массой 17 т. Этот ПИК должен был спускаться на марсианскую поверхность с помощью частично складного теплового экрана диаметром 18 м в форме кососрезанного тупого конуса с очень скругленной вершиной. И, наконец, был разработан проект самого легкого ПИКа с массой 23 т, который был рассчитан всего на 2 человека с автономным пребыванием на планете длительностью четверо суток, включал РВ массой 12 т и имел лобовой экран диаметром 12 м. Это был так называемый "приоритетный" ПИК. От этого ПИКа научной отдачи почти не ждали, а его задачей было водрузить флаг на поверхности Марса. Все варианты ПИКов разрабатывались с использованием ранее полученного задела по массам, объемам и энергопотреблению основных систем. Отчет по теме "Аэлита" вышел в двух толстых томах. Далее должен был состояться объявленный конкурс на лучший эскизный проект, техническое задание на который должен был разрабатывать опять же ЦНИИМаш. Потом оставалось решить еще много разных проблем, требующих немедленного исследования. Но основное все же было сделано, вершина проектно-исследовательских работ по марсу-проекту была преодолена. Из всей сложившейся кооперации разработки на уровне аванпроекта были сделаны к запланированному сроку только у ЦНИИМаш и ЦКБЭМ. 23 ноября 1972 г. произошла четвертая и последняя авария РН Н-1. Эта тема была закрыта и, естественно, все надежды на развитие лунной пилотируемой программы Н-1-ЛЗ, а тем более тем "Мавр" и "Аэлита", были похоронены. http://www.buran.ru/htm/mars.htm *** Полеты человека к Марсу: планы СССР Астроном из Иркутска Сергей Арктурович Язев в книге «Загадки красного соседа, или Марсианские хроники-2» в подробностях воссоздает ту атмосферу, в которой во второй половине ХХ века шла не только лунная, но также и марсианская гонка. А основными игроками тут были две сверхдержары – США и СССР. Язев пишет: «Напряженная космическая деятельность СССР была, помимо всего прочего, следствием соперничества с Западом, который олицетворяли США. Нет сомнения, что при отсутствии постоянно наступающего на пятки конкурента (который впоследствии по многим ключевым позициям вырвался вперед) гораздо меньше сил и средств тратилось бы на космос. Космос превратился в арену военно-политического соперничества. Спутники связи, метеоспутники, пилотируемые корабли и орбитальные станции создавались в первую очередь для обеспечения запросов военных. Сегодня уже трудно поверить, но даже первые пилотируемые корабли «Восток», еще не умевшие маневрировать на орбите, готовились к принятию на вооружение в качестве штатной боевой техники. Такой подход преобладал не только в СССР. Не секрет, что грандиозная американская эпопея с высадкой человека на Луне затевалась прежде всего не как научная программа, а как политическая акция, имевшая цель вернуть Америке утраченный с полетом Гагарина престиж. Цена восстановленного престижа оказалась огромной – около 25 миллиардов долларов. Разумеется, неверно утверждать, что в запусках к Луне, Венере, Марсу отсутствовали научные цели. Они, конечно же, были. Но речь идет о том, что политическая составляющая (кто первый?) тоже присутствовала и была не на последнем месте». Ракетно-ядерный щит После окончания Второй мировой войны из интеллектуальных и технических военных трофеев не все досталось одним лишь американцам. Кое-что перепало и Советскому Союзу. Спецслужбы усердно занимались сбором информации о немецких ракетах. Сразу после войны в Германию был отправлен и наш легендарный ракетостроитель Сергей Павлович Королев (1906-1966). Данные о гитлеровских ракетах пришлось собирать по крохам, тем не менее, добыть что-то удалось. И уже в 1947 году на берегу Волги заработал ракетный полигон Капустин Яр. В октябре 1948 года была создана первая советская серийная баллистическая ракета «Р-1». В общем-то, это была поначалу копия немецкой ракеты «Фау-2». Но свой опыт набирался и постепенно Королев и руководимое им конструкторское бюро создали принципиально новую ракету. Она стала базовой для отечественных военных и космических программ. Мы говорим о первой межконтинентальной баллистической ракете «Р-7». А между тем началась холодная война. Тогда вовсе не выдумками советской пропаганды, а реальными планами стран Запада были проекты атомной бомбардировки десятков наших городов. Самолеты с баз НАТО, размещенные близ границ СССР, могли уже через несколько минут проникнуть на нашу территорию. Советские же бомбардировщики должны были лететь через океан долгие часы. И тогда ставка была сделана на создание «ракетно-ядерного щита». Надо было спешно создать мощные ракеты-носители, которые бы могли в кратчайшие сроки забросить многотонные ядерные боеприпасы в любую точку земного шара. Ради этого и создавали «Р-7». Ее первый запуск состоялся в мае 1957 года. Ракета, запущенная с Байконура, попала в заданный район на Камчатке. Там возле небольшой речушки с трудом нашли воронку, образованную упавшей бомбой. Так, к началу 1960-х годов, модификация ракеты «Р-7» (установили дополнительные ступени) позволила впервые достичь второй космической скорости (11,2 километра в секунду) и отправить космические аппараты прочь от Земли. Сначала, конечно же, в сторону Луны. Удивительно, но уже в 1959 году в королевском ОКБ-1в секторе 9, его возглавлял Михаил Клавдиевич Тихонравов (1900-1974), шли технические прорисовки аппарата для полета человека к Луне, Марсу и Венере. С марта 1960 года началась разработка сверхмощной ракеты Н-1 (в различных источниках это название расшифровывается как «Носитель-1» или как «Наука-1») со стартовой массой 2200 тонн. Она уже могла вывести на околоземную орбиту полезный груз в 75 тонн! Ракета создавалась для лунных и межпланетных пилотируемых проектов. В том же году под руководством первого невоенного (и беспартийного!) летчика-космонавта, члена первого в истории освоения космоса экипажа из трех человек (в 1964 году он стал Героем Советского Союза), а тогда просто талантливого инженера Константина Петровича Феоктистова (1926-2009) был разработан проект полета на Марс на корабле с ядерным реактором и электрореактивными двигателями. Космический корабль предполагалось собрать на орбите из отдельных блоков, запущенных ракетой Н-1. Позднее от ракеты с ядерными двигателями отказались: стало ясно, что и обычный химический двигатель дает почти тот же эффект, но ему не нужна сложная система защиты от радиации. То было время грандиозных надежд. Работы по созданию сверхтяжелых лунных ракет большой грузоподъемности шли не только в СССР («Н-1»), но и в США (ракета «Сатурн-5»). Сергей Язев так описывает этот период жизни землян: «Удивительное это было время. Громадные победы космонавтики, стремительный прогресс техники, достаточное финансирование со стороны мощного государства и требования его руководства постоянно демонстрировать новые космические победы в гонке с США позволяли строить головокружительные планы, которые с позиций сегодняшнего дня выглядят нереальными. О многих технических (и не только технических) проблемах, с которыми предстояло столкнуться, создатели космической техники даже не догадывались. Сегодня не так уж сложно говорить о том, что концентрация усилий на космических исследованиях в те времена была заметным перекосом в экономике страны, лишь недавно оправившейся после разрушительной войны. Не хватало продовольствия, жилья, бытовых товаров и т.д. Но я полагаю, что именно опережающее развитие высоких технологий, которыми тогда не располагала ни одна страна в мире, позволила Советскому Союзу еще три десятилетия уверенно лидировать во многих направлениях научно-технического прогресса и внести уникальный вклад в космическую историю человечества». В Стране Советов простые граждане были полны искренней веры. Тогда казалось нам все, и полет на Марс в том числе, было по плечу. Люди верили не только в реализуемость космических планов, но и сами желали принять в них непосредственное участие, стать космическими добровольцами. В частности, читатели, завороженные техническими победами, заваливали редакции газет и журналов письмами с требованием немедленно пустить их на Марс. Вот примеры подобных просьб: Шахтер П.Созинов: «Если придется советским ученым отправлять без экипажа ракету на Марс, то прошу послать меня в ней. Я не пожалею своей жизни ради науки, раз это нужно на пользу и благо нашей Родины. Надеюсь, что моя просьба будет удовлетворена». Калужанин В.Чубуков: «Мне очень хочется, чтобы первый в мире полет на Марс был совершен из Советского Союза. Я готов в первой же ракете лететь на Марс». Москвич П.Горин: «Я молод, физически подготовлен и не сробею. Командируйте меня на Марс». Мечты, мечты! Увы, ракету «Н-1» так и не сумели заставить летать. Первый неудачный ее запуск состоялся в феврале 1969 года. Последнее испытание ракеты-носителя было произведено в ноябре 1972 года. Тогда ракета взорвалась на 107 секунде. Сергей Язев пишет: «Невзирая на то что ни одной ракете “Н-1” так и не удалось выполнить программу запуска, конструкторы продолжали работу над ней. Следующий, пятый, старт был запланирован на август 1974 года, но не состоялся. В мае 1974 года все работы над “Н-1” были прекращены. От огромной ракеты удалось сохранить только 150 двигателей типа “НК”, изготовленных для различных ступеней ракеты. Николай Кузнецов, несмотря на распоряжение правительства, законсервировал их и хранил долгие годы. Как показало время, делал он это не зря. В 1990-е годы они были приобретены американцами и использовались на ракетах “Атлас-2АР” (“ATLAS-2AR”)…» «ТМК», «МАВР», «Аэлита» Снова ночь, и небо, и надменный Красный Марс блистает надо мной. Раб Земли – окованный, плененный, Что томится грезой неземной. Только мы, своим владея светом, Мы, кто стяг на полюс донесли, Мы должны нести другим планетам Благовестье маленькой Земли. Валерий Брюсов 27 января 1969 года на Совете главных конструкторов выступил курирующий в СССР космические программы академик Мстислав Всеволодович (1911-1978). Он сделал важное заявление: «…Меня беспокоит, что у нас нет <…> ясной цели, — говорил Келдыш. — Сегодня есть две задачи: высадка на Луну и полет к Марсу. Кроме этих двух задач, ради науки и приоритета никто ничего не называет. Первую задачу американцы в этом или следующем году решат. Это ясно. Что дальше? Я за Марс. Нельзя делать такую сложную машину, как H1, ради самой машины и потом подыскивать для нее цель. 1973 год – хороший год для беспилотного полета тяжелого корабля к Марсу. Мы верим в носитель H-1. Я не уверен в 95 тоннах, но 90 будем иметь с гарантией. Последние полеты «Союзов» доказали, что стыковка у нас в руках. Мы можем в 1975 году осуществить запуск пилотируемого спутника Марса двумя носителями H1 со стыковкой на орбите. Если бы мы первыми узнали, есть ли жизнь на Марсе, это было бы величайшей научной сенсацией. С научной точки зрения Марс важнее Луны. «Вперед, на Марс!» — то старый лозунг. Его в 30-е годы прошлого века выдвинул подвижник космических полетов, пионер советского ракетостроения Фридрих Артурович Цандер (1887-1933). Его идеи в конце 1950-х годов пытался развивать Сергей Павлович Королев. Он начал поиск технических средств для пилотируемых полетов не только вокруг Земли, но и к соседним планетам. По заданию Королева рассматривались различные варианты межпланетных кораблей. Для экспедиции на Марс хотели использовать лунную ракету «Н-1». Первые расчеты огорчили. Предполагалось сначала в результате двух десятков запусков ракеты «Н-1» смонтировать на околоземной орбите марсианский комплекс со стартовой массой 1 630 тонн. Это – начало экспедиции. В конце же ее (после 2,5 лет полета) к Земле должен был вернуться модуль массой всего-то в 15 тонн. Этот огорчительный результат охладил многие головы. Стали думать о более реалистичных вариантах. Остановились на «безостановочных» облетах Марса или Венеры, без посадки на планеты. Хотели, чтобы космический корабль действовал подобно бумерангу, всячески экономя горючее. Этот вариант казался приемлемым. И две группы молодых инженеров в отделе, руководимом Михаилом Клавдиевичем Тихонравовым, принялись проектировать межпланетные космические корабли. Группа Глеба Юрьевича Максимова (1933-2001) создает «ТМК» — «Тяжелый межпланетный корабль», рассчитанный на сверхтяжелый носитель. В нем планировалось создание отсеков: жилого, рабочего (со шлюзом для выхода в открытый космос), биологического и агрегатного. Стартовать к Марсу «ТМК» должен был 8 июня 1971 года, вернуться – после трехлетнего путешествия – 10 июля 1974 года. Несколько позднее разработки группы Максимова легли в основу проекта «МАВР» («Марс, Венера разом») – он предусматривал полет к Марсу 6 человек с промежуточным облетом Венеры. По плану «МАВР» должен был стартовать в 1975 году и лететь 480-600 суток. Универсальный жилой блок корабля включал в себя шесть персональных кают, салон, оранжерею, столовую, санузел, научную лабораторию, мастерскую, радиационное убежище, приборный отсек, шлюз для выхода в открытый космос и автономный отсек для астрономических наблюдений снабженный телескопом с кабиной для наблюдателя, отсек для спортивных упражнений, с центрифугой для создания искусственной силы тяжести. Полет планировался продолжительный, посему авторы проекта особое внимание уделили системе жизнеобеспечения экипажа. Везти с собой кислород, воду и пищу сразу на всю экспедицию корабль не мог – уж слишком много надо было брать запасов. Поэтому надежды возлагали на так называемый замкнутый цикл. Воздух и воду использовали многократно, очищая их особыми приемами. Пищу предполагалось хранить в сублимированном виде, ее собирались тщательно отбирать с точки зрения пищевой ценности и удельной массы… Но в середине 60-х годов ХХ века в СССР все силы были брошены на программу высадки на Луну. Началась настоящая гонка, всем уже было не до Марса. Об этой планете заговорили в конструкторских бюро лишь в 1969 году. Лунная «гонка» было проиграна, можно было начинать «гонку» марсианскую. Стараясь на долгие годы загрузить работой ракетно-космическую промышленность США, NASA тогда начало лоббировать финансирование (с бюджетом порядка триллиона долларов) плана проведения марсианской экспедиции, следующей сразу за программой «Apollo». Советским ответом на космические инициативы США стал проект «Аэлита». Инициатива новых работ исходила от академика, трижды Героя Социалистического Труда, президента Академии наук СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша. Он сформулировал задачу. И 30 июля 1969 года (сразу после окончания первой американской пилотируемой высадки на Луну) появился приказ № 232 министра общего машиностроения С.А.Афанасьева о разработке проекта «Аэлита». Полет 5-ти людей на Марс был заявлен на 1985 год. В то время в СССР одновременно три КБ во главе с главными конструкторами В.П. Мишиным, М.К. Янгелем и В.Н. Челомеем начали на конкурсной основе проработку проекта пилотируемой экспедиции к Марсу. Была утверждена разработка модернизированного носителя Н-1М как модифицированной версии ракеты Н-1. Одновременно ведущий конструктор советских пилотируемых кораблей в ОКБ-1Константин Петрович Феоктистов получил задание по подготовке к проекту «Аэлита» — уникального межпланетного корабля, в котором должны были быть использованы преимущества повышенной грузоподъемности носителя Н-1М. Данный вариант пилотируемого корабля был назван марсианским экспедиционным комплексом (МЭК). Вот габариты будущего корабля: полная длина – 175 метров, максимальный диаметр – 4,1 метра, полная масса – 150 тонн. Задумана была доставка на Марс специального исследовательского поезда, который перемещался бы на огромных надувных колесах и питался от ядерного реактора. На этом поезде люди должны были преодолеть 1500 километров по марсианской поверхности. Рассматривался и менее экзотический вариант – путешествие по планете на специальном колесном «джипе» — электромобиле высокой проходимости. Проект «Аэлита» развивался, предстояло провести конкурс предлагавшихся вариантов. Но в конце 1972 года происходит четвертая авария на старте ракеты «Н-1», и проект создания этого так много обещавшего носителя был закрыт. Создать мощную ракету межпланетного назначения не удалось. Забыт был и проект «Аэлита». Безумству храбрых поем мы песню А теперь уместно привести две цитаты. Антон Первушин в книге «Завоевание Марса» пишет: «Интересно, что при обсуждении технических вариантов межпланетной экспедиции на теоретических занятиях в Центре подготовки космонавтов нашлись оптимисты, утверждавшие, что даже ракета-носитель «УР-500К» («Протон-К») в связке с разгонным блоком «Д» и с кораблем «Союз 7К-Л1» вполне обеспечит облет Марса при точном определении оптимальных параметров полета самим экипажем. Все упиралось в возможности системы жизнеобеспечения жизнедеятельности экипажа, ресурсов которой явно не хватало на длительный полет даже одного космонавта. Правда, в отряде космонавтов тут же объявился смельчак, готовый рискнуть жизнью ради прорыва советской пилотируемой космонавтики в межпланетное пространство. Им оказался летчик-космонавт (ныне – профессор и академик Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского) Михаил Бурдаев. Он вызвался в одиночку слетать к Марсу на уже испытанном тогда лунном орбитальном корабле «Союз 7К-Л1» («Зонд»). В случае аварийной ситуации или при недостаточности ресурсов системы обеспечения жизнедеятельности космонавт готов был застрелиться из пистолета, хранящегося в кармане защитного комбинезона». И цитата №2 из книги Станислава Николаевича Зигуненко «Тайны Красной планеты. Марс – будущее человечества?». Зигуненко иронизирует: «Долгое время лично я считал эту историю обыкновенной байкой. Вроде той фантастической истории, которую сочинил писатель-фантаст Виктор Пелевин о водителях луноходов. Дескать, отбирали специально мужичков небольших размеров, ампутировали им ноги, чтобы те влезали в отсеки строго ограниченных размеров, и отправляли на Луну вместе с луноходами. Порулил каждый, сколько мог, и опять-таки застрелился…» Если же теперь начать говорить более серьезно, то считается, что проект «Аэлита» был отклонен из-за недостатка финансов. Этот вариант опирался на универсальный ракетоноситель УР-700, который разрабатывался для лунной программы. С Луной не вышло? А не слетать ли тогда на Марс на лунном «Союзе»? Выяснилось, что во время лунной гонки наши конструкторы разрабатывали конструкцию корабля «Союз» с расчетом, что, возможно, на нем можно будет совершать и межпланетные полеты. Скажем, щит тепловой защиты. Его толщина около десяти сантиметров, хотя ни при одной посадке не сгорало больше двух-трех сантиметров. Избыточная толщина нужна, чтобы погасить уже не первую (орбитальную), а вторую космическую скорость. С ней корабли приближается к Земле после облета Луны. До Луны советские люди не дотянулись, а может сразу взяться за Марс? Использовать нереализованную лунную конструкцию для межпланетного полета? Когда Земля и Марс сходятся на минимальное расстояние, шанс осуществить эту дерзкую затею, вроде бы, имеется. Доводы против? Их два. Космонавтов надо кормить, поить, снабжать кислородом. Стали считать, сколько тут материалов требуется. На корабле «Союз» в сутки на человека необходимо 9-12 килограммов всего-всего. На орбитальных станциях за счет системы регенерации эта норма «на нос» уменьшена до 7-9 килограммов. Однако на «Союзе» не было систем регенерации. Опять принялись умножать и делить. Чтобы уйти в полет на 2 года, нужно по 13 тонн расходных материалов на человека. «Союз» в лунном варианте мог взять три человека. Это было накладно. Расчеты показывали: нужна тройная экономия припасов. А значит, лучше было бы, чтобы на Марс летел лишь один человек, который бы поддерживал корабль в рабочем состоянии, исправлял его траектории. Все бы хорошо, да имеется еще вторая заковыка. Корабль отправлялся в автономный полет, следить с Земли за ним было трудно. Значит, один-единственный космонавт должен был не только экономить в еде, но еще и стараться не сбиться с пути. Космонавт требовался особый. Он обязан был быть профессиональным баллистиком-навигатором. Только такой человек, досконально разбиравшийся в небесной механике, управляя динамикой полета космического корабля, был бы способен точно скорректировать курс. И не только достичь Марса, но и вернуться на Землю. На удивление кандидат на совершение такого подвига нашелся. Слетать к Марсу в одиночку на уже испытанном тогда лунном орбитальном корабле «Союз 7К-Л1» вызвался так и не слетавший в космос кандидат в космонавты – ныне он доктор технических наук – Михаил Николаевич Бурдаев. Вот выдержка из его беседы с журналистами: «Я был в тогдашней группе кандидатов на полет единственным, кто профессионально разбирался в космической баллистике и навигации. На очередном совещании я показал все эти выкладки и заявил: “Вот расчеты, вот оценки, еще один блок к “Союзу” – и я один улетаю на Марс”. Меня спрашивают: “А если не вернешься? Что будешь делать?” Я ответил: “Если не смогу вернуться, выполню программу исследований и застрелюсь”. Эта фраза просочилась в прессу и пошла гулять по миру, хотя совещание было закрытым. Это был рискованный, но не авантюристический проект – я собирался вернуться. Все было тщательно просчитано. Представляете, что было бы, если бы советский корабль ушел на Марс и вернулся…» http://psj.ru/saver_national/detail.php?I... Проект «МАВР» Глеба Максимова Следующие, варианты марсианской экспедиции кажутся более реалистичными. В том же 1959 году две небольшие группы молодых инженеров, входившие в состав бригады Тихонравова, сначала в инициативном порядке, а летом уже в соответствии с планами ОКБ-1 начали проектировать межпланетные космические корабли. Проект «МАВР» Глеба Максимова Первую группу возглавлял Глеб Максимов. Проект пилотируемой космической системы, получивший название «Тяжелый межпланетный корабль» («ТМК»), выдвинутый этой группой, основывался на использовании сверхтяжелого носителя. С помощью этого носителя на околоземную орбиту выводились трехместный межпланетный корабль и ракетный блок, который обеспечивал разгон корабля в направлении Марса. Затем по баллистической траектории совершался полет к красной планете, ее облет и возвращение на Землю. На пути к Марсу «ТМК» включал следующие отсеки: жилой, рабочий (со шлюзом для выхода в открытый космос), биологический и агрегатный. В состав комплекса также входили спускаемый аппарат и корректирующая двигательная установка. После выведения на траекторию полета на корабле развертывались солнечные концентраторы и батареи электропитания, а также антенны связи с Землей. Габариты «ТМК»: полная длина — 12 метров, максимальный диаметр — 6 метров, полная масса — 75 тонн. Стартовать к Марсу «ТМК» должен был 8 июня 1971 года. После трехлетнего путешествия, 10 июля 1974 года, экипаж вернулся бы на Землю. Позже, когда в ОКБ-1 приступили к реальному планированию экспедиции, разработки группы Максимова легли в основу проекта «МАВР», предусматривавшего полет к Марсу с промежуточным облетом Венеры. 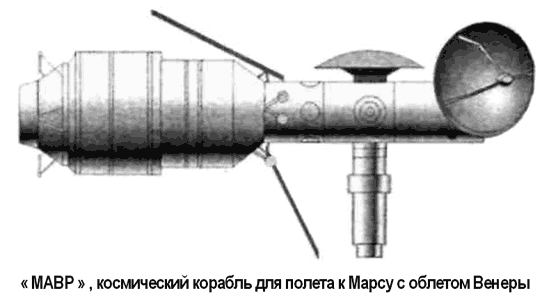
https://arsenal-info.ru/b/book/1604695417... *** https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B... https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%... И ещё один "Мавр": По винтовой лестнице мы поднялись на самый верх. С башни был виден весь Замок и город за озером. Когда-то здесь расхаживал дозорный с мечом, а сейчас валялись битые кирпичи и стоял невзрачный дощатый вагончик серо-буро-малинового цвета. В таких обычно хранят на стройках лопаты и рукавицы. Окон у вагончика не было, а на двери висела непонятная табличка: МАВР-1 Катя постучала четыре раза, и дверь открылась. На крыльцо вышел Вадим, одетый во все торжественное. — Я пригласил вас, — начал он театральным голосом, — чтобы сообщить приятное известие. Вы имеете уникальную возможность стать первыми хрононавтами. — Хрено… кем? — переспросил Жора. — Хрононавтами. Путешественниками во времени, — вполголоса объяснила ему Катя. Жук свистнул от неожиданности: «фьють-фьють!». Свистунов глупо засмеялся. А мы с Максимом переглянулись, не веря своим ушам. — Что такое МАВР? — вопросил Колотыркин, скрестив руки на груди. — Малый Административный Вагончик для Рабочих, — высказал я предположение. — Не угадал, Заец, — усмехнулся Вадим, — МАВР расшифровывается проще простого: МАшина ВРемени! — Ха! — недоверчиво сказал Жук. — А чего ж у нее такой вид? — Это на всякий случай, — ответил Колотыркин. — Чтобы не привлекать внимания. Тут Ромка снова заухал и стал толкаться, а Максим спросил: — В какой мере вы использовали специальную теорию относительности? — В должной мере, — ответил Колотыркин и жестом пригласил нас войти. Первой, ступая на цыпочках, пошла Катя. За ней Дрозд. Потом я. В самолете без привычки и то боязно, а это ж Машина Времени!.. Внутри не было никаких лопат. Стены без окон и потолок матово светились. Вадим усадил нас в мягкие высокие кресла, а сам сел за пульт с экранами и заманчивыми кнопочками. — Пристегнуться ремнями! Куда прокатить вас — в прошлое или в будущее? Только для начала недалеко! — Лучше в прошлое, — облизнулся Свистунов. — На пару часов назад. Мороженого охота. — Не мельчи! — запротестовал Максим. — Это ведь исторический момент, а ты — мороженое!.. Но Колотыркин, который и сам любил эскимо, уже нажимал кнопки на пульте. Нас тряхнуло. Электронные часы мигнули растерянно и вместо пятнадцати показали 12.00. — Приехали, — сказал Вадим. Наступая друг другу на пятки, мы выскочили из МАВРа. Все вокруг было, как было, только солнце вернулось в зенит, а киоск внизу у ворот бойко торговал мороженым. — Ай да Вадька! — восхитилась Катя. — Ай да молодец! — добавил я от души. Колотыркин на радостях вынул кошелек и послал Свистунова за эскимо: — Купишь двенадцать порций! По две на каждого! — Четы-ырнадцать! — раздался шоколадный голос. Из МАВРа, ступая, как балерина, вышла Аня Кураго, первая красавица нашего седьмого «А». Улыбки Ани Кураго В тот день я загорала на пляже с Толиком Гордеевым. На мне был обалденный купальник, в котором я выгляжу на все семнадцать. Взрослые ребята приглашали меня играть в бадминтон, и я соглашалась. Вообще-то мне скучно отбивать этот дурацкий волан, но зато можно показать себя всем-всем. А если просто валяться на песке, кто тебя увидит? От ревности Толик распсиховался и куда-то ушел. Ну и пусть! На меня смотрел из-под грибка сам Думбилов. Он был в темных итальянских очках, но я его узнала. Вообще-то я терпеть не могу хоккей, но Думбилов — звезда. Пройтись бы с ним вечером по набережной — все девчонки отключатся… Он смотрел на меня и делал вид, что читает газету, а его здоровенная подруга — тоже, наверно, хоккеистка — натирала ему плечи кремом. Я решила ему улыбнуться. У меня целая коллекция улыбок. Для начала я выбрала задорную, но ненавязчивую, открывающую мои красивые зубы. Думбилов чуть газету не уронил. Я плавно прошлась взад-вперед и улыбнулась ему приветливо, как старая знакомая. Но здоровенная подруга перехватила мою улыбку и так сдавила тюбик с кремом, что он загнулся. Я оделась и, послав Думбилову улыбку-вопрос, не спеша пошла в солнечную даль. Я думала, он меня догонит, но хоккеистка его, наверно, крепко держала. И тут я увидела этих самых голубчиков — Колотыркину с ее звеном. Интересно, что им нужно в Замке? Я незаметно пошла за ними на башню, а потом в вагончик и спряталась в кабинке, где зеркало. Сначала я думала, что все это треп, и они просто играют в Машину Времени. Но моя прическа вдруг стала такой, как до пляжа, — волосок к волоску. И я поняла, что Вадим не фантазирует: он и правда перевез нас в своем вагончике на несколько часов назад. Леонид Сапожников. Четыре самозванца (повесть)
|
| | |
| Статья написана 9 декабря 2018 г. 20:22 |
1. ФАКС был ли известен неспециалистам в СССР в 1972 г https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B... Эта история началась с обыкновенного круглого зеркальца, такого, в какие любят смотреться девчонки и которое в магазине стоит двенадцать копеек. Тошка вынул его из кармана на уроке физики, придвинулся поближе к окну и запустил в спину Таньке Крапивиной зайчика. А Танька случайно отодвинулась в сторону. Зайчик соскользнул у нее со спины и ударил прямо в доску. Тошка быстро сунул зеркальце в парту, но физик уже заметил.
— Федоров! Это что еще за игрушки? Ну-ка, дайте сюда ваше зеркало. — Я больше не буду, Борис Николаевич. Я случайно. Честное слово, — уныло сказал Тошка. — Дайте мне зеркало! — повторил физик. Тошка нехотя поднялся с места и положил зеркальце на стол. — Сядьте на место, Федоров, — сказал физик. Он никогда не отчитывал нас за всякие мелкие проступки и никогда не повышал голоса, даже если очень злился. Но если он что-нибудь отбирал во время урока, то уже не отдавал никогда. Вот и сейчас он покрутил зеркальце в пальцах и посмотрел на часы, которые лежали на раскрытом журнале. — То, что я хочу вам рассказать, произошло две тысячи сто лет назад. Ровно две тысячи сто лет назад римский адмирал Марцелл привел свой флот к греческому городу Сиракузы и блокировал его с моря... Класс притих, потому что Борис Николаевич здорово умел рассказывать. Однажды он начал урок с обыкновенного ржавого гвоздя, который подобрал где-то по дороге в школу. Он намотал на этот гвоздь тонкую лакированную проволочку и пропустил по ней ток от карманной батарейки. И гвоздь превратился в магнит, который притягивал перья, бритвочки, булавки и всякую железную мелочь, которую ребята бросали на стол. А один раз он принес две толстые палки, одну из них концами привязал к ниткам, нитки эти держали за концы Николайчик и Юрка Блин, а Борис Николаевич ударил изо всей силы по середине привязанной палки другой палкой. И эта палка, которая висела на нитках, сломалась, а нитки даже не оборвались! Борис Николаевич сказал, что это закон инерции и что все дело в том, как ударить по палке. И еще неизвестно, кто лучше рассказывает — Борис Николаевич или Владимир Николаевич, наш историк. Историку приходится верить на слово: кто знает, как там жили наши прапрапрапрадеды, когда они и писать-то еще не умели. А вот физику... Достаточно взять в руки мел, там перемножить, тут сложить, и сразу все ясно, и никаких тебе споров. Против математики не пойдешь. Интересно, к чему это физик начал про древних римлян и про Сиракузы? — Большим и сильным был флот Марцелла. Шестнадцать тяжелых боевых трирем закрыли выход из сиракузской гавани и не выпускали в море ни одного корабля, ни одной лодки. Не могли выйти на промысел рыбаки. Прекратился подвоз продуктов. И скоро в Сиракузах начался голод. Городские власти пытались начать переговоры с Марцеллом, но адмирал надменно ответил, что ни о каких переговорах не может быть речи, пока он не захватит город и не разграбит его дотла. А Сиракузы были очень богаты. Сюда привозили золото из Африки, ценное дерево из Ливана, дорогие масла с Крита и красивые ткани с востока. Жители Сиракуз приуныли. Они не видели выхода и готовились к последнему бою. И тут им на помощь пришел знаменитый ученый Архимед. Он осмотрел флот Марцелла с вершины холма над городом, а потом приказал собрать у богатых горожан самые большие зеркала. А надо сказать, что зеркала в то время стоили очень дорого, потому что их делали не из стекла, а из полированных пластин бронзы. Это была тяжелая и долгая работа. Вечером все найденные зеркала принесли в дом Архимеда. Ученый отобрал из них двадцать четыре самых больших и самых блестящих. На следующий день, в самый жаркий час, когда земля ссыхалась и трескалась от солнца, Архимед роздал зеркала женщинам-рыбачкам и приказал пустить в борт самой большой триремы двадцать четыре солнечных зайчика. — Все зайчики должны попасть в одном место, — сказал он. И вот на борту триремы загорелось ослепительное солнечное пятно... Борис Николаевич повернул Тошкино зеркальце к солнцу и пустил зайчика на заднюю стену класса. Все обернулись, зашумели, захлопали крышками парт, а Орька Кириков и Николайчик захихикали. — Вы поступаете точно так же, как поступили матросы Марцелла, — сказал физик. — Они тоже собрались на палубе и хохотали до упаду, показывая пальцами на женщин, которые занимались таким глупым делом. Но смеяться пришлось недолго. Вскоре сухие доски борта триремы задымились и вспыхнули, а через минуту огонь бросился на просмоленные канаты и на все, что могло гореть. Так были сожжены все шестнадцать страшных трирем Марцелла. И ни одна из них не успела выйти из сиракузской гавани и привезти домой весть об ужасном разгроме римлян на море... Урок окончен! — сказал Борис Николаевич и захлопнул журнал. Несколько мгновений все сидели молча, ожидая, что Борис Николаевич добавит еще что-нибудь, но он сунул журнал под мышку, положил Тошкино зеркальце в карман и пошел к двери. Тогда все повыскакивали из-за парт, обступили его и стали расспрашивать. Больше всего вопросов задавал Тошка. Он ловил каждое слово физика и смотрел на Бориса Николаевича так, будто увидел первый раз в жизни. — А на каком расстоянии от берега стояли эти самые триремы? — Конечно, дальше, чем на расстоянии полета стрелы. Иначе римляне перестреляли бы всех женщин. Это метров сто — сто пятьдесят. — А какого размера были зеркала? — Самые большие, какие нашлись у горожан, так говорится в легенде, сказал физик. — Так, значит... это легенда? — разочарованно протянул Тошка. — А я-то думал... — Да, к сожалению, это красивая сказка, — сказал Борис Николаевич. — Но то, что флот Марцелла был уничтожен под Сиракузами Архимедом, — это уже не сказка, а исторический факт. До сих пор на главной площади Сиракуз стоит памятник, на котором Архимед изображен с зеркалом в руках. Только никто не знает, как все произошло в действительности. * * * Мы с Тошкой живем недалеко друг от друга, на окраине города, и всегда ходим в школу и из школы вместе. В тот день, когда физик рассказал про Сиракузы, Тошка всю дорогу домой восхищался, размахивая портфелем: — Вот тебе и древние! А? Ты смотри, что делали! Шестнадцать трирем! И чем? Простыми зеркалами! Надо же такое придумать! Ну и молодчина этот ихний Архимед! Вот это изобретатель! Это я понимаю! Он восхвалял Архимеда на все лады, называл его величайшим ученым мира и гениальнейшим человеком всех времен и народов. А я сомневался. Я никак не мог поверить, что большой военный корабль можно поджечь простым солнечным зайчиком. Да и древние греки, по-моему, были изрядными врунами. Обычных героев у них не было, а все были прямо-таки сверхгероями. Взять хотя бы Геракла. Если верить всему, что про него написано, то он, еще не выйдя из пеленок, начал совершать великие подвиги. Например, душил голыми руками здоровенных удавов и рвал, как бечевки, морские канаты. Да обычному младенцу, хоть он пупок надорви, в жизни такого не совершить. Все это сказки. Эти древние греки были, наверное, отчаянными выдумщиками и навыдумывали столько, что в конце концов сами перестали понимать, где сказка, а где правда. И про Архимеда, наверное, тоже так. Какой-нибудь из историков что-то перепутал, ну и пошло из книжки в книжку. А корабли-то подожгли обычными факелами. Незаметно подплыли и сунули в какую-нибудь щель. Я про все это сказал Тошке. Тошка вдруг сильно покраснел и начал орать на всю улицу: — Факелами?! Да ты хоть немножко подумай, прежде чем болтать ерунду. Был ясный солнечный день. Как же они могли подплыть к кораблю с факелами? Их бы сразу заметили и спокойно перестреляли из луков. На выбор, как в тире. Тут дело ясное — они могли только зеркалами и ничем больше! Я подумал и сказал, что, может, в этом месте историки и перепутали. В тот день, может, не было яркого солнца, а был густой туман и все произошло так, что матросы Марцелла ничего не заметили, а когда заметили, то было поздно. — Туман? — заорал Тошка. — Значит, ты считаешь, что историки были круглыми идиотами? Уж туман-то от солнца отличит даже... даже червяк, у которого вовсе нет глаз. А тут все-таки историки... — Ну ладно, пусть будет солнце. Только ты и сам знаешь, что зайчик от зеркала ни капли не греет. Он только блестит, а тепла от него ни на грош. Тошка нахмурил брови и задумался. — Да, это верно... От увеличительного стекла — другое дело, а вот от зеркала... Постой! — он вдруг схватил меня за рукав. — А ты пробовал когда-нибудь несколько зайчиков в одно место? Вот видишь! И я тоже не пробовал. А проверить это очень легко. Набрать зеркал сколько можно, дома, у знакомых, еще где-нибудь и... Послушай! Завтра как раз воскресенье, мать с утра на базар уйдет и вернется только после обеда. И мы можем спокойно произвести опыт. И тогда мы узнаем, кто прав: Архимед или Борис Николаевич. Понятно? Чем дальше говорил Тошка, тем тверже звучал его голос, и скоро я почти верил, что Архимед действительно сжег зеркалами и что наш опыт будет удачным, и только немного жалел, что не мне первому пришла в голову мысль проверить Архимеда. Так это началось, и в тот день я совершенно не подозревал, что значит проверка исторического факта. Тошка жил совсем недалеко от меня, на Степной улице, больше похожей на длинную лужайку, чем на улицу. Она сплошь заросла лопухами и высокой травой, в которой изо всех сил стрекотали кузнечики. Через забор Тошкиного двора свешивались ветви яблонь, усыпанные хлопьями бело-розовых цветов. Над ними тонко звенели пчелы, будто тянули с цветка на цветок невидимые струны. Хорошо было здесь. Тихо. И даже как-то дремотно. Я просунул руку между рейками забора, нащупал вертушку калитки и вошел во двор. Тошка стоял у крыльца. Он сразу увидел меня и очень обрадовался. — Ага! Принес зеркала? Иди скорее сюда. Сколько штук? Я вынул из карманов пять зеркалец — все, что удалось достать дома и у соседки Людмилы Андреевны. — Наверное, хватит, — сказал Тошка и развернул большой пакет, лежащий на крыльце. Там оказалась целая коллекция зеркал — больших и маленьких, с ножками и без ножек, ручных и бритвенных, и было даже одно настенное в деревянной рамке. — Двадцать одна штука, — с гордостью сказал Тошка. — У всех соседей и знакомых выпросил. Вечером надо отдать, а то больше никогда не дадут. — А что будем поджигать? — Дрова. Я там целый костер собрал. Самых сухих, — показал Тошка в глубину сада. — А кто зеркала будет держать? — Никто. Сами будут держаться. Я все обдумал, не беспокойся. Мы прошли в дальний конец сада, туда, где буйно разрослась малина и крапива и где рядом с будкой рыжего пса Джойки была сложена куча хвороста. Солнце в небе уже набрало полную силу, и рубашки у нас потемнели от пота, пока мы пристраивали зеркала на ветках яблонь и на обломках кирпичей. Это оказалось очень трудной штукой — навести все зайчики в одно место. Наконец все приладилось. Ярко-золотое пятно с голубоватыми струистыми краями уперлось в кучу хвороста. Тошка подсунул под него ладонь и тотчас отдернул руку. — Жжется! — воскликнул он, — Понял теперь? Когда несколько зайчиков тогда совсем другое дело. Я тоже подсунул руку. Зайчик был горячим, но, по-моему, не настолько, чтобы от него загорелись прутья, хотя бы даже сухие. — Не особенно, — сказал я Тошке. — Слабее, чем от увеличительного стекла. — Давай подождем, — сказал Тошка, и мы уселись на землю рядом с Джойкиной будкой. Пес признательно заскулил, загремел цепью и попытался облизать нам лица, но мы оттолкнули его. Ведь он не понимал, что производится проверка великого исторического факта. Прошло минут пять, но хворост даже не задымился, а сверкающий зайчик ушел в сторону, потому что солнце немного передвинулось по небу. Снова пришлось устанавливать зеркала и направлять зайчики в одно место. Я опять подставил ладонь под золотое пятно. — Тошка, по-моему, оно даже спичку не зажжет. — Сейчас посмотрим, — сказал Тошка. Он достал из кармана коробок, вынул из него спичку и поднес ее к середине зайчика. Он держал ее там очень долго, у меня даже глаза стало ломить от блеска, а спичка все не загоралась и не загоралась. А потом вдруг вспыхнула, и Тошка с торжеством посмотрел на меня. — Вот видишь. Ты просто ладонь совал не туда. Не в самое жаркое место. И в этот момент от калитки раздался зычный голос: — Анто-о-он! — Все. Пришла... — тяжело вздохнул Тошка и отшвырнул спичку в сторону. Всю жизнь вот так. Никогда ни одного опыта не закончить. Идем, а то она прилетит сюда, и тогда все пропало. Мы побежали к дому. — Тебя где это все утро носит? — спросила мать нехорошим голосом, подступая к Тошке. — О чем ты только думаешь, я спрашиваю? Я уже успела огород прополоть и на базар сходить, а у тебя что? Двор не метен, в ведрах ни капли воды, куры не накормлены... Да что же это за наказанье на мою голову послано? Что это за бездельник растет, хотела бы я знать? У всех людей парни как парни, а этот скаженный какой-то, только и смотрит, чтобы из дому куда стрекануть. — Подожди, сейчас все будет в порядке, — сказал Тошка, хватая со скамеечки у крыльца ведра. — Айда, Колька, мы это в один момент... Гремя ведрами, мы выскочили на улицу и помчались к водоразборной колонке. — Она если начнет, то до вечера не остановится, — сказал Тошка, обеими руками качая рычаг колонки. — Но ты не бойся. Это она для виду кричит. Пугает. Вот еще только кур покормим — и полный порядок. Ты не обращай на нее внимания. Мы потащили ведра к дому. Вода золотыми рыбками билась о светлые жестяные стенки. Иногда рыбки выплескивались через край и обжигали ноги неожиданным холодком. Матери во дворе не было. Мы поставили ведра на скамеечку и накрыли их фанерными кружками. Тошка бросил слетевшимся со всех сторон курам несколько горстей кукурузы: — Нате, жрите, проклятые! А я взглянул в ту сторону, где мы оставили зеркала, и внутри у меня все замерло: над яблонями в полинявшее от жары небо поднимался голубоватый столб дыма. — Тошка, смотри! В следующий момент мы неслись напролом через кусты крыжовника, через вязкую картофельную ботву по осыпающимся под ногами грядкам к тому месту, где был сложен хворост. Но куча хвороста лежала целехонькая там, где ее сложил Тошка. Зато рядом с треском полыхала Джойкина будка, а сам Джойка с опаленной на боках шерстью метался вокруг, пытался перегрызть цепь и скулил жалобным, почти человеческим голосом. Удушливо дымила старая телогрейка, служившая Джойке подстилкой, стреляли золотыми искрами доски, а мы стояли, не веря своим глазам, и смотрели. — Колька, — наконец прошептал Тошка, — так, значит, это не сказка! Значит, он их все-таки зеркалами... Да, Архимед сжег флот Марцелла зеркалами, сейчас в этом не было никакого сомнения. Даже всемирно известные ученые не верили в это. А вот он, Тошка Федоров, мой друг, доказал, что историки ничего не перепутали и греки вовсе не такие вруны, как кажется, когда читаешь про их битвы и победы. — Тошка, это же очень важное доказательство... Надо сейчас же сказать об этом Борису Николаевичу, а потом ученым, а потом написать... — Нет, так ничего не выйдет, — сказал Тошка. — Сначала надо сделать настоящий... И тут за нашими спинами взорвался пронзительный крик Тошкиной матери: — Да что же вы, ироды, здесь вытворяете, хотела бы я знать?! * * * В понедельник по дороге в школу Тошка предупредил меня: — Смотри, никому не болтай о том, что мы доказали. Еще не время. — Почему? — спросил я. — Доказательство придется делать перед учеными, и не тяп-ляп, а по-настоящему, понял? Поэтому нам придется построить установку. Ведь если мы развесим зеркала на яблонях да расставим на кирпичиках, нас засмеют. — А какую установку мы будем строить? Тошка начал рассказывать: — Надо взять круглую фанерину побольше и на нее приклеить зеркала. Штук восемьдесят или сто. Чем больше, тем лучше, сильнее жечь будет. А в середине фанерины просверлить смотровое отверстие, чтобы видеть, куда направлять луч... И тут я понял, до чего все просто и какая гениальная голова у Тошки. Зеркала к фанерному щиту надо приклеить с небольшим наклоном — так, чтобы все зайчики сошлись в одном месте. Можно даже, чтобы они сошлись в ста шагах от фанерины, можно и дальше. — Тошка, а не кажется тебе, что у нас получится самый натуральный гиперболоид? Только без всяких пирамидок, а солнечный? — Э, гиперболоид! — воскликнул Тошка. — Гиперболоид — это настоящая фантазия. А у нас ничего не выдумано. И вдруг я вспомнил воскресный день, обгоревшего, стонущего Джойку, крик Тошкиной матери, и радость сразу убавилась наполовину. — Меня после того случая твоя мать близко к вашему дому не подпустит. Да я и сам не пойду. У меня до сих пор спина будто ободранная. — Спина... — с презрением сказал Тошка. — Что спина? Подумаешь, хлестнула разок ремнем! Тебя что, убавилось от этого, что ли? Инквизиторы сожгли на костре Джордано Бруно. Сожгли! А ты — ремень... А Галилея заставили отречься, будто Земля не вертится. Он отрекся, а потом сказал: "А все-таки она вертится!" Вот были какие люди! * * * Все-таки мы решили строить установку в нашем сарае, потому что по вечерам моя тетка дежурила в больнице и, кроме того, у меня был набор столярных инструментов: два долота, ножовка и коловорот. Фанерину мы добыли на Тошкином чердаке. Я вбил в середину листа гвоздь, привязал к нему бечевку, к свободному концу бечевки — карандаш и начертил на фанерине ровную окружность. Тошка ножовкой обрезал углы, а края зачистил наждачной бумагой. Круг получился белый, гладкий, похожий на рыцарский щит. Его приятно было держать в руках. Дальше строительство не пошло. Нужны были зеркала. Сто пятьдесят штук. Сто пятьдесят штук — это двадцать рублей (два рубля мы прикинули на разные расходы). Столько денег сразу ни я, ни Тошка никогда не держали в руках. Матери давали нам по пятнадцать копеек на завтрак в школе, да изредка перепадало на кино. Мы подсчитали, что если экономить на завтраках, то нужная сумма наберется только через два месяца. Тошка печально посмотрел на листок с расчетами и сказал, что, кроме всяких других несчастий, у великих изобретателей и ученых никогда не было денег, и жить им приходилось в мрачных, сырых подвалах или на холодных чердаках, и умирали они в страшной нищете и полном забвении, потому что их изобретения и открытия присваивали себе люди более ловкие. И тут же Тошка рассказал про какого-то крестьянина, который во время крепостного права из тележных колес и козел для пилки дров соорудил велосипед, приладил передачу из просмоленной веревки и откуда-то с Волги приехал на этом чудище в Москву. Москвичи ахали, удивлялись, но изобретателю так ни копейки и не дали. Мы пробовали выпрашивать зеркала у девчонок, но ничего путного не получилось. Девчонки хихикали, смотрели на нас с подозрением и задавали глупые вопросы. У знакомых удалось достать только три зеркала, да и те были какие-то тусклые, ободранные и не одинаковые по размеру. А нам нужны были только одинаковые. Идея умирала, едва успев появиться на свет. И когда казалось, что все уже безнадежно и нет никакого проблеска, у меня вдруг неожиданно вырвалось: — А бутылки? — Какие бутылки? — удивился Тошка. — Всякие. Молочные, винные, пивные. Какие найдем. И тут я увидел, как на хмуром Тошкином лице засветилась, наконец, улыбка. Первым делом мы залезли на чердак и обшарили каждый его закоулок. Добыча была неплохая — шестнадцать пыльных, затянутых паутиной бутылок, из которых одна была очень красиво оплетена соломой. Бутылки мы вытащили во двор и принялись за сарай. Там тоже оказалось пять штук, и две больших молочных я нашел на кухне. Таким образом, не считая оплетенной бутылки, у нас оказалось двадцать штук, за которые в магазине давали по двенадцать копеек, и две молочные сорок. Всего на два рубля восемьдесят. Двадцать три зеркала! Совсем не плохое начало. Весь остаток дня мы скребли и мыли эти бутылки, пока они не стали как новенькие. На другой день Тошка принес из своего дома тринадцать штук, и мне удалось достать девять у Орьки Кирикова. Шесть были от шампанского, по семнадцать копеек штука. Итак, за два дня, не затрачивая особенного труда, мы заработали около шести рублей. Если дальше все будет идти в том же духе, то через неделю у нас в руках будут все сто пятьдесят зеркал! Но на третий день мы добыли только пять бутылок, а на четвертый и вовсе ни одной. Мы обошли всех наших ребят — были у Борьки Линевского, у Блина, не поленились сходить даже на другой конец города к Николайчику, но безрезультатно. То ли родители у них никогда ничего не покупали в бутылках, то ли старались сразу же сдать их в магазин. Однажды после уроков мы сидели на крутом берегу нашей речушки, швыряли в воду камни и все думали, где же достать денег, как вдруг Тошка сказал: — Почти все изобретатели были бедняками. А некоторые даже нищенствовали. — Брось, Тошка, — сказал я. — Неужели они просили по-настоящему, как безногий Степаныч у нас на базаре? — Просили. Самым натуральным образом. Правда, некоторые. И то когда доходили до точки. Он замолчал, и лицо у него стало сосредоточенным, как на арифметике, когда попадется трудная задача. — Колька, — сказал он вдруг, — как ты думаешь, мы уже дошли до точки или еще не дошли? — Н... не знаю, — растерялся я. — Наверное, дошли. — Тогда, значит, нам тоже можно это... попробовать. — Что попробовать? — Ну... это самое... нищенствовать. Глаза у меня сами собой широко раскрылись, следом раскрылся рот, и весь вид, наверное, стал у меня дурацким до невозможности, потому что у Тошки на лице появилось тревожное выражение и даже испуг. — Ты что? — шепотом спросил он. — Ничего. А ты что, в уме? — наконец произнес я. — Какие же мы нищие, если тетка мне позавчера новые ботинки купила и у нас у каждого дом и еда каждый день? У тех изобретателей вообще ничего не было. — А что здесь такого? — возразил он. — Сидит же на базаре Степаныч. Тоже в своем доме живет. И два поросенка у него в котухе хрюкают. И сад, и огород у него вон какие! И все ему подают. За день небось полную шапку пятаков набирает. И не стесняется, хотя инвалид. — Пьяница он без стыда и без совести. И еще спекулянт. Спекулирует своими култышками перед народом. Народу-то что, ведь не все знают, что у него свой дом. Вот он и пользуется этим. Будь я милиционером, я бы ему сразу место нашел! Инвалид! Грош такому инвалиду цена! Маресьев вон тоже без ног, а научился истребитель водить и до конца войны бил фашистов. И еще как бил! На весь мир прославился. Вот это настоящий инвалид. А твой Степаныч... тьфу, даже противно. — Да вовсе не в Степаныче дело, Колька. Ничего ты не понял. Я про то говорю, что можно просить на изобретение у прохожих. — Просить? — Конечно. Только не так, как Степаныч. — А как? — Ну... — Тошка замялся. — Можно, например, подойти и сказать: "Дяденька, у меня не хватает на кино..." Или еще что-нибудь придумать. В голове у меня вдруг все так перепуталось, что я никак не мог собраться с мыслями и сообразить, всерьез это Тошка или разыгрывает меня? — И не так это стыдно, как кажется, потому что мы не на какую-нибудь ерунду, а на установку... Может быть, это будет величайшим открытием, о котором люди позабыли, считая его сказкой, а мы вернем это открытие человечеству... — Тошка шмыгнул носом от возбуждения. — Что для человека пятак? А мы за вечер можем рубля два набрать. И тогда через неделю... Теперь я убедился, что Тошка не шутит, и испугался по-настоящему. Город у нас небольшой, знакомые встречаются на каждом шагу, и если кто-нибудь увидит, что мы нищенствуем... я даже представить не мог, что будет. А Тошка продолжал, вдохновляясь все больше; — И ты знаешь, как мы назовем наш... этот самый... аппарат? ФАКС, вот как. По первым буквам наших имен и фамилий. Федоров Антон, Коля Соколов. ФАКС. Здорово звучит, правда? ФАКС! Как выстрел. "Вечером, положим, знакомые не так уж часто встречаются, особенно в центре, — подумал я. — Да и просить мы будем не у всех, а только у некоторых... В конце концов, если нарвемся на знакомых, им тоже можно будет соврать что-нибудь... И вообще..." Чем больше я слушал Тошку, тем плотнее становился туман в моей голове, и я уже не мог различить, что хорошо, а что плохо, а Тошка соловьем заливался над самым ухом: — А потом мы притащим его в школу и докажем, что Архимед сжег все-таки зеркалами и что мы усовершенствовали способ Архимеда... И о нас будут писать в научных журналах, и приглашать на разные конференции, и выбирать в президиум... А иначе у нас ничего не получится, потому что ни твоя тетка, ни моя мать никогда нам не дадут сразу по десять рублей, и ФАКСа не будет, и никогда в жизни мы ничего не докажем... А если не веришь — назови меня дураком... Мне вдруг так стало уныло и серо — ну, прямо до слез. "В самом деле из-за каких-то паршивых десяти рублей все идет прахом, все останавливается, все гибнет... Ведь ради доказательства, которое мы с Тошкой уже сделали, ради ФАКСа можно на какой угодно позор. Да какой там позор! Чепуха это все. Подумаешь — попросил на кино..." — Твоя правда, Тошка, — сказал я наконец. — Иначе у нас ничего никогда не будет. Давай пойдем нищенствовать завтра вечером. — Зачем завтра? — воскликнул Тошка. — Давай сегодня! Уже почти вечер. Пойдем туда, где больше всего народу. На улицу Мира или на Почтовую... "В самом деле, чего тянуть?" — подумал я и сказал: — Ладно, идем. * * * Мы остановились на Республиканской, недалеко от обувного магазина. Наступал летний прозрачный вечер. Гуляющая публика слонялась по тротуарам, глазела на яркие витрины магазинов, шутила, пересмеивалась и звонко грызла каленые семечки. — Лучше всего просить у женщин, — сказал я. — Они всегда сочувствуют. — Сочувствуют? — сказал Тошка мрачно. — Ну-ка, попробуй попроси у моей матери. Она тебе так посочувствует, что три дня чесаться будешь. Нет, я у женщин просить не буду. Лучше всего у парней. Вон видишь — идет в сером пиджаке? Высокий такой? Этот обязательно даст. — Подожди, я попробую, — сказал я и двинулся навстречу парню. Мне хотелось доказать Тошке, что не он один все может придумывать, что я тоже кое-чего могу, и, кроме того, хотелось, чтобы он не особенно задирал нос потом, когда все будет построено. Работать — так работать на равных! Сначала я шел очень быстро и думал, что попрошу не пять и не десять, а все пятнадцать копеек, но чем ближе я подходил к парню, тем медленнее передвигались у меня ноги и внутри становилось как-то нехорошо. Парень заметил меня и тоже замедлил шаги, и мне вдруг очень захотелось повернуть назад. Но было поздно. Парень ждал, вопросительно глядя на меня. Я хотел сказать хоть что-нибудь, но язык никак не хотел поворачиваться во рту, и я стоял перед парнем, беззвучно открывая и закрывая рот. — Что, друг, обознался? — спросил наконец парень. — Ну, ничего, ничего, бывает! Он засмеялся, отошел от меня и потерялся в толпе. И тут рядом со мной оказался Тошка. — Эх ты, — сказал он. — Чего же молчал-то? И вдруг язык у меня опять стал нормальным. — Понимаешь... Я все не знал, как начать. Нам нужно было не сразу, а немного потренироваться. — Потренироваться! — с яростью произнес Тошка. — Что мы, в театре, что ли? Просто ты сдрейфил, и все. Вот смотри, как надо. Он высмотрел в людском потоке пару — парня с черноволосой девушкой в красной кофточке — и смело направился прямо к ним. — Дяденька, — проговорил он таким хриплым и низким голосом, какого я у него никогда не слышал. — У меня это... на кино не хватает... всего десять копеек... Картина очень интересная... и вот не хватает... Честное слово! Парень с любопытством посмотрел на Тошку и спросил: — А какое кино? Тошка вдруг втянул голову в плечи и часто-часто заморгал глазами. Дело в том, что сегодня мы даже не взглянули на афиши и не знали, где какой фильм идет. — Ну что, вспомнил? — нетерпеливо спросил парень. — Вспомнил... — пробормотал Тошка. — "Адские водители"... — А где? — В "Ударнике"... — прошептал Тошка. — Эге-ге! Такой фильм, а я и не знал! — воскликнул парень и обернулся к девушке. — Сходим, Лариса? Ведь ты не видела, правда? Девушка улыбнулась и кивнула. — Вот красота! — обрадовался парень и еще крепче подхватил девушку под руку. — А ты — идем вместе с нами, — сказал он Тошке. — Мы тебе билет купим. Кстати, во сколько начало? — Нет! Не надо никакого билета! Мне только десять копеек! Я возьму билет сам! — в отчаянье забормотал Тошка. — И чего ты стесняешься, в самом деле! — сказал парень. — Я тоже таким был, знаю, как хочется. Идем, если приглашают! Свободной рукой он подхватил упирающегося Тошку и потащил его по улице в ту сторону, где был клуб "Ударник". Тошка оглянулся, и я увидел его испуганные, отчаянные глаза. И тут я вспомнил, что сегодня среда, а по средам в "Ударнике" работают разные кружки самодеятельности и никакого кино не бывает. И я понял, что Тошка влип самым страшным образом. Я долго стоял, не зная, что делать, ошеломленный случившимся. Каким образом Тошке удастся вывернуться? Что скажет он парню? Народу на улице становилось все больше. В такой вечер никому не хотелось сидеть в квартире. Меня непрерывно толкали, потому что я был в самой гуще толпы. В конце концов меня отжали к поручню у витрины аптеки, и я от нечего делать принялся разглядывать шприцы, кривые ванночки и бормашину. Рядом со мной остановился старик с длинными седыми усами и в соломенной шляпе и тоже стал смотреть на бормашину. Лицо у старика состояло из сплошных морщин, и даже глаза поблескивали из глубоких складок. Из-за этого лицо казалось очень добрым. Я несколько раз искоса взглянул на него и вдруг всхлипнул, то ли оттого, что вспомнил про Тошку, то ли оттого, что нам дико не везло. — Что с тобой? — участливо спросил старик и даже придвинулся на шаг ко мне. — Что случилось, а? Честное слово, у меня даже в мыслях не было распускать слюни, просто как-то случайно получилось это всхлипывание, может, даже оттого, что в нос что-нибудь попало. А он, наверное, подумал, что я по-настоящему. — Тебя кто обидел? — снова спросил старик. Я хотел ответить "никто" и отвернуться, но тут язык мой заработал сам собой, и я, холодея, произнес жалобным голосом: — Дяденька... Меня мама послала... в аптеку за лекарством... А я потерял... это... двадцать копеек... И теперь мне не купить... Старик внимательно посмотрел на меня. — Потерял? — переспросил он. — Это плохо. Это очень плохо, что потерял. Но мы сейчас это дело уладим. Он опустил руку в карман пиджака и вынул кошелек. Я замер. — Так за каким лекарством тебя послали? — спросил он. Я попытался придумать лекарство, но вспомнил только йод и валерьянку. Какие бывают еще, я не знал. Старик ждал. — Я по рецепту... — прошептал я. — Ты не волнуйся, все будет в порядке, все уладится, — ласково прожурчал старик. — Давай-ка сюда рецепт, сейчас мы закажем твое лекарство. Я стал копаться в карманах, делая вид, что ищу рецепт, а сам лихорадочно думал, как бы отвязаться от чересчур доброго старика. — Ты, кажется, и рецепт потерял вместе с деньгами? — сочувственно сказал старик. — Ай-яй-яй! Такой молодой и такой рассеянный... — Кажется, потерял... — пробормотал я, и на вздрагивающих ногах, обливаясь потом, отошел от витрины. — Куда ты, мальчик? — сказал старик, но я даже не обернулся, стараясь поскорее исчезнуть, потому что около нас уже начали останавливаться любопытные. — Вспомни, где шел, и поищи хорошенько, дружок! — крикнул старик. "Тьфу! Бывают же такие сверхдобрые, что даже тошно становится!" — подумал я со злостью. Кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся и увидел запыхавшегося Тошку. — Ты?! — Я, — сказал Тошка. — Ф-фу!.. Едва смылся... Даже голова кружится... Только подошли к "Ударнику", я руку — дерг! — и в толпу... Мы вошли в сквер и плюхнулись на первую попавшуюся скамейку. — А ты от кого бежал? — спросил Тошка. Я рассказал про старика и рецепт. — Плохо, — сказал Тошка. — Что же теперь делать? — Не знаю. Но так больше нельзя. Люди у нас не такие, понимаешь. Не как за границей. Не подадут. Помогут чем угодно, купят что надо, но не подадут... — Так что же теперь? — снова спросил я. Тошка не успел ответить. Над темными деревьями сквера с громким шипеньем поднялась ракета. Волоча за собой огненный шнур, она взбиралась по невидимой горе все выше и выше на небо и вдруг лопнула среди звезд, осыпавшись зелеными искрами. Искры на мгновенье осветили дрожащим светом вершины лип и наши запрокинутые лица, потом померкли, погасли, и темнота снова сомкнулась вокруг. Тусклые фонари в сквере стали еще тусклее. — Зареченские пустили. Это они все время с порохом возятся. Красиво взорвалась, правда? — Чепуха, — сказал Тошка и сплюнул в сторону. Он сказал это очень уныло, и плевок тоже не получился по-настоящему, и Тошка вытер его рукой с подбородка. И мне вдруг стало обидно за Тошку, за идею, за себя, за все наши неудачи. Так обидно, что я не удержался и хлюпнул носом, теперь уже по-настоящему. — Ты что? — спросил Тошка. — Ни... ничего, — пробормотал я. И в этот момент темноту сквера снова прорезала, но теперь уже не ракета, а такая ослепительная мысль, что я зажмурился, как от вспышки молнии. — Тоша, — прошептал я. — Не надо нам нищенствовать. Никого не надо обманывать. Все очень просто. Так просто, что ты сейчас будешь смеяться ненормальным смехом, честное слово! Знаешь, что нам нужно? Книжки, вот что! Побольше книжек. Какие у тебя есть дома, ну? — Книжки? Тошка с минуту смотрел на меня, соображая, потом хлопнул себя по лбу ладонью и воскликнул: — Назови меня дураком! * * * Больше всего я жалел "Остров сокровищ". Отличная была книга. В ней под потрепанной красной обложкой зеленовато светилось море и боцман Билли Бонс орал старинную матросскую песню "Пятнадцать человек на сундук мертвеца". И от страниц ее отдавало потом, просмоленными канатами и цветущими пальмами. И вот теперь эти пальмы нужно было нести в магазин вместе с "Маугли", "Морскими рассказами" Бориса Житкова, "Маленькими индейцами" американского писателя Сэтона Томпсона и еще кое-какими книгами. С большим трудом я собрал в себе всю силу воли и подавил жалость, хотя знал, что это была жертва во имя науки. Я завернул книги в газету и крепко перетянул пакет обрывком шпагата. С Тошкой мы уговорились встретиться у магазина. Он пришел туда ровно к трем часам со старым портфелем в руках, и вскоре в комнате позади магазина, тесно уставленной стеллажами, набитыми книгами, мы выкладывали на стол свои сокровища. Пожилая тетка в очках придирчиво осматривала каждую книгу и что-то ворчала себе под нос. Наконец она разделила все книги на две стопки, большую стопку придвинула к нам со словами: "Эти не пойдут!", а маленькую стопку начала ворошить снова, перебрасывая костяшки на счетах. В этой стопке оказались почти все мои книги и только две Тошкиных. — Тетя, — жалобным голосом спросил Тошка. — Почему эти не пойдут? Может быть, все-таки можно, чтобы они пошли? — Нельзя! — вдруг грозно крикнула тетка и подняла очки на лоб. — Нельзя так зверски обращаться с книгами! Надо привыкать беречь вещи! Знаете, что такое книга? Нет, я вижу, вы ничего не знаете! Ничего, иначе вы не принесли бы этих инвалидов сюда! Она зло фыркнула, склонилась над столом и начала выписывать какую-то квитанцию, но написала только одну строчку и снова подняла голову. — Над каждой книгой работает сто человек, а может, и больше! — снова закричала она. — Сначала работает писатель. Потом редакция. Потом те, кто печатают книгу в типографии. А лесорубы, которые рубят деревья для бумаги? А рабочие, которые делают эту бумагу? А те, которые добывают металл для машин? Неужели все это делается только для того, чтобы двое нерях превратили книгу в капустный кочан?! Это что? — Она ткнула пальцем в Тошкины книги. — А это? А это? К этим книгам прикасались не руки, а лапы! Лапы, я говорю, слышите? Заберите это домой! — Она стукнула пальцем по большой стопке. — А вот по этому, — она протянула Тошке квитанцию, — получите в кассе два рубля тридцать копеек. Все! Отправляйтесь! Кое-как запихнув непринятые книги в портфель, мы вышли из комнаты. Мы чувствовали себя так, будто нас неожиданно окатили холодной водой. — Ну и тетка! — сказал Тошка. — В жизни сюда больше не приду. — Книжки-то у нас правда... не особенно чистые, — сказал я, заглядывая в портфель. — У твоих так все обложки оторваны и в чернилах. — Где? Покажи, где? Вот это? Это я капнул очень давно и случайно... А на твоих полно жирных пятен. И страницы мятые, будто их жевали... И надорванные... вот посмотри... Мы вытряхнули книжки из портфеля и начали их разглядывать. — А на твоих какие-то рожи нарисованы... и картинки цветными карандашами раскрашены... И углы загнуты... И керосином воняют... — А на твоих... Мы чуть не поссорились из-за того, чьи книжки хуже, но вспомнили про квитанцию и пошли получать деньги. Два рубля тридцать копеек мы сразу же превратили в девятнадцать зеркал, а на оставшиеся две копейки купили по ириске. Все равно эти две копейки были ни к селу ни к городу... Итак, у нас было семьдесят зеркал. Меньше половины того, что нам требовалось. И не было никакой надежды добыть денег еще на восемьдесят. — А что, если мы напишем прямо в научный журнал. Так, мол, и так, мы проверили Архимеда. Все правда. Просим считать это нашим вкладом в науку... — Нет, — сказал Тошка. — Они потребуют опыт. А без зеркал мы ничего не сможем. И что это за опыт — на кирпичиках да на подпорочках? Делать — так делать по-настоящему. Солидно. Да и что письмо? Про все не расскажешь. Надо смотреть. Да и писать его — попыхтишь... И в дороге оно потеряться может. — Тогда надо прямо к ученым. — Без ФАКСа? Они и разговаривать с тобой не будут. — Тошка, а что, если не только мы, а еще кто-нибудь догадался проверить Архимеда? Тогда что? Тошка побледнел и сжал кулаки. — Не может быть. Две тысячи лет не догадывались и вдруг сразу догадались... — Ты думаешь, одни мы с тобой такие умные? Тошка думал минут десять. Потом сказал: — А где у нас в городе ученые? — Как — где? В пединституте. Там есть и кандидаты, и профессора, и даже деканы. — А кто такие деканы? — спросил Тошка. — Это еще выше профессоров, — сказал я. — Им все подчиняются. Тошка еще подумал и вдруг решительно сказал: — Идем в пединститут! Пединститут находился в Затишье, в километре от города. Большое желтое здание стояло среди серебристых тополей, на волейбольной площадке хохотали и звонко шлепали по мячу студенты, и все было больше похоже на дом отдыха, чем на учебное заведение. Институт нам понравился. В прохладном пустом вестибюле нас остановила уборщица. — Вам кого нужно? — подозрительно спросила она. — Декана, — с достоинством сказал Тошка. — Это какого такого декана? — По физике. — Ишь ты! — сказала уборщица, перекладывая швабру из левой руки в правую. — Только у него и есть дела, что заниматься всякими глупостями. — С кем воюете, теть Зина? — спросил парень в тренировочном костюме, вошедший следом за нами в вестибюль. — Да вот здесь ходят всякие, людей отбивают от работы, — сказала уборщица, показывая на нас шваброй. — Идем, Колька, — сказал Тошка, хватая меня за руку. — Чего с ней разговаривать! — Куда? — закричала уборщица, загораживая нам дорогу. — Не допущу! У нас зачеты, а вы тут со всякими глупостями. — Стоп, тетя Зина! — сказал студент. — Не надо шуметь. Для чего вам декан, ребята? Мы с Тошкой переглянулись. Так мы и сказали первому встречному! Держи карман шире! — Стало быть, нужен, — сказал Тошка. — Хм... — сказал студент. — Придется поверить. Пропустите их, тетя Зина. Я как раз иду на физфак. Провожу. Студент оказался замечательным парнем. Пока мы шли за ним по длинным коридорам мимо множества дверей, мы узнали, что его зовут Гошей, что он на четвертом курсе и, значит, без пяти минут учитель, и что он математик. Потом он отворил какую-то дверь, и мы оказались в небольшой комнате, наполненной пулеметным треском пишущей машинки. За машинкой сидела длинная плоская тетя с покрашенными в апельсиновый цвет волосами и с папиросой во рту. — Алексей Петрович у себя? — спросил Гоша. Машинистка выпустила из ноздрей две струйки дыма и папиросой показала на дверь. Она была так занята работой, что даже не взглянула на нас. Гоша взялся за ручку, ободряюще подмигнул нам, и мы вошли. Декан был таким молодым, что, если бы не стеклянная дощечка с надписью на двери, мы подумали бы, что Гоша обманул нас. У декана не было ни профессорской бороды, ни очков, не было даже морщин на лице. Он больше смахивал на футболиста, чем на ученого. Когда мы вошли, он прохаживался по своему кабинету и что-то бормотал, будто учил стихи. Увидев нас, он резко остановился и спросил нетерпеливо: — Ну что? — Алексей Петрович, вот эти двое к вам... — сказал Гоша. — Ко мне? — удивился декан. — К вам, — сказал Тошка. — Если, конечно, вы не заместитель, а настоящий декан. Алексей Петрович внимательно посмотрел на Тошку, потом на меня, потом сел за стол и рукой показал на два стула, стоящие перед столом. — Даю слово, что я самый настоящий декан, — сказал он, когда мы уселись. Что дальше? Тошка оглянулся на Гошу и покраснел. — Это не секрет... — сказал он. — Но все-таки я хотел бы вам одному... Я и вот Колька... — Не беспокойтесь, — сказал декан. — Приоритет во всех случаях останется за вами. Гоша у нас надежный парень. Итак, в чем дело? — Идея, — сказал Тошка, и голос у него вздрогнул. — Гибнет идея... Я доказал... то есть мы доказали, что Архимед сжег обычными зеркалами. Понимаете? Все историки сомневались, думали, что легенда, а мы доказали... Сейчас мы строим ФАКС... это такой аппарат, чтобы сжигать по-научному... Только у нас зеркал не хватает... А так все нормально, честное слово! Будка сгорела почти вся... Тошка поперхнулся и умолк. Декан перегнулся через стол, и глаза у него стали большими и веселыми. — Так, так, — сказал он. — Что же это за ФАКС? Что за будку сжег Архимед своими зеркалами? А ну-ка, рассказывайте все по порядку и не торопитесь. * * * Когда мы кончили, декан постучал по столу пальцами и сказал: — Ну, ребята, такой забавной истории я еще не слышал. Кстати, вы из какой школы? — Из второй. — Кто у вас преподает физику? — Борис Николаевич Тимонов, — сказал я. — Чудесно! — сказал декан. — Изумительно! Он вынул из кармана авторучку, открыл блокнот и нарисовал в нем какой-то чертеж. — Сколько шагов было до будки, помнишь? — спросил он Тошку. — Давай среднюю величину. — Примерно... шагов пятнадцать, — сказал Тошка. — А сколько было зеркал? — Двадцать шесть. — Какого размера? — Вот такие, — показал пальцами Тошка. — А одно было даже вот такое. Декан написал в блокноте несколько цифр, вырвал лист и передал его Гоше. — Ну, математик, вот задача. Придут к тебе в школе вот такие и зададут... Сумеешь прикинуть? — Попробую, — сказал Гоша. Он вынул из стаканчика на столе карандаш и склонился над листком. Декан тоже начал что-то подсчитывать. В кабинете стало очень тихо. — Не получается, Алексей Петрович, — сказал вдруг Гоша. — Ерунда какая-то... Декан поднял голову. — Сколько у тебя? — Около трехсот. Даже бумага не загорится. — У меня примерно двести девяносто градусов. Что-то вы путаете, ребята. Ничего у вас не должно было загореться. Это уж было слишком! Я не выдержал и вскочил. — Не верите? Честное слово, она загорелась! Да еще как! Полкадушки воды на нее вылили. Я первый заметил дым! Зачем нам обманывать? Мы же ради науки. — Тише! — сказал декан. — Зачем волноваться, зачем кричать? Науке нужны холодные головы и точные доказательства. Я верю, что у вас загорелось, но не пойму — каким образом. Математика говорит совершенно другое. — А вы... не ошиблись? — спросил Тошка. — Мы считали вдвоем. Два человека не могут сделать одну и ту же ошибку. Пятьдесят процентов вероятности... — У вас загорелось не от зеркал, — сказал Гоша. — Вспомните хорошенько, что вы еще делали около будки. Может быть, спички зажигали? — Какие там спички! — сказал Тошка и осекся. Лицо у него вдруг стало желтым, как лимон, и таким несчастным, будто он только что потерял все самое дорогое на свете. А мне захотелось, чтобы подо мной вдруг разъехались плитки паркета и я провалился бы через оба этажа в какой-нибудь темный подвал, и чтобы меня там никто-никто не видел — ни декан, ни друзья, ни родные... Ну конечно же, это та проклятая спичка, которой Тошка пробовал температуру зайчика!.. В моем сарае до сих пор лежит ровный фанерный круг. Он так и не стал ФАКСом. Зеркала мы раздарили девчонкам и малышне с нашей улицы — пусть забавляются. Загадка гибели римского флота под Сиракузами так и осталась загадкой. Впрочем, Тошку это не особенно волнует. Он крепко сдружился с Гошей и чуть ли не каждый день бегает в Затишье после уроков. Однажды я хотел пойти вместе с ним, но он сказал, что мне будет неинтересно, потому что я больше склонен к литературе, чем к физике. Я не обиделся. Может быть, Тошка действительно прав. Николай Внуков. Факс (рассказ), стр. 53-78 https://fantlab.ru/edition101972 *** 2. МАВР Машина Времени Янка МАВР — белорусский фантаст Владимир Заяц. Машина забуття По винтовой лестнице мы поднялись на самый верх. С башни был виден весь Замок и город за озером. Когда-то здесь расхаживал дозорный с мечом, а сейчас валялись битые кирпичи и стоял невзрачный дощатый вагончик серо-буро-малинового цвета. В таких обычно хранят на стройках лопаты и рукавицы. Окон у вагончика не было, а на двери висела непонятная табличка: МАВР-1 Катя постучала четыре раза, и дверь открылась. На крыльцо вышел Вадим, одетый во все торжественное. — Я пригласил вас, — начал он театральным голосом, — чтобы сообщить приятное известие. Вы имеете уникальную возможность стать первыми хрононавтами. — Хрено… кем? — переспросил Жора. — Хрононавтами. Путешественниками во времени, — вполголоса объяснила ему Катя. Жук свистнул от неожиданности: «фьють-фьють!». Свистунов глупо засмеялся. А мы с Максимом переглянулись, не веря своим ушам. — Что такое МАВР? — вопросил Колотыркин, скрестив руки на груди. — Малый Административный Вагончик для Рабочих, — высказал я предположение. — Не угадал, Заец, — усмехнулся Вадим, — МАВР расшифровывается проще простого: МАшина ВРемени! — Ха! — недоверчиво сказал Жук. — А чего ж у нее такой вид? — Это на всякий случай, — ответил Колотыркин. — Чтобы не привлекать внимания. Тут Ромка снова заухал и стал толкаться, а Максим спросил: — В какой мере вы использовали специальную теорию относительности? — В должной мере, — ответил Колотыркин и жестом пригласил нас войти. Первой, ступая на цыпочках, пошла Катя. За ней Дрозд. Потом я. В самолете без привычки и то боязно, а это ж Машина Времени!.. Внутри не было никаких лопат. Стены без окон и потолок матово светились. Вадим усадил нас в мягкие высокие кресла, а сам сел за пульт с экранами и заманчивыми кнопочками. — Пристегнуться ремнями! Куда прокатить вас — в прошлое или в будущее? Только для начала недалеко! — Лучше в прошлое, — облизнулся Свистунов. — На пару часов назад. Мороженого охота. — Не мельчи! — запротестовал Максим. — Это ведь исторический момент, а ты — мороженое!.. Но Колотыркин, который и сам любил эскимо, уже нажимал кнопки на пульте. Нас тряхнуло. Электронные часы мигнули растерянно и вместо пятнадцати показали 12.00. — Приехали, — сказал Вадим. Наступая друг другу на пятки, мы выскочили из МАВРа. Все вокруг было, как было, только солнце вернулось в зенит, а киоск внизу у ворот бойко торговал мороженым. — Ай да Вадька! — восхитилась Катя. — Ай да молодец! — добавил я от души. Колотыркин на радостях вынул кошелек и послал Свистунова за эскимо: — Купишь двенадцать порций! По две на каждого! — Четы-ырнадцать! — раздался шоколадный голос. Из МАВРа, ступая, как балерина, вышла Аня Кураго, первая красавица нашего седьмого «А». Улыбки Ани Кураго В тот день я загорала на пляже с Толиком Гордеевым. На мне был обалденный купальник, в котором я выгляжу на все семнадцать. Взрослые ребята приглашали меня играть в бадминтон, и я соглашалась. Вообще-то мне скучно отбивать этот дурацкий волан, но зато можно показать себя всем-всем. А если просто валяться на песке, кто тебя увидит? От ревности Толик распсиховался и куда-то ушел. Ну и пусть! На меня смотрел из-под грибка сам Думбилов. Он был в темных итальянских очках, но я его узнала. Вообще-то я терпеть не могу хоккей, но Думбилов — звезда. Пройтись бы с ним вечером по набережной — все девчонки отключатся… Он смотрел на меня и делал вид, что читает газету, а его здоровенная подруга — тоже, наверно, хоккеистка — натирала ему плечи кремом. Я решила ему улыбнуться. У меня целая коллекция улыбок. Для начала я выбрала задорную, но ненавязчивую, открывающую мои красивые зубы. Думбилов чуть газету не уронил. Я плавно прошлась взад-вперед и улыбнулась ему приветливо, как старая знакомая. Но здоровенная подруга перехватила мою улыбку и так сдавила тюбик с кремом, что он загнулся. Я оделась и, послав Думбилову улыбку-вопрос, не спеша пошла в солнечную даль. Я думала, он меня догонит, но хоккеистка его, наверно, крепко держала. И тут я увидела этих самых голубчиков — Колотыркину с ее звеном. Интересно, что им нужно в Замке? Я незаметно пошла за ними на башню, а потом в вагончик и спряталась в кабинке, где зеркало. Сначала я думала, что все это треп, и они просто играют в Машину Времени. Но моя прическа вдруг стала такой, как до пляжа, — волосок к волоску. И я поняла, что Вадим не фантазирует: он и правда перевез нас в своем вагончике на несколько часов назад. Леонид Сапожников. Четыре самозванца (повесть), с. 151-255 https://fantlab.ru/edition74891 https://fantlab.ru/work88092 ТЕРЕНЦИАН МАВР (Terentianus Maurus, III в.), римский грамматик 121 Книги имеют свою судьбу, смотря по тому, как их принимает читатель. // Habent sua fata libelli <…>. «О буквах, слогах и размерах», 1286 ? Бабичев, с. 302
|
| | |
| Статья написана 25 июля 2018 г. 16:46 |
Члены редакционного совета при издательстве собирались на заседание. Тов. Матузов ходил, держа в руках книгу «Вокруг мира», зажавши палец между некими страницами ее. Мы с ним по-дружески разговариваем, шутим. Под пальцем у него находится критика на мою книгу (критика засекречена, так как если бы секрет открылся, то пришлось бы отказаться от эффектного выступления).
Заседание открылось. Тов. Матузов встал, развернул книгу, помолчал, вздохнул и прочитал: «...с юга приближалась освободительная армия Гоминьдана под командой генерала Чан-Кай-ши». – Вот, товарищи, что мы печатаем в 1948 году. Да за это нас всех разогнать надо... и т.д. Впечатление было сильное, в том числе и у меня. На 32 странице действительно так было написано, но начиналась фраза со слова «Говорили», по смыслу – «ходили в народе слухи». Этого слова критик не читал. А дальше, на 36 стр. Шел раздел «Снова сначала», где начинался поворот повествования: гоминдановцы оказались такими же, как мукдэнцы, ничто не изменилось, пришлось начинать борьбу «Снова сначала», начали организовывать партизанские отряды «Красных пик» для борьбы с «освободителями» (в книге это слово пошло уже в кавычках) и т.д. Но критик не знал этого, так как не читал произведение. Редакционный совет реабилитировал рассказ, потому что я сам мог защититься. Однако «критика» пошла дальше и через несколько недель появилась уже в передовой «Литературной газеты». Там писалось, что Мавр показывает Чан-Кай-ши, как борца за революцию и т.д. Из этой критики я мог сделать только один вывод: хорошо было бы, чтобы критики читали то, что они критикуют. Тревожные сигналы вызвали статью Войнича в «ЛiМ»е под названием «Чему могут научить детей такие книги». Из этой статьи я узнал, что книги «Путь из тьмы» и «В стране райской птицы» – написаны только для того чтобы принести детям вред. И ни одного слова о сути книг и их идейной направленности. Ни одной положительной черты не нашлось в этих книгах. Даже традиционного заключительного абзаца «Не смотря на все это»... в статье не было. Вместо этого была категоричная концовка – «Явный брак». Из этой критики я мог сделать только один вывод: нечего тут исправлять, а надо забыть эти книги и больше таких вещей не писать. Критик Зомерфельд написал для «Полымя» статью с всесторонним рассмотрением книги «Путь из тьмы», статью эту редакция хотела было напечатать, но не решилась – лучше не вмешиваться в это дело. Я из всей этой критики сделал такой вывод: бывают случаи, когда нужно помещать одностороннюю критику и не нужно помещать всестороннюю. Прошло около двух лет. Идет пленум правления ССП. Я сидел со своим приятелем Лужаниным. Дружески беседуем. А в кармане у него критика. Засекречена. Ведь если бы он сказал, то пришлось бы сразу отбросить более половины ее, и тогда не будет никакого эффекта от выступления. У него, например, сказано, что классово-сознательное животное – ящерица, а в книге говорится о быке, который всегда нападает на голландцев. У него (Лужанина, а не быка) сказано, что голландский рабочий, бывший коммунист, – руководитель восстания, а в книге даже подчеркивается его второстепенная роль. У него, Лужанина, сказано, что факир в книге показан как серьезная фигура, а в книге и ребенок видит, как высмеивается этот факир и т.д. Чтобы еще больше развенчать «чудеса» факиров, в книге сделана сноска, из которой видно, что и мы можем делать такие чудеса. А Лужанин утверждает, что эта сноска поднимает факиров на высоты, предоставляет им больше таинственности. Чтобы так говорить, надо уже иметь определенное желание видеть то, что хочется. Прежде чем решиться написать, что богатой буржуазии на Яве почти нет, мне пришлось покопаться в авторитетных материалах. Я и сейчас могу повторить, что на Яве росли только феодалы, а торговой, финансовой, промышленной буржуазии нет, мелкая торговля находится в руках китайцев и арабов (по крайней мере так было в те времена, о которых говорится в книге). А критик категорически и голословно утверждает, что это не так. Значит ли это, что в книге ошибок нету? Конечно, нет. Мне даже не хочется быть таким совершенным, как машина. И кроме... слов и предложений, которые заметил Лужанин, найдется, что поправить. Пусть автор потом и опровергает себе эти неточности как хочет, а пока что позиция критика выгоднее и от него как говорят «что-нибудь да останется». И у тех, кто не знает этой книги, кое-что осталось. А какую пользу получил автор от этой критики? Пока что я согласен, что можно было бы лучше сказать о мастере на корабле, чем то обстоятельство, что он «ходит, постукивает и поправляет». Найдется и еще что-нибудь подобное. А по другим замечаниям я могу вступить в публичную дискуссию и доказать, что они неправильные, но трибуны такой уже нет. И снова я увидел ту самую специфическую критику. Берется книга, карандаш, бумага: а ну посмотрим, сколько здесь найдется огрехов! И начинаются поиски, в словах, предложениях, независимо от содержания, сути, даже текста произведения. Ага! В заголовке слово «классово-сознательное» животное, а дальше говорится о ящерице, – значит, она. А все читать нет необходимости. Между прочим, независимо от этого, я считаю, что лучше сказать просто «сознательное» животное. Таким образом вся глубокая, принципиальная критика сводится к совершенствованию нескольких предложений. А между тем в книге, которой пользовался Лужанин, есть такие места, которые требуют поправок по существу. Критик их не заметил. Я их выправил для нового издания. Мне, как и каждому писателю, в беседе с редакторами и товарищами приходится слышать много ценных, деловых замечаний, и такие замечания действительно полезны, на них, кажется, никто не обижается. А эстрадная критика имеет в виду совсем другое. Нельзя было бы сделать так, чтобы критика на трибуне была бы такая же, как редакторская критика? Я уверен, что сам Лужанин, как редактор, согласился бы отбросить неверные замечания, не обыгрывал бы мелочи и дал бы ценные замечания. И никакого недоразумения не было бы, и никто не сказал бы, что автор больно реагирует на критику. А на трибуне большей частью отбор не производится, ценные замечания обрастают и мелочами, и перегибами, и совсем неправильными, если не сказать больше, утверждениями. 11 апреля, 1950. --- Оригинал статьи: http://zviazda.by/sites/default/files/22-...
|
| | |
| Статья написана 4 мая 2018 г. 18:54 |

Для нескольких поколений минчан парк Челюскинцев – культовое место. Кто-то любит здесь отдыхать, кто-то – назначать встречи, но практически каждому жителю нашей столицы, пусть и всего раз в жизни, это место чем-то запомнилось. Свойство человеческой памяти таково, что со временем многие события уходят на второй план, как бы «сбрасываются в корзину», говоря компьютерным языком. Но однажды возникает новый интерес: а что здесь было, какие события происходили, в честь кого или в знак чего данный объект получил именно это, а не другое название? Так вот. Когда-то на месте нынешнего парка была окраина города, куда по улице Советской, ныне проспект Незави- симости, ходил трамвай. Он проезжал на конечную и разворачивался как раз там, где сейчас находится здание Детской железной дороги. Остановка называлась просто и ем- ко – «Выставка». Название было неслучай- ным – здесь располагалась сельскохозяй- ственная выставка БССР. А сам новый парк в белорусской столице своим названиемк отдавал дань памяти и уважения минчан участникам арктической эпопеи челюскин- цев, которая началась в Мурманске почти восемьдесят лет назад – 10 августа 1933 го- да. К слову, семеро участников полярного похода парохода «Челюскин» были урожен- цами Беларуси: минчанин Александр Миро- нов, выходец из Брагина Борис Могилевич, начальник научной экспедиции могилев- чанин Отто Шмидт, уроженцы Витебщины Николай Ломоносов, Иосиф Малаховский, Алексей Харкевич и Александр Канцына. Кто из них думал, что станет не просто свидетелем, но и участником событий на корабле, который мировая пресса назовет советским «Титаником»? Думаю, что никто. У каждого была своя судьба со сложными поворотами и зигзагами и своя сухопутная тропа, которая, в конце концов, привела всех их в море. Время многое изменило в оценке тех далеких событий и, казалось бы, дало но- вый ответ на вопрос, что произошло тогда в Чукотском море. Но в потоке современ- ных небылиц, слухов, домыслов и догадок остались письменные воспоминания о тех далеких событиях. Наш земляк Александр Евгеньевич Миронов оставил не только дежурные записки, но и подробно и четко описал, что видел, с кем встречался и как все происходило. У каждого поколения минчан свой кар- кас и периметр родного города. Время ме- няет многое: город растет вширь и вверх, на месте старых зданий появляются новые, но бегущая строка памяти возвращает каждо- го из нас в ту исходную и отправную точку, которая запоминается раз и навсегда в ран- нем детстве. Детство – это всегда целост- ность и нерасчлененность, полное ощуще- ние окружающего мира без его изъянов и недостатков. Вы можете не помнить, что делали вчера, но события многолетней дав- ности воспроизводите в точных деталях и с такими мельчайшими подробностями, что собеседнику иногда кажется, что это не рас- сказ об увиденном и пережитом, а сказка. …Для юного Саши Миронова, как и для всех мальчишек его поколения, Минск 1923–1925 годов – это, прежде всего, желез- ная дорога. Вся жизнь крутилась и бурлила здесь. Хотя работали уже завод «Энергия» (ныне станкостроительный завод имени Октябрьской революции), выпускавший ручные соломорезки и конные плуги, и чугунолитейный (ныне станкостроитель- ный завод имени Кирова), всю продукцию которого в то время составляли жестяные ведра, печные ухваты, чугуны, колосники да дверцы для дымовых печей. В то время в городе было два железно- дорожных узла – Виленский и Московский. С пассажирскими вокзалами, паровозными и вагонными депо, горками для формирова- ния поездных составов и огромной товар- ной станцией. В этом же районе неподалеку располагались поликлиника с больницей и две школы: четырехлетка на улице Москов- ской и семилетка – за мостом, отделяющим Московскую от Советской. Сейчас этой шко- лы нет. На ее месте построен Главпочтамт. На Московской улице и в отходящих от нее переулках и улочках стояли дома. Семья Мироновых жила в большом двухэтажном кирпичном доме Дрейцера на втором этаже. Рядом с ними жили Азаркевичи, Пекарские и Лившицы – полный интернационал того времени. На первом этаже дома распола- гались магазины. Но наиболее приметным местом во дворе Мироновых была кустар- ная колбасная мастерская Ротера. У ребятни на Московской имелось одно преимущество – ни у кого не было побли- зости таких «болотных джунглей» – не хуже бразильских. С Московской болото тянулось далеко в сторону Немиги, посреди него была чистая водная гладь, казавшаяся без- донной. Летом мальчишки на самодельный крючок из булавки, привязанный к суровой нитке, ловили карасей. А зимой это был ка- ток для всех. Но болото «безвременно погибло»: ор- ганизатором его уничтожения был всем известный в то время главный врач желез- нодорожной больницы доктор Хундадзе. Его знал и уважал весь район, он принимал пациентов в любое время суток, а если кто- то предлагал плату за лечение, то Хундадзе грозно на него рычал. Стараниями Хун- дадзе и с согласия руководства железной дороги за несколько субботников болото было ликвидировано. Работы возглавил сам доктор. И в этот же год умер, просту- дившись под многочасовым холодным лив- нем во время визита к больному. Хоронил его весь район, гроб с телом Хундадзе несли на руках до немецкого кладбища, сменяя друг друга, все жители улицы Московской. Сегодня уже ничто не напоминает минча- нам о том болоте – на его месте стоит му- зыкальный театр. …С замиранием сердца Саша Миронов переступил порог семилетней железнодо- рожной школы имени Червякова. Все было новым, с прежним почти домашним режи- мом обучения в четырехлетке, где учителя по-соседски водили дружбу с родителями школьников, пришлось расстаться. Для юного Миронова началась другая жизнь, с выходами в город. Выклянчив у родите- Александр Миронов 9 4 лей деньги, Саша отправлялся в кино – в «Спартак», в «Чырвоную зорку» или «Ин- тернационал». Кинотеатры находились в сотне метров друг от друга. Учеба у Миронова пошла легко, но изу- чение родного языка давалось мальчишке с трудом. Домочадцы, привыкшие считать, что они говорят по-белорусски, даже не за- мечали, что на самом деле это был язык «ин- тернационала» улицы Московской – смесь русских, белорусских, польских и еврейских слов. Мать Миронова к тому времени работала актрисой Первого Белорусского драмати- ческого театра – БДТ-1, открытие которого состоялось 14 сентября 1921 года. Ныне это Национальный академический драматиче- ский театр имени Янки Купалы. До этого она была актрисой железнодорожного теа- тра «Красный путь»: за громким названием скрывался ветхий дощатый барак, неимо- верно душный летом и насквозь продувае- мый зимой. Актеры железнодорожного театра ре- петировали вечерами дома у Мироновых, благо у них было четыре комнаты. Малень- кий мальчик и не догадывался, какие люди приходят к ним домой на репетиции. Коре- настый, немного сутуловатый человек был для него просто дядей Ваней: он захаживал, когда актеры репетировали его пьесу «Рас- киданное гнездо». А был это не кто иной, как Янка Купала. Уроки истории и географии были лю- бимыми у всех ребят в классе, в котором учился Миронов. Они с замиранием серд- ца слушали учителя Ивана Михайловича Федорова. На его уроках им казалось: исчезают школьные парты, вместо них появляется Чудское озеро, где ратники Александра Невского топят псов-рыцарей, или Римская империя и ведущий рабов на восстание Спартак… Объемные картины мира возникали и на уроках географии. Ребята твердо верили: все, о чем расска- зывает их учитель, он когда-то пережил сам. Иван Михайлович «путешествовал» со своими учениками от Минска до севе- роамериканских прерий, где из последних сил бьются с бледнолицыми завоевателями краснокожие соплеменники Чингачгука. Они даже спорили, где все-таки побывал учитель. Чтобы рассудили их, за помощью обращались к его сыну Федору Федорову – будущему академику-физику, Герою Социа- листического Труда, имя которого носит сегодня одна из улиц Минска. Иван Михайлович Федоров так заворо- жил ребят, что однажды Саша Миронов со своим другом Шурой Тарулиным решили по- пробовать сбежать в Америку. Подготовили компас на кожаном ремешке, два больших ножа и два пистолета-пугача. Продукты на дорогу припасали вместе – сушили сухари из хлеба, полученного дома на завтрак. Все это добро они хранили в картонной коробке на чердаке дома. «Торжественное отбытие» экспедиции назначили на воскресенье – за неделю до начала летних каникул. Но случи- лось непредвиденное: его мама, идя из теа- тра, заглянула в школу, где ее в очередной раз «обрадовали» победами сына по мате- матике. Надо сказать, что отношения Саши Миронова с учителем математики Иваном Доминиковичем Монцеводой всегда закан- чивались неудом и пересдачей экзамена осенью. Так произошло и на сей раз. При- шлось Тарулину двинуться в путешествие одному с уговором встретиться в Одессе. Но встречи на Черном море не получилось – в Борисове транспортный милиционер поймал Тарулина и отправил домой. Узнав о происшествии, Иван Михайлович на уро- ке географии иронично и тонко заметил, что ребята не в Америку собирались сбе- жать, а в мечту. Учитель всегда был твердо убежден, что путешествия у них впереди. Окончание шестого класса стало траги- ческим для Саши Миронова – умер отец. Школу пришлось оставить. Нужно было ис- кать работу, а учиться по вечерам на курсах. Правда, с работой в то время в Минске было сложно. На бирже труда предложений для всех не хватало. Помогла случайная встреча с учителем Иваном Михайловичем Федоро- вым. Он обещал помочь. Говорят, чудес на свете не бывает, но с Мироновым произо- шло именно чудо. Через два дня после раз- говора с учителем его берут чернорабочим на строительство минской обсерватории. В то время это была далекая окраина горо- да: на месте будущей обсерватории когда- то находилось единственное в Минске му- сульманское кладбище. Но его решено было снести. Почему, сказать трудно. Ходить на работу Саше приходилось пешком по пол- тора часа в одну сторону: денег на проезд не было. А после возведения обсерватории Миронова послали строить шоссе Минск – Могилев в район Красного урочища, сейчас это район Минского автозавода. Но работой жизнь молодого человека не ограничивалась. Тяга к знаниям владела им безраздельно – читал он всегда и везде. Как-то, встретив своего друга Бориса За- хоща, он обменялся с ним мнением о но- вой прочитанной книге. Это была повесть Янки Мавра «В стране райской птицы». Внутреннее чутье подсказало юному Ми- ронову: прочитанное напоминает ему то, что он уже когда-то слышал. Но друг Борис был неумолим – такое мог написать толь- ко англичанин или американец, а никак не твой учитель географии. В довершение спо- ра он предложил Миронову самому спро- сить об авторстве книги у своего учителя. Стеснительность не позволяла Миронову напрямую обращаться с таким вопросом к Ивану Михайловичу Федорову. Все снова решил случай. Однажды Миронов встретил учителя в обществе писателей и понял, что он и есть Янка Мавр… С учебой в университете ни у Алексан- дра, ни у Бориса ничего не получилось. Ми- ронову пришлось ехать в Могилев к даль- нему родственнику. На заводе «Красный возрожденец» он работал обрубщиком от- ливок в литейном цехе. Но через три месяца по сокращению штатов Миронова уволили, а биржа труда направила в приграничный район в Колосово строить узкоколейку. Впервые в жизни на заработанные деньги удалось купить костюм. Но дорогу закончи- ли строить, вновь пришлось искать работу. Вдруг удача опять улыбается Миронову – его берут на работу внештатным корреспонден- том в газету «Звязда». Испытательный срок подходил к концу, но репортерская фортуна не оставила нашего героя. «Неслыханная эксплуатация батрака-француза» – с таким заголовком, набранным крупными буква- ми, в 1930 году «Звязда» сообщила своим читателям об исключительной истории. В первой своей крупной заметке под соб- ственным именем Александр Миронов рассказывал о судьбе французского солда- та Марселя Бако, в течение долгих 11 лет находящегося в кабале, а фактически в рабстве у хозяина хутора Садки Смолевич- ского района матерого кулака Зенкевича. Воспользовавшись тем, что француз боялся расстрела за добровольную сдачу немцам в плен во время Первой мировой войны, Зенкевич спрятал Бако у себя на хуторе и с 1919 по 1930 год эксплуатировал. И, ко- нечно, скрывал от него все грандиозные по- литические события, которые произошли за это время в мире. Все эти годы он держал француза в глубокой яме, специально вы- рытой в хлеву! Во время коллективизации благодаря репортеру Миронову эта инфор- мация стала известна всем. После публикации в редакцию позво- нили и попросили Александра Миронова к телефону. Взяв трубку, он услышал знако- мый голос. Ему звонил Янка Мавр. Сюжет статьи заинтересовал писателя. Он посове- Янка Мавр 9 6 товал Миронову написать об этом повесть, уж больно неординарным выглядело собы - тие. Но в планах 20-летнего Миронова пи - сательство не значилось. Ему продолжали сниться, как он потом вспоминал, манящие цветные сны: «Ни «Красного возрожденца», ни приграничной узкоколейки, ни даже те - перешней редакции газеты в них не было. Было другое: расплывчатое, голубовато- белопенное и зыбкое. Откуда? Ведь я еще ни разу не видел моря». И он уезжает вместе с Борисом Захощем в Архангельск. Бориса берут кочегаром второго класса на ледокол «Седов», а Миронова – матросом второго класса на ледокол «Малыгин». Неведомое море позвало его в путь! Единственное, чего удалось добиться Янке Мавру от своего ученика, – это обя - зательства записывать в дневник все, что он увидит. Миронов сдержит слово и со временем станет одним из самых извест - ных писателей-документалистов, описы - вающих морские походы. Они пойдут по жизни вместе с Янкой Мавром. До самой смерти белорусского классика их отноше - ния будут гораздо глубже отношений учени - ка и учителя. Наталья Ивановна Мицкевич, невестка Якуба Коласа и дочь Янки Мавра, в последнем своем интервью незадолго до смерти говорила, что ее отец относился к Александру Миронову как к собственному сыну. Они и жили практически рядом – Мавр в писательском доме по улице Энгельса, а Миронов – по улице Янки Купалы. Уже на склоне лет Александр Миронов в своей повести-воспоминании «Дед Мавр», посвященной Учителю, четко разделит два понятия, актуальные во все времена, – учить и воспитывать. Без детских обид – какие оби - ды, когда тебе за семьдесят! – он разделит эти два понятия и даст свое точное и очень пронзительное определение «Учителя» и «учителя». «Иван Доминикович Монцевода, учитель математики, тоже, по-своему добро - совестно, учил нас, «червяковцев». И если бы все остальные учителя были такими, как он, мы покидали бы школу не окрыленными верой в будущее юнцами, а пришибленными тихонями, из которых со временем выраста - ют и приспособленцы, и подхалимы, и спо - собные на любую мерзопакость карьеристы. Потому что одних лишь педагогических зна - ний, умения преподавать предмет от корки до корки по учебной программе ничтожно мало. Для формирования психики, миро - воззрения, характтера, душевной чистоты школьников необходимо гораздо большее. И это гораздо большее вмещает в себя то, что принято называть воспитанием детей». Янка Мавр делал из своих учеников лич - ностей. И это правда. Читаю еще раз вос - поминания Миронова, которые написаны о событиях 90-летней давности, а как будто это сказано о вчерашнем классном собра - нии у сына в школе. Хороший учитель – это подарок судьбы, это как выигранный лоте - рейный билет в будущее. Для очень многих выпускников «червяковки» таким учителем был Янка Мавр, 130-летие со дня рождения которого мы будем отмечать 11 мая этого года. По первоначальной задумке автора в этой статье должен был быть один герой – Александр Миронов. Но судьбы Александра Миронова и Янки Мавра настолько тесно переплелись, у этих двоих столь разных лич - ностей было столько точек соприкоснове - ния, что невольно задумываешься о другом: биография Миронова – это биография его поколения, и, как ни крути, разговор нужно вести не просто о человеке, а о человеке и его времени. Пару лет назад в журнале «Полымя» дочь Ивана Михайловича Федорова, которого мы все знаем как Янку Мавра, по настоятель - ной просьбе своего супруга – сына Якуба Коласа Михаила Мицкевича опубликова - ла книгу воспоминаний «Доўгая дарога (ад дома Янкi Маўра да дома Якуба Коласа)». С предельной искренностью и добротой в ней описаны перипетии жизни того време - ни, многое из того, чего мы не знали, что тщательно скрывалось в советское время. Жизнь Янки Мавра – сюжет для телеви - зионной саги. Потерявший работу в школе в деревне Бытча, что в пяти километрах от Борисова, он устроился домашним учите - лем шестерых внуков священника Федора Адамовича. Поповна к тому времени была вдовой, и сельское общественное мнение озаботилось проблемой: как может жить в ее доме молодой холостяк. Постановка во - проса со стороны Варвары учителю была четкой и простой: или женись, или уходи. Спустя много лет он с улыбкой вспоминал, что женился на детях, к которым успел при - вязаться. У Янки Мавра было космически большое сердце. Казалось, что в нем есть место для всей детворы мира. БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА № 4 2013 *** http://www.polarpost.pro/forum/viewtopic....
|
|
|
 облако тэгов
облако тэгов