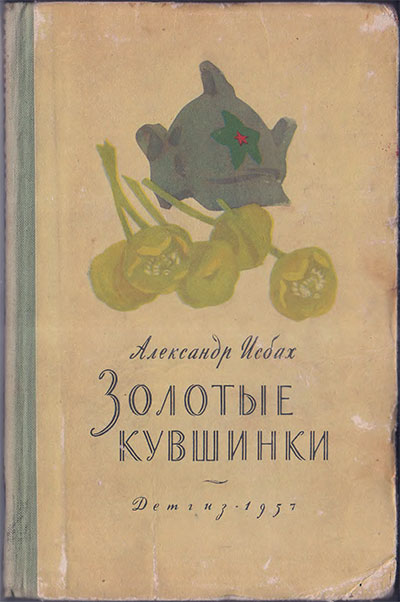| |
| Статья написана 24 сентября 2017 г. 13:12 |
…Над гарамі дождж. Над гарамі гнілы — іначай не скажаш — лютаўскі туман. Кіпарысы абвіснулі. Мокнуць пад злівай нахохленыя чорныя дразды. Хваля матляе ў бухце судны, і яны крэсляць мачтамі пахмурнае неба. І ў такія хвіліны міжволі думаеш: а які ж чорт занёс цябе сюды, чалавеча?! Не сюды трэба было ўцякаць, калі ўжо надакучыў табе Мінск. Некуды на Дняпро ці на Дзвіну. Некуды на Невельска-Віцебскую граду, дзе дрэмлюць густа аснежаныя хвоі, дзе на грывах стаяць лілаватыя лясы. На дзве, здаецца, з лішкам, тысячы паўночных беларускіх азёр. На віцебскія, дзе па святах сядзяць на лёдзе падобныя на пінгвінаў рыбакі, але дзе ёсць і такія азёры, да якіх амаль не дабіраецца чалавек.

А ўрэшце, чаму і не ў сам Віцебск уцячы? У цяперашні, няхай сабе і падобны на іншыя гарады, ушчэнт выпаленыя вайной і адноўленыя па тыпавых праектах, — галоўнае — адноўлены, галоўнае — свой, зялёны, гаманлівы, часам аж да крыку, вясёлы, адбіты ў плынях Дзвіны, аточаны лясамі. Або ў горад, які я памятаю з дзяцінства, з арачным мостам над Віцьбай, са стрэламі званіц, з вулачкамі, што збягаюць да Дзвіны, суматохлівы і, як мне тады здавалася, надта ж ужо вялікі. Хадзіць пад снегам ці нават — няхай! — пад дажджом, або, лепей, летам стаяць над вялікай ракой, швэндацца паркамі, дзе ў дажджлівыя ночы стаяць вакол ліхтароў вясёлкавыя кругі. І ўспамінаць, шмат успамінаць, хаця з таго, што ўспамінаеш, мала чаго засталося, хаця там цяпер усё новае. Шматпакутны тысячагадовы прыгажун! Колькі ж разоў даводзілася табе за гэтую тысячу гадоў твайго жыцця ператварацца ў прысак і ўваскрасаць з гэтага прыску! І хай мяне шасне пярун, калі я, нягледзячы на трывіяльнасць такой паралелі, успомніўшы пра ўсё гэта, не ўспомніў фенікса. Тысяча гадоў… Калі табе споўніцца дзве тысячы, ад нас нічога не застанецца, але і тады наша любоў да цябе будзе нячутна блукаць вуліцамі тваімі, горад, і жыць у вачах і душах новых тваіх грамадзян. Ёсць шмат тысячагадовых гарадоў. Часам куды галаснейшая іхняя слава. Таму што там галоўным быў меч, а рукі — толькі пасля. А ў цябе былі залатыя рукі тваіх творцаў, тваіх грамадзян, якія толькі па крайняй неабходнасці браліся за меч. А гісторыя чамусьці болей аддавала ўвагі заваёўнікам, а не тым, хто мірна ткаў палотны, рабіў па золаце і срэбры, араў, гарбарнічаў — словам, рабіў простую і сумленную справу, працу, без якой чалавек даўно б перастаў быць. Праўдзівей, проста не стаў бы чалавекам. Гэтыя рукі і выкапалі тут тысячу гадоў назад першую напаўзямлянку, звалілі першую залатую хвою, паклалі камень у падмурак першай хароміны і, мабыць, высеклі на камені пасярэдзіне Дзвіны, ля Забежжа (відаць, каб першыя ладдзі ведалі фарватар), глыбокі шасціканечны крыж. Не ведаю, ці ляжыць той камень і зараз. Калі так, то ён памятае ладдзі з лебядзінымі цыямі і барвянымі ветразямі, а ў іх — суровых людзей, першых віцьбічаў, а магчыма, і саму княгіню Вольгу, якая (прынамсі, так кажа пазнейшае паданне) заснавала горад. Не ведаю, ці так гэта. Ды, урэшце, такая жанчына, перад якой схіляліся плямёны, чалавек падступнага сэрца і дзяржаўнага розуму, па слове якой сутыкаліся народы і звінела "варажская сталь у візантыйскую медзь", у сэрцы якой ужываліся разлік і каханне, здрадніцтва і вера, — жанчына гэтая магла не толькі паліць, але і будаваць гарады. Як далёка відаць з узвышша! Які кашлаты дыван лясоў, разарваных толькі Дзвіной ды малой Віцьбай. Да самага небасхілу. І толькі у-унь там адна нітачка дыму. І цішыня. І першы ўдар сякеры аб камель дрэва. І ўпершыню спалоханая сойка заверашчала і рванулася з яго прэч. Што думаў, што мог прадбачыць у будучых стагоддзях, у шалёным іхнім пажары і дыме гэты не вядомы нам чалавек? Па-першае, ён ужо ведаў, што назва гораду будзе тая, якой мы завём яго і зараз. Чамусьці амаль заўсёды менавіта маленькія, а не вялікія рэкі даюць назву вялікім гарадам. Па-другое, ён ведаў, што месца вольнае, адкрытае вятрам, высокае, а значыць, здаровае і бяспечнае і нашчадкам ягоным някепска будзе тут жыць. Па-трэцяе, ён беспамылкова ведаў, што гораду шырыцца, і расці, і багацець. Таму што тут вялікі ўсходні рачны шлях: Балтыка, Дзвіна, Каспля, Дняпро. А па Дняпры — хочаш у грэкі, а хочаш і на ўсход, у Булгары Волжскія. А колькі сухапутных шляхоў! Увесь свет перад табою, чалавеча. Уцвярдзіся і стой. Давеку. I ён уцвярдзiўся. I, мабыць, досыць хутка мiж Вiцьбаю, Дзвiною i Ручаём з'явiлiся зямлянкi i хаты, а там забялелi i першыя частаколы, якiя потым, вельмi хутка, пайшлi расколiнамi i пацямнелi пад сонцам, i ветрам, i завеямi, што наляталi з Дзвiны. Тут вось i ўсталi пасля два замкi — Верхнi i Нiжнi. Але пасля прагны — увесь рух i рост — горад зрабiў крок праз Вiцьбу, i там стала Узгор'е, i там стаў гандлёвы цэнтр, i адабраў iмя "места" ад старэйшых сваiх братоў. А пасля пайшло. Задунаўе, Задзвінне. Паўсюль вырасталі звонкія хаты, млыны, званіцы, склады для сваіх і іншаземных тавараў, закураныя буды. Паўсюль з'яўляліся ў дрымучых пушчах лапікі палёў, дыміліся ляды, звінеў пасля на іх месцы блакітнымі завушніцамі авёс і гразіліся дзідамі жыта і ячмень. Словам, стаў Горад. А паколькі стаў Горад, то з'явіліся і князі з дружынамі… А з імі разам прыйшло тое, што летапісцы звалі: "і ўста род на род, і племя на племя". І заспявалі па ярах Віцьбы, па гарах Места, па пясках і хвалях Дзвіны мячы. Брачыславы, Ізяславы, Давіды — хто іх там разбярэ з іхнімі сварамі, перадачай гарадоў з рук у рукі і іншым такім. А горад ведаў: трэба працаваць, нягледзячы на князёў, трэба ўзвышаць адзінае, што яны лічылі сапраўды каштоўным: свой Вітбеск, сваю родную зямлю, цягнуць ніці гандлю ўсё далей на захад — да Любека, Данцыга, Мюнстэра, Брэмена, усё далей на поўдзень — да Кіева і Царграда, усё далей на ўсход — да Масквы, да Суздаля і Уладзіміра і далей, далей… Трэба, каб па-ранейшаму на віцебскіх прыстанях чуліся галасы іншаземных купцоў, жаўцелі колы воску і залаціўся ў бочках бурштынавы мёд, трапяталі ветразі, іскрыліся пад рукой футры, кашлаціліся аўчыны, пераліваліся індыйскія і арабскія тканіны, звінелі скандынаўскія бронза і срэбра, свяціўся прыбалтыйскі бурштын. Каб было золата і, побач з ім, яшчэ даражэйшая пры патрэбе соль, і нямецкія віны, і галандскія сукны, і імбір, і мігдал немаведама адкуль, і ўсё-ўсё. І каб гучна, як на імшу, перазвоньваліся раніцамі кузні, цягнула гараю з домніц, смярдзела скурамі, дубовай карою, рогам. Нехта падлічыў на пачатку нашага стагоддзя, што горад плаціў князям у 1-й палове ХІІ стагоддзя ў якасці падаткаў і пошлін да 600.000 рублёў. Сума па тых часах астранамічная… Беды да часу абыходзілі горад бокам. Татары — блізка не падышлі. Іх сваімі мурамі, сваімі шчытамі, рэкамі крыві адкінулі Крычаў і Слуцк, Бярэсце, Тураў і Крутагор'е. Удалося, праўда, на некаторы час уварвацца ў Віцебск і сесці ў ім Ярдзвілу, сыну Рынгольта, аднак праз некаторы час віцьбічы турнулі яго так, што… Ну ды што казаць: многія ведаюць, як могуць турнуць віцьбічы. А браць у рукі меч віцьбічам даводзілася часта, бо на доўгія гады горад апынуўся на пярэднім краі, на фарпосце. Пачалося з Літвы, якая дзе сутычкай, дзе ўмовай, дзе дынастычнымі сувязямі паступова падбіралася да Віцебскага княства. Урэшце, у 1318 годзе Альгерд, ажаніўшыся з адзінай дачкою апошняга віцебскага князя Яраслава Васільевіча, прыняў веру, што панавала ў горадзе, а праз два гады, пасля смерці цесця, сеў на Віцебскі стол. Праўда, у горадзе мала што змянілася. Віцебск не на апошнім месцы сярод пятнаццаці самых значных і вялікіх гарадоў княства. Змянілася, бадай, адно. Горад атрымаў два паясы: адзін каменны, а другі — драўляны. Каменны, з васьмю вежамі, сярод якіх асабліва моцныя былі Усцянская, Прачысценская і Замкавая, абхапіў Верхні Замак, узнёсся над Дзвіною і Віцьбай, прыўкрасіўся каменнымі ж княжымі палатамі (на жаль, ужо ў ХVІІ ст. ад іх застаўся толькі адзін мур са сходамі). Ніжні Замак быў ахоплены падвойнаю — з засыпкаю з каменю і зямлі — дубовай сцяной. У ёй было пятнаццаць вежаў. І ганарыста працягнулася праз увесь горад, ад Заручэўскай брамы, паўз каменны цуд Благавешчання (якое Альгерд таксама абнавіў), да каменнай Замкавай брамы і там, раздзяліўшыся на дзве, — да брам Завіцебскай і Задунаўскай, — Вялікая вуліца. Удзень і ўначы, ад першай чыстай вады і да ледаставу, прыходзілі пад гэтыя муры людзі, стругі і паўстругі, люзы, баркі, бяспалубныя ганчакі, лайбы, барліны, часам да пяцідзесяці метраў даўжынёю. Зімою валілі абозы. А гандаль ішоў круглы год. Ды час быў суровы, жорсткі і вераломны. Асабліва даставалася гораду ад усобіц. Пачынаецца, напрыклад, звада Свідрыгайлы. За ім стаяць лівонскія рыцары. Яны бяруць горад, хапаюць намесніка Фёдара Вясну і кідаюць яго з Замкавай вежы ў Дзвіну… Потым Вітаўт цэлы месяц штурмуе Ніжні замак і, уварваўшыся ў яго, ставіць гарматы ля царквы Благавешчання і ўдзень і ўначы, без хвіліны адпачынку, садзіць па каменных мурах і вежах і па самім Верхнім замку. Узніклі пажары, быў моцна разбіты палац Альгерда. Горад пераходзіць з рук у рукі… Ох, як набрыняла зямля твая крывёю, мой Віцебск! Ты — памежная крэпасць, і вечна ля тваіх брам хмары парахавога дыму, крыкі, гігатанне коней і шалёны ломат сталі. Адны прыходзяць і адыходзяць, другія — за імі. А ты застаешся на месцы, ты мусіш стаяць на месцы, часта зусім без ніякай абароны (толькі напаўразнесеныя муры ды сэрцы абаронцаў). Ты мусіш стаяць. 1516. Па горадзе і пасадах вецер ганяе чорны попел. 1519. Пасады гараць. Людзі пабітыя. 1534. Усё наваколле выпалена. 1536. Замест пасадаў — жар. Людзей цягнуць у палон. 1568. Адбіліся… І далей, і далей, і далей. І ўжо страшна і сумна пералічваць. А як перажываць самому? Як бачыць, што вось военачальнікі глядзяць з муроў у даўжэзныя трубы, а там, куды глядзяць, — пыл і крыкі, і яны ані д'ябла не бачаць, а ты ведаеш, што гарыць твой дом, што гэта дакладна ў тым месцы, дзе ён, і гарыць тваё беднае майно, і карова, на якую ледзь узбіліся, і, магчыма, сын, які пагнаў тваю карову пасвіць, і сваякі, і ўвесь твой маленькі свет, які не ты стварыў і не ты насяліў несправядлівасцю і вайной?! Але ты мусіш. Мусіш біцца да апошняга, а пасля, калі ацалееш, зноў узводзіць дамы, проста жыць, бо ты — гэта і ёсць горад. Ты, а не тыя, з трубамі. А горад мусіць стаяць. Што толку ў тым, што яму дадуць першы герб: на блакітным полі — галава Спаса, а пад ёю — акрываўлены клінок? Ты занадта добра ведаеш, што гэты акрываўлены клінок можа ўпасці перш за ўсё на тваю шыю, што гэта штодзённы сімвал твайго жыцця. Але ты ганарышся і ім, і сваёй ратушай, і сваёй самай дакладнай "важняй", і сваім вечавым звонам. Ты не ведаеш, што ў цябе лягчэй лёгкага адабраць гэта, але ты ганарышся сваім Магдэбургскім правам. Бо ты сын гэтага, для цябе найлепшага ў свеце, горада. Не ты адзін так думаеш. У 1413 годзе саратнік і ўлюбёны вучань Яна Гуса Геронім Пражскі пабывае ў Віцебску. Пазней на працэсе, пасля якога яго спаляць, адным з галоўных абвінавачванняў супраць яго будзе тое, што ён прылюдна заявіў у Віцебску аб тым, што віцьбічы добрыя хрысціяне і добрыя людзі. І ты не ведаеш, што на цябе насоўваецца яшчэ больш страшная кара. Можа быць, менавіта за тое, што ты любіш волю і што ты харошы чалавек… Стылае світанне на 12 лістапада 1623 года. Усё вырашана ўжо напярэдадні. Ужо напярэдадні мяшчане пакідалі ў адну купу ўсе шапкі на знак таго, што будуць стаяць, як адна галава. На дапамогу падышлі палачане, вільняне, аршанцы. Нельга цярпець. Бо зачыняюць школы, бо пячатаюць цэрквы і засталіся толькі два буданы, у якіх людзі слухаюць сваё слова: у Заручаўі і ў лесе за Дзвіной. Але падбіраюцца і да іх. І паўсюль абражаюць цябе за тое, што ты — гэта ты. І нават нябожчыка бацьку дазваляюць вывозіць толькі праз тую браму, якой вывозяць "смрад і смецце ўсякае". І вось калі арцыбіскуп Іосафат (а ты завеш яго "Ізахват" і "Душахват") Кунцэвіч вяртаецца ад ютрані з царквы Успення маці божай (прачыстай), што на Узгорскім пасадзе пры ўпадзенні Віцьбы ў Дзвіну, у свае Віцебскія палаты, што там жа, зусім непадалёк ад царквы, — над горадам гучыць набат і робіцца раптам светла: зашугала полымя. Мноства народу кінулася да палатаў, збіла шматлікіх служак біскупа, змяла іх, кінулася на чалавека, які ўвасабляў у іхніх вачах усё зло. Яго забілі ўдарам баявой сякеры-гізаўры ў галаву, дастрэлілі з пішчалі, пацягнулі за ногі па горадзе, забілі ягонага сабаку і кінулі на ягоны труп, кінулі з адхона ў Дзвіну, а там рыбакі, наклаўшы яму за вопратку каменняў, павезлі труп і ўтапілі яго ля Пескаваціка. Віцебск адстаяў гонар цэлага народа. І Віцебск паплаціўся за гэта. Сто гараджан былі прысуджаны да пакарання смерцю. Галовы зляцелі толькі ў дваццацёх, бо астатнія паспелі ўцячы. Вось імёны страчаных: Навум Воўк і Сымон Неша, Янка Гужнішчаў, які біў у вечавы звон, Грышка Скарута, Гаўрыла Раманавіч, Іярмак Гайдук, Фурса, Шапавалаў сын, Багдан Кузнец, Грышка Бібка, Гаўрыла Пушкар, Ісак Любчын, Іван Аквін, Раман Даніловіч, Фёдар Казак, гаршчэчнік, Фёдар Цацэка, Якаў Шынкар, Сцяпан Труховіч, Пятро Васілевіч Палачанін. Акрамя таго, яшчэ двух абмазалі цамянкай і зрабілі дзве жывыя статуі. Жывыя, вядома, толькі спачатку. Герб з крывавым клінком выявіўся прарочым. Горад быў аддадзены страшэннаму пагрому… Чаго толькі не адбывалася з тых часоў! Казакі Пятра І падпалілі яго з усіх бакоў (той выпадак, калі дзейнічаў не дзяржаўны розум цара, а, па словах Пушкіна, "указы, писанные кнутом"). Агнявой лавінай пракаціўся па ім Напалеон. І ўсё адно знішчаны, здавалася б, горад уставаў, аздабляўся садамі, гудзеў па рацэ параходамі, на сушы — цягнікамі, выцягваўся ў вышыню, прыгажэў будынкамі. Віцебск умеў не толькі пратэставаць, не толькі — пры патрэбе — паўставаць. Віцебск, перш за ўсё, з самага пачатку, умеў працаваць і ствараць. Менавіта ў гэтым была ягоная неадольная сіла. Менавіта таму ніякім каралям, біскупам, царам і фюрарам ніколі не ўдавалася нічога з ім зрабіць. Нават тады, калі праца была замаскаваным сродкам рабунку. Ёсць у беларусаў такі не дужа разумны (а можа, і разумны ў вышэйшым сэнсе) звычай: ставіцца да сябе, да сваёй вёскі, да свайго горада з некаторай іроніяй (гэта пакуль той горад не зачэпіць нехта іншы). Дзед мой, са слоў свайго бацькі, казаў, што калі праз Віцебск была пракладзена першая чыгунка, то ў першым буфеце на гэтай першай станцыі на ўсіх сталовых прыборах было выгравіравана: "Украдено на станціи Витебскъ". Ну і няхай сабе не дужа разумна. Але ж затое яшчэ тады, у даўнія часы, горад звязаў сябе сеткаю чыгунак з Рыгай, Арлом, Масквой, Пецярбургам, Кіевам, Брэстам. І яшчэ тады рукі яго грамадзян умелі плавіць шкло, ліць чыгун, спускаць на ваду параходы і шліфаваць лінзы. Дый ці мала яшчэ чаго? І, амаль адначасова з гэтым, горад стварыў тое, што маглі сабе дазволіць вельмі нешматлікія гарады: сваю мастацкую школу, якая заняла неаспрэчнае месца не толькі ў гісторыі мастацтва Беларусі. Якія б назвы яна не насіла: "Школа Ю. Пэна", "Народна-мастацкая школа", "Віцебскае мастацкае вучылішча" — школа гэтая была месцам, дзе выкладалі сапраўдныя мастакі і дзе такія ж сапраўдныя мастакі выхоўваліся. І калі гавораць пра ілюстрацыі М. Дабужынскага да "Белых начэй", або пра "Здраўнеўскі цыкл" І. Рэпіна, карціны К. Малевіча або М. Шагала — усім нам трэба памятаць, што гэта не толькі сусветная вядомасць, але гэта яшчэ і Віцебск. Віцебск 17 кастрычніка 1905 года вывеў на плошчу перад ратушай дваццаць тысяч сваіх грамадзян (загінула ад куль — васемнаццаць). А наступнага дня выйшла на вуліцы ўжо сорак тысяч. І была ўшчэнт разнесена турма і вызвалены палітзняволеныя. 1 сакавіка 1917 года вулкамі і плошчамі Віцебска пракацілася вестка аб звяржэнні самаўладства. 4 сакавіка бальшавікі правялі сход і стварылі на ім Савет рабочых дэпутатаў і прафесійныя саюзы. Адначасова (6–7 сакавіка) быў створаны Савет салдацкіх дэпутатаў. Пазней абодва Саветы аб'ядналіся, сталі Саветам рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Калі падыдзеш да дома № 2 па вуліцы Пушкіна, то ўбачыш мемарыяльную дошку, устаноўленую ў памяць аб дзейнасці першага Савета, які ўвёў васьмігадзінны рабочы дзень, шмат зрабіў для паляпшэння становішча самых бедных працоўных, стварыў народную міліцыю і г. д. У тым жа "доме першага Савета", па Пушкінскай, адбылася (з 1 па 3 кастрычніка) І Віцебская губеранская канферэнцыя бальшавікоў. Заслугаю віцебскіх бальшавікоў было тое, што ўсяго праз два дні пасля перамогі ў Петраградзе рэвалюцыя перамагла і ў Віцебску. Віцебск ляжаў на шляху, які вёў ад стаўкі на Петраград. Стаўка і штаб Заходняга фронту паслалі каля 20 тысяч войска (салдаты і казакі), каб затаптаць у сталіцы агонь рэвалюцыі. За 11 дзён (з 28 кастрычніка па 7 лістапада) віцебскія бальшавікі і чырвонагвардзейцы раззброілі ўсе гэтыя 20 тысяч. Пачаўся новы этап: грамадзянская вайна, у якой жыхары Віцебска таксама прынялі актыўны ўдзел. На ўсіх франтах. Ад Архангельска да Крыма і ад Варшавы да Уладзівастока. У чэрвені 1919 года прыбыў у Віцебск з агітацыйным цягніком "Кастрычніцкая рэвалюцыя" М. І. Калінін. Ён выступіў тут на пасяджэнні партыйных, прафсаюзных і заводскіх камітэтаў, на мітынгу воінскіх часцей, перад рабочымі фабрык і заводаў горада, на шматтысячным мітынгу чыгуначнікаў. Радзіма ў небяспецы. Усе — на адпор. Чыгуначны транспарт павінен дзейнічаць бесперабойна. Таму што рабочыя галадаюць, таму што ў арміі цяжка з ежай, таму што гарады і прамысловасць замярзаюць, паміраюць без паліва. Ужо 14 чэрвеня прыйшлі і сталі пад ружжо першыя шэсцьсот жыхароў Віцебска. Скончылася перамогаю вайна. Паўсюль яшчэ віраваў бандытызм, успыхвалі сям-там мяцяжы. Але самым страшным ворагам была разруха, амаль поўнасцю знішчаная гаспадарка, мёртвыя заводы, іржавыя рэйкі чыгунак. Віцебск у гэтым сэнсе не быў выключэннем. Невядома было нават, з чаго пачынаць, з якога канца прыступіцца. Але горад, як і ўся краіна, хацеў хутчэй забыць старое, цягнуўся да ведаў і працы, да новага. Горад пачаў з асветы. 1 кастрычніка 1918 года адкрыліся дзверы педагагічнага інстытута. Новаму грамадству перш за ўсё быў патрэбны новы, адукаваны чалавек. Рукамі гараджан, іх працаю горад і яго прамысловасць паступова пачалі ажываць. Зацеплілася, слабое пакуль яшчэ, жыццё на старых, дробных прадпрыемствах (на базе многіх з іх выраслі пазней такія буйныя станкабудаўнічыя заводы, як імя Кірава і "Камінтэрн"). У гады першых пяцігодак былі пабудаваны швейная фабрыка "Сцяг індустрыялізацыі" (уведзена ў строй 7 лістапада 1930 года) і панчошна-трыкатажная фабрыка "КІМ" (будавала яе моладзь у 1929 — 31 гадах). Віцебск прыўкрасіўся новымі будынкамі. Людзі тых гадоў памятаюць, як ганарыўся горад дамамі-камунамі на цяперашніх вуліцах Суворава і Горкага, домам спецыялістаў, новай трамвайнай сеткай, новым вадаправодам. І як ганарліва задзіраліся віцебскія насы з кожным новым інстытутам ("як жа, наш!") — ветэрынарным (1924), медыцынскім (1934). А тэхнікумаў і не злічыць: палітэхнічны, фінансава-эканамічны, сельскагаспадарчы, кааператыўны, ветэрынарны, швейнатэкстыльны. І мастацкае, музычнае, педагагічнае вучылішчы. І сорак тры школы, не лічачы фармацэўтычнай, школы медсясцёр, школы лабарантаў, школы фельчарска-акушэрскай. У горадзе, як і паўсюль, чынілася другая рэвалюцыя, не менш важная за першую: рэвалюцыя духу, псіхікі, культуры. Людзі думалі не толькі пра хлеб і сталь, а і пра яе, культуру — часта раней, чым пра хлеб, — і гэта, між іншым, сведчыць на іх карысць. Чэрвень 1919 — ратуша аддадзена краязнаўчаму і мастацкаму музею. Зараз ён — адзін з лепшых у рэспубліцы. 21 лістапада 1926 года — упершыню ўзнеслася заслона Другога Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра. Не заўсёды другога па якасці пастановак і таленту акцёраў. Часта — першага. Свае літаратары. І, сапраўды, першая і лепшая мастацкая школа… Пасля пачаўся час выпрабаванняў, пакут і смерці, час барацьбы не на жыццё, а на смерць. 11 ліпеня 1941 года немцы ўварваліся ў Віцебск. Запанавала тое, што пастрашней за самую лютую і задушлівую ноч: фашысцкі "орднунг". На цэлыя тры гады. Не яны, вядома, выдумалі каменданцкую гадзіну і расстрэл за яе парушэнне. Але вось расстрэл за тое, што ходзіш каля чыгункі або выйшаў у лес назбіраць грыбоў, прэвентыўны расстрэл, або расстрэл заложнікаў, — гэта ўжо выдумалі яны. Пойма Віцьбы за педінстытутам, Ілаўскі і Духаўскі яры, — паўсюль штабелі або проста завалы трупаў, скупа засыпаных зямлёй. І лагер смерці ў пасёлку Лучоса. І гета ў раёне клуба металістаў. Падвалы СД па вуліцы Політэхнічнай, залітыя крывёю. Шыбеніцы перад ратушай, і на Смаленскім рынку, і ледзь не паўсюль. Амаль 110 тысяч забітых, закатаваных. І аднак увесь час у Віцебску жыло, дзейнічала, змагалася падполле. Шмат груп. З ліпеня 1941 — група А. Я. Белахвосцікава; з лета 1941 — група М. Я. Нагібава; з вясны 1942 — групы І. А. Бекішава, В. М. Арлоўскага, М. А. Журынскай, В. С. Кулагінай, А. А. Сакаловай; з верасня 1942 года — група А. С. Вінаградавай. На пачатку лета 1943 года ў Віцебску было больш за 60 падпольных груп. А калі ў красавіку 1943 года быў створаны Віцебскі падпольны гарком партыі на чале з В. Р. Кудзінавым — пачалося стварэнне адзінага нелегальнага цэнтра кіраўніцтва падполлем горада. Агітацыя, праўдзівае інфармаванне людзей аб тым, якімі шляхамі ідзе барацьба, збор зброі і медыкаментаў, дыверсіі і сабатаж на прамысловых і ваенных аб'ектах, вярбоўка надзейных людзей для лесу і для падполля, тэрарыстычныя акты супраць найбольш заядлых і азвярэлых прадстаўнікоў адміністрацыі захопнікаў і іхніх прыспешнікаў — гэта рабілі падпольшчыкі. У Віцебску загінула Вера Харужая са сваёй групай. Тут загінуў у бітве, якая часта бывала няроўнай, кожны трэці падпольшчык… У ноч на 26 ліпеня 1944 года войскі І-га Прыбалтыйскага фронту (генерал арміі І. Х. Баграмян) і 3-га Беларускага (генерал-палкоўнік І. Д. Чарняхоўскі) распачалі нечуваны па ўпартасці штурм горада і раніцаю вызвалілі яго. Мёртвы горад. Сустрэць сваіх пашчасціла ста васемнаццаці жыхарам. Бадай што лягчэй было будаваць горад на новым месцы, пакінуўшы горы бітай цэглы, жвіру і попелу, парослыя бур'янам і пустазеллем. Але хто б сказаў гэта ўцалелым яго жыхарам, якія паступова сцякаліся на папялішчы? Хіба той, хто ніколі іх не ведаў. Не ведаў іх характару, іхняй упартасці, іхняй працаздольнасці, іх жадання бачыць свой горад зноў жывым, яшчэ лепшым. Такім, якім мы бачым яго сёння. 270 тысяч чалавек. Трэць усёй прамысловай прадукцыі вобласці. Дываны ягоныя пабывалі на міжнародных кірмашах і выстаўках у Балгарыі, Бразіліі, Венгрыі, Галандыі, Інданезіі, Італіі, Сірыі, Турцыі, Швецыі і ў шматлікіх іншых краінах. Высокадакладныя зубаапрацоўчыя станкі, зробленыя віцяблянамі, купляюць у нас Бразілія, Балгарыя, Мексіка, Іран, Алжыр і іншыя дзяржавы. Трыццаць краін свету купляюць станкі завода заточных станкоў імя ХХІІ з'езда КПСС. Радыё- і гадзіннікавыя дэталі, электравымяральныя прыборы. Апрацоўка дрэва і харчовая прамысловасць. Шматлікія інстытуты, тэхнікумы, школы, бібліятэкі, кінатэатры і музеі, дзяржаўны драматычны і два народныя тэатры. Не толькі горад магутных, усё здольных зрабіць рук, але і горад высокага інтэлекту, ведаў, таленту. Горад новых прыгожых будынкаў. І горад выключных людзей, якія не толькі ўмелі трымаць у руках зброю пад час рэвалюцый і войнаў, але і ўмелі працаваць і адраджаць з руін свой вечны, старажытны горад на сіняй Дзвіне. …І вось я блукаю па вуліцах сучаснага горада. Іду пад ягонымі каланадамі, выходжу на зялёныя рачныя адхоны. Мне крыху шкада яго, старога, шкада ягоных вулачак — ну дакладна, як на карцінах мастакоў старой і цудоўнай Віцебскай школы. Шкада нават рамізнікаў, хаця я разумею, што гэта несусветнае глупства. Шкада — і гэта ўжо не глупства, — што недастатковая ўвага да камянёў, што памятаюць Неўскага. Але бачу я твары людзей, іхнія ўсмешкі, іхнюю павагу да цябе, людзей, якія раскажуць аб сённяшнім дні горада лепей за мяне, і я разумею, што галоўнае — засталося. Людзі. Пакуль яны ёсць — горад будзе. Гэта словы паўстанцаў 1623, да якіх нічога не прыбавіш: "Нельга зрабіць так, каб у Віцебску не было Віцебска". Хай нашы далёкія пранашчадкі памятаюць, што мы, не ведаючы, любілі іх, што нашы думкі, уздыхі і словы лунаюць вулкамі і гэтага вялікага, прыўкраснага горада, што і нашы рукі крыху дапамаглі яму зрабіцца такім, што нашы сэрцы ўсё яшчэ грукочуць ва ўнісон з іхнімі сэрцамі і сэрцам горада, што праз нашых прашчураў і наш прах змяшаўся з віцебскай зямлёй, і яе стала крыху болей. Што яны — гэта крыху і мы, што мы — з імі, што і мы адваявалі для іх гэты вялікі і вечны горад, якому стаяць не тысячы гадоў, а тысячы стагоддзяў. Гэта нічога, што мы калісь пойдзем, Віцебск. Мы — сыны твае. І ты, колькі б ты ні пражыў, — гэта мы. У. Караткевіч. “Тысячу стагоддзяў табе”. Эсэ, прысвечанае Віцебску (урывак). Сакавік 1974 г. Аўтограф У. Караткевіча. (БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 501, арк. 135)
|
| | |
| Статья написана 18 сентября 2017 г. 22:37 |
Витьбичам, моим современника, посвящаю. Лидия Обухова ДО ЛЕТОПИСИ. Лодка-долбянка возвращалась с верховий. Тяжело груженная уловом, она бы заставила попотеть рыбаря-кормчего, если б течение само не толкало ее, слегка относя к береговым уступам. Двина казалась почти черной. Крупными волнами она подмывала лобастые холмы, и те выставляли бараньи кудрявые головы дремучих лесов. . В зарослях светились глаза притаившейся рыси... На поворотах река вымывала узкие полосы песка, чистого, как размельченное серебро, испещренного отпечатками когтей и птичьих лап. Полузатонувшее дерево плыло рядом с лодкой, выставив узорные ветви, похожие на лосиные рога. А и рога не всегда удавалось отличить от веток!
На пустынных широких плесах, где гладкое дно и тихое течение давали кормчему отдых, он слегка откидывал плечи, словно освобождая богатырскую грудь для вдоха; и сладкий запах воды, речных ракушек и рыбы смешивался с кисло-горьким запахом хвои. Кое-где у берега торчали клыками буро-красные валуны с отпечатками стеблей — памятка последнего ледника. В синей наносной глине попадались длинные волокна древних растений; обугленный торф с торчащими полусгнившими стволами. В травах, которым еще несколько веков не суждено покорно никнуть под взмахами косарей, паслась мелкая живность; сновали ящерицы; насекомые дружным стрекотаньем приветствовали каждый наступающий день. Тысячи лет ничего не менялось на этих берегах. Да и что могло измениться? Люди жили еще так невидимо для природы. Их костры и костяные мотыги были так маломощны... Рыбарь по имени Дубыча, свернувший против течения из Двины в устье Витьбы, однако вовсе не ощу-щал.'.своего ничтожества. Для него любой день был 1 наполнен энергией. Велес, скотий бог, был к нему добр: еще когда отроком он пас свиней и говяд, они жирели и наливались силой быстрее, чем у других; кобылицы доились обильнее. Его жилье с печью, называемое истопкой или ист-бой, было не с дерновой кровлей,, как-у соседей-родо-вичей, вкопанное наполовину, в землю, а поднималось над почвой срубом, и оконце, раздвигаясь, выпускало струю теплого дыма. «Дыма не хлебнувши, тепла не видать»,— ворчал дед. Но Дубыча жалел глаза подраставшей сестры и лишь усерднее рубил дрова. А чтоб жар не выходил напрасно, отверстие очага прикрывал доской. Дубыча не сам это придумал, житейская мудрость шла от от-чичей и дедичей, но и он уродился, хитроу мцем, как его старший брат — кузнец железу. Хотя сам. Дубыча был еще годами млад и предпочитал дерево. Лавки, что он тесал из сосны, получались особенно широки и устойчивы; рубленые бортовые колоды висели на стволах высоко, и пчелы роились в них охотнее, чем в дуплах. А уж как дивно выступали из углов изукрашенные резьбой липовые кади и бочонки при ярком огне светца зимними протяжными вечерами, когда в городище был мир да достаток: плетеные лукна и коши полны зерном и горохом; удальцы сходили уже на челнах в чужие земли за солью, и ныне всю снедь городчуки едят посоленою, а на свадьбах либо на тризнах стар и млад, славя Сварога, угощаются сладостью, сваривши пшеницу и смесив ее с медом... Зверинину же в пуще можно добыть всегда. И все-таки сердце Дубычи оставалось несытым и мятущимся. Сам Дубыча был не столь широк костью, сколь ею..длинен. Плечи имел прямые, а волосья на голове светлее'льна. Лицо живое и изменное: то замрет без 8 движения, вперив в небесную- твердь глаза,отчего они становятся туманными,— стиснет губы до белизны и брови сведет думой, а то вдруг каждая жилка в нем заиграет предвкушением радости. — Не прост ты, чадо,— вздыхал дед.— По мати своей пошел, по ней, по полочанке... А у нас, витьби-чей, душа без покрова. И спохватится старый, видя, как разом сгаснет внук, будто выпала искра из костра, засветилась, а на нее наступили... Четырнадцатый год пошел с того яростного своим жаром лета, когда со всех сторон. тянуло гарью лесных пожарищ; взоранная нива не уродила ни колоска, спекшись без дождей до пепла; а кто из витьбичей отваживался искать по дебрям уцелевшее зверье, под тем вдруг на ровной поляне подламывалась земля, и где раньше булькало болото, ныне тлел торф. За единый год Братйло, Дубыча и плакавшая в люльке Нёдачь стали сиротами. Сначала отец, древолазец Тишата, сорвался с вершины, спасая от подступавшего пожара богатую медовую борть. А потом мать умыкнули проезжие торговые гости на лодье с полосатым парусом, каких витьбичи и не видывали! Правда, дед вспоминал, что и раньше мимо, по Двине, проплывали изредка чудные лодьи — и всегда не к добру! То градом побьет просо; то навальница запалит в сухое лето пущу, и бежит из нее зверь; а то Двина,— которую проезжие непонятно нарекли Рудоном,— выйдет из берегов, зальет околицу, потопит свиное стадо, передушит водяной петлей коней и говяд. Но в прежние времена витьбичи не боялись чужаков, охотно спускались с городища, несли им в мисках творог, а в корчагах меды, меняли шкуры на сердоликовые бусы, на зеленые стеклянные браслетки, на яркую тканину с африканского берега. Проезжие платили диргемом, малым серебряным кругляком с тиснень-ем — и лесные люди знали, что этот диргем пойдет и за соль, и за железные серпы, как далеко ни отъедешь от кривской земли. Откуда были лодейные кормчие — неведомо. Везли от моря, которое они называли Руським,— а витьбичи Варяжским,— желтый камень именем електрон; потрешь его об шкуру-г-смолой пахнет. Уверяли, будто в их. местах он дороже серебра и золота, дороже самой богатой вязки куниц и белок-векш. Витьбичи не верили, но слушали степенно, вежливо.. В городище електронные амулеты многие носили на жильной нитке в память по пращу ркам-родуницам. ...В тот злосчастный день мать Дубычи ушла рано щипать орехи в береговых дебрях и, отбившись от подруг, спускалась по откосу все ниже и ниже, потому что орехов уродилось мало. Горькая вдовица, притомившись, присела на камень, где серый галечник, узким языком выдавал мелеющее от бездождья дно, спустила на плечи головной убрус-платок. Перед нею текла Двина, а по правую рук;у прихотливо выныривала Витьба, раздвигая коричневатым телом путаницу зарослей, наклонившихся и словно просящих испить. Синие стрекозы возле ног блестели на мглистом солнцё, а черные тени сплошного леса лежали до середины реки, оставляя для отраженного неба лишь серединную быстрину, как рыбью хребтину. И этой-то тенью, до времени хоронясь за излучиной, вплыла без криков и песен лодья... Пока витьбянки, запыхавшись, взобрались по откосу к городищу, пока вопли их стали понятны, а мужи, схватив дротики и луки со стрелами, добежали до серого галечника, ничего, кроме оброненного лукошка с горстью орехов да спокойной воды с улегшейся после весельного всплеска пены, уже не было. го Так и сгинула Навсегда краса-полочанка, вывезенная Тишатой-древолазцем из Полотьской земли! И некому было даже оплакать ее, потому что Дубыча и. Не-дачь остались малы, а у деда одна забота — прокормить сирот. Да и не плачут свекры по невесткам: чай, не дочеря! Одий Братило, смышленый и крепкий, в замыслах, затаившись ото всех, не смирился. Прошел гнев Даждьбожий; пал снег на гари и пустоши. Весной, кто дожил, увидали, как буйно пошла в рост трава по золе, как дружно взошло жито, закачались под влажным ветром сытные просяные метелочки. Словно вся жизнь начиналась сызнова. А что было до того — уже никто не йомнил. С песнями вышли витьбичи на свои воры, с песнями тянули ель-суковатку, бороня обрубленными сучьями пашню. И Братило тянул суковатку. И Братило дождался спелого колоса и серпом жал его вместе с другими. Лишь потом отпросился в соседское городище выменять на просо льняные порты. Оттуда больше не воротился; пристал к бродячей ватаге, велел передать деду, что сыщет мать... Дед не очень огорчился и ждал вскорости внука обратно. Он никуда не выезжал из городища, земля казалась ему мала: витьбичи да полоты, кровные братья; да древляны со словенами; да чудь с мерей; да половцы за змиевыми валами в степи, за землей Полянской; да варязи за морем — все жили каждый своим родом и на своих местах. Близко или далеко — он не задумывался. Сам туда не хаживал, чужим словесам не верил. Что старший внук захотел повидать свет, его не удивило. Но и не вызвало одобрения. Ему-то казалось витьбичево городище самым обжитым; и пашни у селища, и бор велик, и гора над Витьбою. 11 Знал он в окрестностях каждое дерево, любую муравьиную кучу, понимал, следы зверей и заломы веток. На бортях с гордостью ставил свое «знамя» — мету, доставшуюся еще от отца Завида, и верил, что Завидов дух по-прежнему витает над родимым дымом, научает Завидичей на добро, чтоб боги и люди были ими рады... •Стал он пристальней приглядываться к оставшимся внукам. Крепыш Дубыча скоро во всем заменил пропавшего брата; и на ногу был легок и на работу удачлив. Возле истбы на солнцепеке старательно лепила глиняные блюды и горшцы, варила едово, а зимою на возилах неутомимо волокла с подружками хворост из лесу румяная послушная Недачь. Дед Завидич в старости сделался пуглив, недоверчив: а вдруг и. эти, мизинчики, покинут городище? В мягких., лапотках неслышно подходил к внучке, из-за ее плеча вглядывался, в мелькание проворных рук. На сосуде серой глины возникали густые ряды ямок и перекрещенных елочек. Видимо, это первое, что делают сами собою пальцы. Человечество повсюду играло в крестикигнолики! И через тысячу лет такие же наивные, но стройные узоры будут выводить на песочных куличиках детские ручонки. Без материнского глаза, без отцовской науки, Недачь Тишатишна росла неприметно, будто ландыш-молодик в тени. Ей едва сравнялось четырнадцать весен, а вымахала, как молодая ель: стройна, поката плечами, пышна станом. Только в повадке не было еще девичьей лепоты — смеялась громко, обнажая широкие десны, и любила дразниться с братом, сощурив веки и приплюснув нос. К беспокойству Завидича, ее уже примечали. Старшина из ближнего городища пришел за семь немерян-ных верст горохового киселя хлебать. И пока сидели летним обычаем на завалинке, обговаривая совместную 32 облаву на расплодившихся волков, сосед водил очами по двору от одного конца низкого тына, где на кольях Недачь сушила горшки, до другого — все вслед за нею! Прощаясь, подарил платочек каемчатый, погладил по льняной косе, спросил, пойдет ли она нынче летом на игрище между селами славить Перуна да прыгать, взявшись за руки, через огонь? Дед проворчал: мала, мол, еще. Гость усмехнулся. Человек бывалый, ходил он на челнах в Полянскую землю и будто не к делу обронил, что поляне нынче девиц не умыкают, хоть называют по-прежнему «невестами», что значит «невесть откуда» привезенная,— но жених сам идет в ее дом с миром и платит родным богатый выкуп. Недачь смотрела на него во все глаза, а дед притворился, будто по тугоухости не понял намека. Внучку же потом корил, что по первому слову чужанина ладит она бросить городище, позабыть витьбичанские песни-погудки. . Недачь на его слова лишь засмеялась, но и задумалась. Новые мечты начали посещать ее... Дед горько ворчал: скоро-де всыплют его прах в зольницу, поднимут на межевом столбе на дорожном перекрестке — а кого сторожить, кого оберегать сирому духу, если запустеет отчий дом? Дубыча отмалчивался; мягкосердечная Недачь спешила попотчевать деда чем-нибудь вкусненьким — оба были сластенами,— и он утешался на время. От младых ногтей Завидич слыл выдумщиком, ле-тословцем. Зимними вечерами набивалась полная изба послушать его россказни: откуда, мол, пошло племя витьбичей? Старик разливался по-соловьиному, больше всех прочих тщась прельстить внуков. Ближе к пучку березовых лучин в светце садился Дубыча с каким-нибудь рукомеслом в руках. А если непоседливая Недачь 13 хотела ускользнуть к подружкам, старик чуть не за подол тянул ее от порога: уважь, присядь. Сказ его тек медленно и все-таки неизмеримо быстрее, чем катились века. Как все люди, впаянные в постепенное течение истории собственной долгой жизнью, дед затруднился бы отделить пережитое от услышанного. Но и он не мог сказать, с чего начинается славянское племя — и было ли у него начало? Имя «витьбичей» относилось им к очень позднему времени: если не на его собственном веку, то где-то в обозримом прошлом. А до этого были времена переселений, похожих на птичьи перелеты, потому что пращуры нигде долго не задерживались, меняя одну область на другую. Хотя что такое «долго» или «коротко», если за отсчет принята лишь зыбкая память? Ведь и Карпаты, с северных склонов которых двинулись некогда теснимые обрами славяне — а те обры были могучи телом и горды умом! — тоже не были их истинной родиной, но лишь пятисотлетней стоянкой. Воспоминание о горах растворилось у потомков в иных впечатлениях. Эти впечатления были также длительны, не менее двухсот лет, пока славянские роды-племена то сходились воедино для общей обороны, то растекались каждый своим путем, подобно тучам по грозовому небу. Весь этот человеческий поток, бродячая громада, отставая ли, перегоняя ли друг друга, двигалась в одном направлении. Сначала по южной дерновой степи с тучной почвой, годной для хлебопашества и раздольным окаемом; потом разрозненные племена незаметно переходили в область лугов с островками черного леса. А под конец упрямо продирались уже и сквозь северные хвойные пущи. Были'Ли кривичи, принявшие свое название от пер-г вых поселенцев северных: болот, тем пионерным пле- 14 менем, которое шло, нё останавливаясь, гонимое инстинктом первооткрывателей, или же, напротив, отставшим, замыкающим, которому пришлось миновать земли, обильные и теплые, ради холодных и скудных поневоле, потому что более расторопные поляне да древляне успели уже крепко осесть вдоль Днепра и по Десне? Этого преданья не объясняли. Деду же Завидичу мнилось: что прошло, то и кончилось. Невдомек его простому уму было, что степь с ее манящим размахом и вечной опасностью (хищные степянки не ведали разницы между континентами, переваливая Урал-камень — равнина везде равнина! Да и греческие географы считали межой Европы и Азии лишь реку Дон-Танаис), что та, покинутая давным-давно степь, грозная и желанная, навеки отпечаталась в глубинной памяти витьбичей, чтоб нет-нет да и всплыть смутными снами. А Дубыча как раз уродился сновидцем. Не синицу в руках, журавля в небе искал он. Правда, с течением времени и лес врос в человеческую плоть своими корнями. Защитник от врагов более надежный, чем крепость! Кормилец зверем и дикой пчелой! Ведь это он обогрел пришлых кривичей березой, обостроил дубом, обул лыком. И страхов в нем, дремучем, предостаточно! Медведи, рыси, оборотни (схватится зубами за пень и обернется волком!). Ночами звериный вой; по болоту огни блуждающие, души непогребенных. Есть от чего оттолкнуться воображению, приворожить тайной. Не потому ли и воротился на попутном челне из дальних земель, насытившись ими, почти позабытый городчуками Братило? Дед Завидич, прослезясь, трясущимися руками обнял внука. Дубыча, смутно припоминая братние черты, поклонился земно, вперясь в диковинную его одежду — 15 кафтан, со вдетым лишь одним рукавом, другое плечо— внакидку. А Недачь дичилась, как чужого, и пряталась за дровяной поленницей. Старший Тишатич стал с годами могуч, крепок мышцами. Темно-русые волосы носил пучком, стянув ка затылке; бороду скоблил, а усы опускал книзу. Глаза у него были серые до черноты под нависшими бровями, нос же прям, высок и на крнце долговат. В своих скитаньях повидал он многое: вьючных животных вельбудов и буйволов; и дресву овощную названьем — гранатовые яблоки; и сладкие грождьл винограда отведывал. Был стрелян стрелами и посечен мечами. Когда пришлецу истопили баню, Дубыча сам увидел, хлеща его лиственными прутьями, как вспыхивали молниями белые шрамы на груди, на плечах и поперек бедра. Стоял Братило с копьем на заставе против степняков. Выл взят в плен и продан хозарами в рабство на невольничьем рынке греческого города Феодосии. Прикованный, греб веслами куда укажут. Но перебил цепь ночью, кинулся в горькую морскую воду и плыл, захлебываясь, пока не прибило на рассвете к берегу. Странствуя по степи, упорно пробирался к лесной Витьбе, к дому... Уйдя из городища зеленым юнцом, он не знал, на что пускается! Разнообразие народов, огромность пространств подавили его. Однако и от сонного течения жизни он приотвык. Не понравился ныче отчий земляной дом — будто не тут родился! Молчком сладил длинную колу на сплошных колесах, запряг волов, ушел в чащу рубить стволы. Обтесал их и начал складывать сруб. Дубыча ходил у него в помощниках и только успевал перенимать, следя за братом. Тот, видно, был доволен младшим; стал изредка ронять слова. Мол, живете вы зверинским обычаем: путь-дорогу по полету стрелы меряете, а не саженью — двумя маховыми шагами,— тыщу саженей сложить, будет попри- ще или греческая миля. (Дубыча открыл было рот любопытствуя, но смолчал.) И мечи ножные короткие,— ножами называемые,— ковать сами не умеете: либо вымениваете без выгоды у проезжих гостей, либо по старинке из камня бьете. В других краях невестину родню кличут свояками — своими, значит,— замуж берут по новому обычаю, а витьбичи сестер и дочерей навек теряют. Ни защиты им от родовичей, ни привета. У Дубычи зажало горло. В словах Братилы прозвучала обидная укоризна, будто со стороны он увидел все зорче, хоть любил меньше. Дубыча готов уже был вспылить, но опомнился, пробормотал покорно: — Ты, брат, старей меня, сам суди. Мне у твоего стремени ходить. Как решишь, так исполнять буду. Братило хотел было криво усмехнуться по своему обычаю, но потемневшие глаза подернуло внезапной слезой, и старший крепко стиснул братнее плечо. В сей миг он только и поверил, что вернулся в свой род, к своему очагу, где скитальцу уготовано место и честь. С того дня в Братиле что-то переломилось. Он оставался неговорлив и малоприветлив, но оказался вдруг на городище чуть не первым человеком — и ведун и врачеватель. А главным стало его уменье добывать из лесных болотных дебрей железо, плавить его в дом-нице и ковать мечи и серпы. Для витьбичей это было дело новое, страшное. Наковальню вынесли подальше к воротам: шум пугал. Все суеверно считали, что в тяжком дыму плавильни Братиле сам Перун открывает неведомые тайны; что может ковач и приворожить, и отогнать злую силу. Приближаться к горну отваживался один Дубыча. Он и помогал брату копать круглую яму под домницу, густо обмазывать ее глиной, оставляя отверстие для сопла, соединенного с мехами. Братило говорил: 17 миЯ^8Я«тГмап1Т| ^— Не огонь творит разжение железу, а дутье меш-ное. Но даже Дубыче становилось жутко, когда в ночи заревом разгоралось багровое пламя и огромная тень ковача ложилась на землю. Наступить на эту тень было бы к непоправимому несчастью. В лесные пущи Братило уходил всегда один, ведя под уздцы коня с тороками, привьючив к седлу заостренный щуп — им он станет разведывать береговые срезы озер, тревожить водяниц в болотной тине, где на корневищах нарастают железистые отложения. Веприной тропой, с рогатиной наготове, Братило не спеша пробирался левым берегом Двины, который нелюдимо выставлял над рекой острые пики хвойных и прикрывал грудь холмов, как щитом, купами чернолесья. Только сильный ветер мог раскачать боровых великанов. Из их недр* будто из подвалов, вытекала, изгибаясь излучинами, Витьба— витая река. Но люди, оседлавшие ее холм и назвавшие себя витьбичами,-чуждались кривизны в мыслях и поступках — Братило знал за собой эту опасную прямоту, пугавшую слабых. ...-А с правого берега, более обласканного солнцем, свешивались березы. Их бледные стволы напоминали вытянутые ножки грибов, хоть правобережный лес был сух и от легкого ветерка далеко разносил запах медоносов и земляники. Отыскивая брод, путник зорко следил, как под водой, играя, вскипали перекаты. Журчанье и взблескивание струй, кипенье малых водоворотов не давали ни на миг отвлечься при переправе. Дальняя гладь обманно чаровала покоем. Но стая воронов застила свет, поднимаясь с каменистой отмели, где вещие птицы клевали падаль. Братило насупился — к добру ли это? Как вдруг открылся срез берега, испещренного гнездами ласточек. А на песчаной .гриве стройный забор сосно- 18 вого бора, ствол к стволу, красно-бронзовый на восходе и закате. И на сердце у него повеселело. — Ах, как мало знали латиняне и эллины, помещая Двину в мертвое царство северного безлюдья: Ночь безотрадная там Искони окружает живущих... А река жила, пульсировала, подкрадывалась к человеку, подобно лесной рыси, державно раскидывала синее водяное платье, запускала пальцы притоков в глубину пущи. Иногда поворот смыкал оба берега. Выбрав пологий склон и понукая коня, Братило взошел по косогору, где'в густых лапах ельника был протоптан звериный след к водопою. В осыпях, стянутых узлом корневищ, на моховых подушках, в сырых папоротниках бор потаенно хранил светлые поляны, жужжащие дикой пчелой. Будто ломаемые суставы, под копытами коня трещали сучья — и вдруг наступала тишина. Даже змея, выползая из чащи, начинала ■ блестеть и светиться, похожая на струю ключа, остановленная в своем злодействе светом косого солнца. Морщины сами собою спали со лба Братилы, губы сложились в улыбку. Душа, отходя от горестных воспоминаний, устремлялась уже только в будущее... Здесь, на мягкой травяной поляне, он хотел было остановиться на ночлег, разведя костер и отгородившись временным частоколом, если б не услыхал вдруг, как в меркнущем воздухе сипло прозвучала пастушеская свирель. Чье-то стадо возвращалось с водопоя. Братило раздвинул ветви и пошел на звук. Это место было ему незнакомо, обитатели неведомы. Смутно, с детства, он помнил, что какой-то строптивый витьбич добровольно выселился из городища, не поладив с родовичами и не желая доводить ссору до вражды. Извергнув себя из рода, он так и назывался потом извергом; настоящее имя его позабылось. 19 Жил ли именно он в здешних дебрях или кто-то другой — Братиле еще предстояло узнать. Если, конечно, он не решит обойти гудошника стороной, чтобы двигаться одиноким путем дальше. На миг кузнец задумался; привычка к настороженности готова была победить, Однако то душевное умиление, которое посетило его на потаенной поляне, еще продолжало мягчить сердце —- а к кому может обратить человек нежность и дружелюбие, как ни к себе подобному? Может быть, и пращурка-родуница подсказала выбор. Братило не вернулся к стреножному коню. Он продолжал идти на звук вечерней дудочки. Из густой травы навстречу потек желтый, как мед, песок, выдавая прежнее русло ручья, высохшего либо переменившего течение. Оно и оказалось водопойной дорогой говяд, истоптанной их копытами. Братило еще не приметил ни дыма, ни жилья, а был уже остановлен тремя черными лохматыми псами. Они возникли так внезапно, без лая, что он не успел приготовиться к обороне и почел за лучшее остановиться. Только окружив его с трех сторон, оскаленными мордами, собаки подали голос. Первой загавкала псица с отвислыми сосцами. И тотчас в чаще зашуршало. Опасаясь шевелиться, песий пленник скосил глаза. Сквозь куст орешника в лицо ему нацелился лук; стрела напротив переносицы. Но и теперь в душе Братилы не возникло страха, словно все это было лишь детской игрой: лук велик, а тетива натянута слабо. — Мир тебе, родович,— сказал он негромко.— Я из ближнего городища. Дашь хлеба-соли — отведаю. Не ко времени гостьба — пойду дальше. Вслушиваясь в спокойное звучание голоса, псица смолкла, шерсть на ее загривке улеглась. — Мир и тебе,— отозвался, помедлив, ломкий голос 20 из-за орехового; куста; Братило не ошибся, угадав в лучнике малолетка.— Цыць, Гадай, Седатый! Пучина, подь ко мне. Псы отступили на шаг и закрыли пасти. Из-за дерева выступила странная фигура. Это был не юнец, а женщина в мешаной одежде: холщовая бабья рубаха перепоясана сыромятным ремнем. С дорожной сумкой на привязи, на голове остроконечный малахай, под который старательно убраны волосы; на ногах калиги из звериной шкуры, мехом внутрь, чтоб не цеплялись колючки. Низкое солнце, уже не освещало пущу, и в сером сумраке щеки женщины казались темно-смуг-лыми, как у хозаринки. Лишь губы были ярки. — Пешим идешь? — спросила она, разглядывая нежданного гостя. — Нет. Конь в пуще привязан. — Веди во двор. Волчья сыть. Задерут. И, словно зная, где его привал, пошла впереди.. Псы отстали, юркнув между стволами. Псица недоверчиво, кралась за Братилой чуть поодаль. На поляне,— еще светлой от заката,— он разглядел, что лицо ее юно, округло, со взглядом, устремленным как бы и на него и вглубь самое себя, полной предчувствий. На сомкнутых губах та же мечта ожидания... Братило сплюснул веки, чтоб развеять наваждение. На своем веку он встречал женщин в душистых венках и цветных хитонах, которые от плеч до запястей не сшивались, а стягивались множеством золотых и серебряных застежек. Ныне же перед ним стояла лесная чернавка, выряженная для пугания сорок. Но и открыв глаза, он продолжал чувствовать себя подле нее счастливым. Наважденье не пропадало. Даже стать коня как бы. изменилась на колдовской поляне! Их ожидал не вьючный сивка, а богатырский скакун плотной гнедой масти, с копытом, победительно поднятым над зелеными травами... 21 Братило вскинул женщину на его круп легко, как колосок. — Как тебя звать? — спросил, подняв лицо от стремени. Отозвалась тотчас, с доверьем: — Зарислава! Подходя к высоченному, тыну, за которым не увидишь не только что дома, вросшего в лесной пригорок, но и двухскатной крыши; отваливая узкую воротину из дубового теса, он подумал, что не знает еще — кто встретится ему за стенами? Мускулы ковача сами собою вздулись, а брови ревниво насупились. Двор был обширен, как малое городище. Без тесноты в нем помещался хлев для десятка крупных коров, мешанных кровью с лесными турами; амбар с зимними припасами, пуня для молотьбы, медуша с липовыми кадями, где выстаиваются, меды, погреб, черная баня и огород. Хоромы тоже были рублены просторно: с теплой избой и холодными клетями, с вежей-чердаком и голубятней. Однако никаких звуков, кроме мычания во дворе, не было слышно. Зарислава соскочила с коня, ловко вдвинула в дубовую скобу воротный засов, взошла сама на крыльцо и поклоном пригласила гостя. Но и горница показалась ему нежилой. Хозяйка расстегнула сыромятный пояс, скинула островерхий малахай, освободив косы. Лук поставила к порогу и засветила огонек в глиняной чашке с длинным носиком для фитиля, так что по углам пошли мохнатые тени. — Попотчевать мне тебя нечем,— проговорила она уже совсем другим, мягким, спокойным голосом,-— Из кореньев камыша да рогозы кисели варю. Последнюю осьмину проса до новин приела. Вот квашеного молока с творогом вволю: после солнцеворота коровы дружно 22 ***■ телились. Правда, отдаиваю мало: телята сосут. Мне-то одной и этого хватает... Братило заметил, что она повязалась темным платом: лоб, брови, щеки — все ушло в черноту. Зарислава вздохнула под вопрошающим взглядом. — Вдове надобе носить смирные цвета. Так он узнал, что она была третьей женой витьбича-переселенца. Изверг умыкнул ее издалека,— и захотели бы родовичи, не найти. Под днепровскими переволоками девки жили вольно. Она черпала из водяной ямы и напоила берестяным ковшиком чужанина. «Наша лесная вода сладка,— сказал он,— а ваша, степная, горька и солона. Хлебни, краса, медовыми устами!» Она посмеялась его прибаутке. Попросился ночевать в сени. На утро прокрался в клеть, тихонько взбудил ее: просил проводить, челн толкнуть от берегов —тяжело, мол, нагружен. Она знала, что просьба пустая — какой мужик челна не столкнет? — лестно, что расставанье тянет. Из озорства села в челн. А назад дороги уже не было... Пока не доплыли до места, не сказывал, что его дожидаются две жены, и обе тяжелые, да пятеро чад по лавкам. Но позапрошлой зимой их всех, и малых и больших, свалила огневица. Она перемоглась, выжила. — И ты с тех пор в одиночку управляешься? — спросил Братило, жалея, но и тайно радуясь ее свободе: будь мужней, как переступить недозволенное? Зарислава беспечно тряхнула головой, отчего вдовий плат сполз на плечо. Она его не поправляла. — Сама не ведаю как! Лиходеев мимо не хаживало. Ниву вспахала и засеяла; хоть оратай из меня плохой, да кони борозду знают! Сжала и снопы обмолотила, крупы на зиму натерла. Скоту худо: до весны солому едят, сена не накосить одной. Топлю тоже больше сучьями: дерево грозой свалит, а нарубить до снега не поспею. 23 аггЕВшаеяиыейавЙ Братило поспешно встал б лавки. — Где топор? Дай, нарублю. Она усмехнулась. — Куда? Темь на дворе. Дождись солнышка. Похлебку гостю сварить поленьев еще хватит. — Не хочешь ли уйти в городище? — спросил он погодя. И затомился от ожиданья ответа, Зарислава разумно отвечала, что там она чужая всем.' Здесь же хоть какой, а дом. — Со мной никто не обидит. Избу срублю лучше этой. Колец и серег тебе скую. Только тут, спохватившись, сказал ей, что он кузнец, родом витьбич, звать Братило Тишатич, а шел к дальним болотам за железными камнями — разведать новые места. Хоть годами не юн, а жен нету. Зарислава рассеянно пошутила: лучше железо ва-рити, чем со злою женою быти. Но поглядела на Бра-' тилу с еще большим интересом: ковач железу был не в каждом городище! Не родуницы ли привели его к ней?.. — Женитьба-то дело не простое,— сказала она, глядя ему испытующе в глаза. — То дело доброе,— ответил он, не смигнув. — А добрые дела затевают с молодым месяцем! — воскликнула Зарислава и весело побежала на погреб, не боясь темноты, потому что за лесом уже вставала полная луна. Принесла ячменного пива в воловьем мехе. — Будешь ворочаться с болот, пожалуй ко мне; поговорим ладом. — Ан тогда и месяц новый народится! — подхватил Братило. Когда трапеза была окончена, оба присели на овчи-НУ У очага. Хоть и невдалеке друг от друга, но и не рядом, блюдя честь. Сбоку примостилась собака, глядя умными глазами на огонь. -. 24 — Поведай мне, что за люди витьбичи? — попросила Зарислава.— У каждого племени свое название, свои чуры и обычаи. Хочу знать про твои. — Летословец-то у меня дед,— сознался Братило.— Не знаю, припомню ли сам? — А ты вспомни! Братило пошевелил горящие сучья. «Счастье,— по-, думал он,— в том, чтоб отдать часть , себя и принять от другого. Не иметь вовсе — нестрашно, но лишиться обретенного...» Как каждый любящий, он стал уже опаслив. — Говори же, Братило!— поторопила женщийа. И вот что он передал со слов деда. Шло племя с Черных гор. Высоки они и заросли черным лесом, потому и назывались черными. Тогда еще деревья не онемели как ныне, лес был . живой: ветви у него — руки, маленькие сучки — пальцы. Старался людей удержать, чтоб не покидали его, а тоже вросли ногами, будто корневищами, в землю. Потому что, моя Зарислава,— как только человек замрет в праздности, опустит руки, остановится в движении, так и обращается в дерево или камень. Все были людьми в старину — и деревья, и камни, и реки. Народилась однажды среди бродячего племени дева, наша родуница. Все спешат не оглядываясь, чтоб быстрее на равнину выйти, а она отстает. Пчела загудит — обернет голову; чужой дым увидит — свернет, не побрезгует. Все ей хотелось прознать; и как другие племена живут, каким дротиком зверя бьют, какие ловушки ставят? И куда пчела летит, на какой цветок сядет, а какой обойдет, и что у тех цветов за свойства? Дерево рукой потрогает; мягко или твердо, на что годится? И так она была умом быстра, лицом пригожа, что деревья ей говорили: «Останься с нами, будь белой березой или серой ивой. Мы тебя от ветра укроем». Звери вторили: «Живи косулей между косулями; с ры- сями как молодая рысь. Мы тебя не обидим!» Пчелы жужжали: «Слепим крылья из воска, дом построим медвяный, живи среди нас!» А люди просили: «Будь женою водимою! Сестрой названой! Дщерью милой!» Но она благодарила и догоняла своих. Однажды спохватилась, что родовичи далеко ушли: ни следов на земле, ни голосов не слышно. А лес вокруг уже частоколом сомкнулся; ветви за плечи це-плйются, холщовую повязку с головы рвут. Испугалась, заплакала горько и стала вырываться, петлять, изворачиваться сквозь пущу: где ползком проползет, где по камням овраг перескочит. Так мчалась, что слезы, которые она лила, еле-еле за ней поспевали, сначала ручейком, а потом рекою. И кружила та река по ее следам как кружево, вилась как витьба, изгибалась и выворачивалась коленами да луками. А когда девушка догнала родовичёй, все увидали, что следом за ней по волнам плывет ель-суковатка, соха, по-нашему, и колода-борть, полная меду,— лесные подарки. С тех пор мы, витьбичи, не палим леса, а рыхлим пашню, и она нас кормит. Пчелы нас тоже не боятся: кто найдет в пуще борть, от того они не улетают, а селятся в его колоде и носят ему мед. Здесь наша земля, до нас на ней никого не живало. Полочане сели по Полоти, витьбичи по Витьбе. Так и будет до конца веков. — Дивно,— тихо проговорила Зарислава, почти невидимая в дрожанье углей.— Правда ли все это? — Как знать? — отозвался Братило. И, нагнувшись, подбросил в очаг березовых сучков, чтоб пламя осветило женщину. Княгиня Святохна, тяжело отдуваясь, всходила по шатким ступеням. В старости стала сыра: на погоду ломило, и голос хрип, немощи обступали. ( Стоял октябрь последними днями. В стеклянную < оконницу, перескакивая по мелким кругляшкам, лениво стучал дождь. Сильный ветер разогнал тучи, и вот-вот. должна была пробрызнуть желтая луна, Лолно-лунье. Даровой свет в горницах. Святохна шла и вздыхала. Видбеский замок ветх, бедноват. Воитель Всеслав, муж ее, сколько городов осаждал, сколько земель конем потоптал; в Тмутара-. кань до первых петухов доскакивал; на киевском пре-столе князей рядил... Ныне тишина. Оконницу и ту прислал сын Глеб, князь меньский, когда признал, что родители проведут зиму не в стольном Полотске, а на Витьбе. Как всегда был виноват в чем-то, заглаживал ; вину сыновним ласканьем. Запальчив Глеб и с братьями неуживчив. ...А Всеслав любил здешний град. Может, за то, что добыл его умом у Ярослава-хромца, прозванного Мудрым, отец Брячислав,. чем и указал сыну путь всей жизни: собрать кривские селенья воедино, поставить Русь Великую не в Киеве, а в Полотске! Лежал Видбеск на пути из варязей в греки — не миновать, не обойти кривскую землю! Как песчинки осаждаются у витьбичей в кошелях и серебряные куны и малые веверицы — их отсчитывают сотню за гривну. По большой воде заходят в Витьбу груженые лодьи; на них с вымола катят по настилам загорелые кормчие дежи с зерном, тюки с холстом и шерстью. Город растекается. Уже и в Задвинье, на правом берегу, селились корабельщики-лодейники, делатели Знатные. Много они для Всеслава Брячиславича лодей на Двину поспускали; однодеревок с набитыми бортами, со вздернутым носом, с боками, сведенными по-туриному... А другая слобода в Задвинье — торговых 29 людей из Киева. Здесь они жили и товары складывали. Когда-то, а именно в лето от сотворения мира 6530, а от рождества Христова 1022, в одно время срубили в Киеве на Подоле в начале горы Брячиславов двор, а в Видбеске в Задвинье — Русскую слободу. В знак крепкой связи двух главных городов. А третий город был велик на Руси — Новгород! В Киеве святая София стояла — и Новгород с Полот-ском возвели софийские храмы о многих верхах-куполах из квадратных кирпичей, выложили для крепости плинфами; полотская София строго в меру новгородской. Одно лишь, что в Новгороде храм ставили византийские мастера, приглашены от греков, а Всеслав послал полотских умелых людей, чтоб научились сами не на бересте, на пергаменте позаписывали, локтями и пядями каждый кирпич измерили! —• а потом полочан научили: иных олово льяти, иных крышу крыти, иных стены известью белити, украшать иконами и всякой росписью. Двадцать два года храм ставили, а — давно уже стоит! Длинная жизнь у Святохны. Ныне сын Борис на другом берегу Полоты затеял возводить хоромы с каменной резьбой, с водоводом. Говорит, для князя-отца, для княгини-матери. Придется ли им там жить? Вздыхает Святохна. Пусть строит: Всеславлева чадь велика! Шестеро сыновей, все живы, все на виду. По-дочери тоскует. Едва из детских лет вышла Вееславна, просватали за греческого царевича, увезли за море. Князь-отец не пожалел множества уборов дорогих, цветных каменьев, парчи и всякого узорочья, клади меховой без счета. Лестно выдавать княжну полотскую за сына императора4! Ничем она не хуже Ярославен: а одна из них стала королевой Франции; с другой сыграл свадьбу Гарольд Норвежский; третья же пошла за венгерского короля. 30 Да и замыслы у князя Всеслава были тогда тайные; надеялся на помощь императора Алексия против дядьев Ярославичей — братьев Изяслава, Святослава да Всеволода. А будь ее воля — что в этих расчетах, выгодах? ; Много ли счастья? Не отдала бы дочь в чужую землю, просватала бы здесь, дома, за молодого полочанина, за думца княжьего или за храброго дружинника... Идет Святохна по узким ступеням, бережно несет серебряную сулею с горячим питьем, а сама живет в мечтах. Не этим днем, а всей своей прошлой жизнью. ...Всеслав увидел ее на торгу: покупала три локтя хама небеленого, золотник белил и мыла бургалского да двадцать золотников зеленого шелку, а другие двадцать — червленого... После отца Всеслав князем стал шестнадцати годов, а на торгу ему переступило чуть за восемнадцать. Ехал верхом. Она глаза подняла. Сначала сапог сафьяновый заметила, потом полу плаща на соболях; ветер ее отвернул, мех лоснился... А потом и княжье лицо: щеки впалые, горят на ветру, глаза пронзительные под бровями-коромыслами. Наклонился, спросил смеясь: «Пойдешь за мне?» Застыдилась, уперлась взглядом в землю и скорым шагом побежала прочь. А он не отстает на буланом жеребце. «Никому не обещайся. Ты мне люба». Сказал, а сам на два года отъехал на Змиевы валы в степь (говорят, святые Козьма и Дамиан сковали плуг велик, запрягли поганого Змия, он и проложил те валы), половцев ли отгонять, торок ли? Она не помнит. В отлучке бросал об ней жребий. Тосковал, значит. Но никогда не смела выспросить про ту давнюю ворожбу, боялась его гнева. Все в Полотске знали, что и при рождении его мать позвала волхвов, чтоб родильной рубашкой перевязали язвлено на голове младенца. 31 Волхвы велели носить волшебную повязку во все дни живота его. Он же и носит по сей день. Святохна стукнула в дверь чуть-чуть: у князя слух остер. Взошла с поклоном. — Испей, Брячиславич. Ночь студена. Он сидел за столом при масляной лампе, читал книги в деревянных переплетах с медными гвоздиками, пергаменты, писанные глаголицей. Ношеный плащ, крытый фландрским сукном, на лисьем меху, прикрывал худые плечи. На голове поверх повязки островерхая бархатная шапочка с соболиной опушкой. Сухо-щек. Лицо обтянуто кожей, скулы выдаются. Жидкие усы висят книзу. Из-под опушки — узкий высокий лоб. Но глаза по-прежнему проницательны. Только смотрят ныне помягче, а временами печально. Обрадовался жене, хотя проворчал: — Зачем сама по ступеням всходишь? Холопа можно кликнуть. — Нощь, Брячиславич. Поснули все. — Зандо добра ты сверх меры, Святохна! Княгиню он звал не крещеным именем, а по-старинному. Как и сыновей именовал — которого Святославом, которого Рогволодом, а не Григорием или Борисом. — Мы роду древлего,— говаривал,— нам княжьи имена приличны. Забывать про них нельзя: как тогда родством сосчитаться? Ведь и пробабку звали Рогнедой, а не Анастазией. Народ ее еще Гориславой нарек... Один Глеб упорно твердил, что у него есть христианское имя, и желал, чтоб его звали только им. Для Глеба Всеслав делал исключение. Третий сын удался в него: упрям, изворотлив. Небоязно спорил с отцом, что-де в вере христианской ныне сила: вера объединит русское племя и возвысит умного князя пуще воинских побед. 32 — Людям нужен закон и понимание всех вещей,— говорил Глеб, раскрывая «Шестоднев» с разрисованными киноварью заглавными буквицами, похожими на растопыренных букашек.— А иначе чем ангелы от-че- | ловеков, а человеки от скотов оточтутся? И проговаривал наизусть высоким запальчивым голосом так скоро, чтоб его было не перебить: — Сначала бог сотворил небо невидимое, обитель ангелов, а затем видимое — землю... — Что нам в’ невидимом? — вставлял-таки Все-слав..— Ангельская обитель высоко. Князей заботят дела земные... Но Глеб, яростно шурша страницами, уже отыскивал другое место, где из свойств зверей выводились духовные назидания. Будто бы детеныши льва рождаются мертвыми: три. дня лежит львенок бездыханным, затем приходит лев-отец, дует на него, и львенок оживает. — Так ли? — вновь сомневается Всеслав.— В киевских дебрях я и смолоду на львов охотился, но не слыхивал... — Разве в том смысл, верно или нет? — горячился Глеб.— Здесь следует видеть прообраз смерти Иисуса Христа и тридневное воскресение его. Таковы же по- I учения в рассказах о других животных, числом до пятидесяти. Среди них упомянуты сирена, кентавр й феникс-птица.,. I Но Всеславу были не по плечу сложные мистиче-! ские символы. Смолоду слыл книгочеем, однако мало ли ему приписывали? Лишь на покое стал приобщаться к неторопливой книжной премудрости. Хотел .постигнуть главное: каково место человека в обширном мире? Есть ли связь между великим и малым? Или, ложась в домовину, головой на запад, человек и сам отходит в прошлое, и все" его'Т^ела; 'теряются безвоз-вратно? I 8 Зах, 708 ... 33 Сына слушал снисходительно, но и внимательно; привык с ним беседовать чаще, чем с его братьями; Размышлял про себя: аль впрямь идут новые времена? — Да нет! — перебивал не столько Глеба, сколько свою йодатливость.— Это лишь словеса, сыне. От бра-тоненавидения вера не спасёт, а меч всех рассудит! Но, впрочем, не мешал Глебу поступать по-своему. | Раньше других посадил его на- удел. Старших возил за I собою из похода в поход, из битвы в битву, хотя знал | про себя, что и в сече Глеб погорячее их будет. Но опасался свирепсш драчливости и скрытого коварства I своего третьего сына. Хорошо, если б его мысли пошли по иной стезе: подальше от борьбы за уделы, которая неизбежно начнется между сыновьями, едва он закраёт ! глаза. ; А со старшим, степенным Давыдом, которого за разумность, за уменье ладить с людьми Всеслав посадил на двинский торговый путь в ключевом городе Видбе-ске, беседовал про другое: — Князья, окне, не могут жить одной злобой дня. | Сорвалось у соседа-брата черное слово, и почалась меж I вами неосмысленная брань. Или опутали тебя лестью ] и ты, поддавшись ей, увел дружину в поход, ища ела- I вы, но в ущерб выгоде и прежним планам. Даже пра- | щур Святослав Игоревич, хоть и имел великий замысел поставить серединой Руси Дунай, часто от того замысла сворачивал. И сего не добился! Нет, не смиряйся с тем, что дается легче. Иди за единой целью. I Отправляя сыновей по городам, Всеслав напутст-вовал: | — Пока будете смотреть моими глазами, не научи- | тесь упра&й^'ь событиями. Мужами становятся не по возрасту, а лишь один на один с жизнью. Святохна слушала мудреные разговоры вполуха. Ученостью не утомлялась. Из всех книг держала при себе лишь гадательную Псалтырь. Каждая песнь царя 34 Давида снабжена была в ней подробными приписками.; когда, при каких жизненных обстоятельствах советуется читать тот или другой псалом. И она старательно по складам разбирала кириллицу, вкладывала в туманные фразы свое собственное желание, чтоб все наконец устроилось к лучшему! В семье был бы лад: невестки оставались бережливыми; сыновья не . буйствовали; внуки росли разумными и пригожими... Из всех ее внуков лишь любимица Пределава, Святославова дочь, еще совсем малютка,, одна и сидела возле бабушки смирно, слушая распевное чтение. Она уродилась девочкой трепетной; вскрикивала от любого стука и помнила поутру ночные сновидения. Малая и старая одинаково замирали, узнавая о стойкости героев веры — мучеников, столпников и пустынников. Свя-тохна никогда не сомневалась в этих историях. Они были для нее так же верны, как и существование домовых, что скребутся в подполье к переменам. Кривекая земля издревле полнилась чудесами. Слишком много по глухим пущам, на болотных островах, окруженных трясиной, потайных укромных мест — если не там водиться, то где же? К речным бродам,, куда сходится народ, выползали из леса и слухи: вон что приключилось, люди добрые! Челнами, на плотах, в лодках развозили слухи по Руси. Даже монах-летописец, сидя в Киеве, в безопасности, доверчиво заносил их на погодные листы. «Мол, в лето от сотворения мира 6600 было в полотских пределах чудо: в ночи тутоны, сиречь диаволы, являлись яко человеки. на улицах. И была в то лето сушь великая, от чего земля горела. И многие люди по всей русской земле умирали разными болезнями...» А что случилось сперва, что вослед — писец не доискивался. Ужасался ■— и только. Но — странно! -— самих кривичей дива-дивуые как бы и не изумляли вовсе. Они привыкли ходить огляд- г .35 чиво, жить приметливо. От отчичей и дедичей знали время, когда господыня-лихорадка поднимается туманом — и обходили болото стороной. Пуще глаза берегли огонь! В лесном краю он и страшен и необходим: без пала не расчистишь елань под. пахоту; в глухую ночь охотник от зверя лишь головней отобьется; вьюгой избу чуть не с коньком заметает, но коль в печи горит огонь — ничего, перезимуем! На огонь кривич не плюнет — желвак вскочит, соседу лучину запалит без охоты — свой очаг не гаси! Когда пришли греческие монахи, они стыдили и корили за суеверное язычество. Кривичи довольно легко отказались от деревянных Перуна и Стрибога, вздохнув обещали позабыть светлого Даждьбога, посбрасывали на речное дно их изображения, перепахали поляны-капища. Боги эти были всегда важными господами; даже жили неведомо где — одни и. на Литву и на Русь. А домовой, гуменник, лесовик, дева-бёре-гйня — те рядом. На плохое не склоняют; стерегут дом, хлев, источники; учат человека соразмерять желания и поступки с необходимостью. Так понимала и добрая христианка Святохна. Противоречий же в своих верованиях не искала' и не видела. Досадной казалась ей всегдашняя усмешка Всесла-в’а! Небрежность, с которой он отодвигал женин подарок— заново переписанный, полотским грамотеем «’Избор» евангелий. Зато любопытствовал князь толкованиями пророчеств Афанасия Александрийского и Феокрита Кир-ского, Может быть, оттуда, желая предугадать судьбу своих замыслов — воздвижения Полотской Руси? Душа Всеслава не унималась с годами; мирское он ставил выше божественного. Прищурившись, вглядывался в жену сквозь полумрак горницы. Пошевелив пальцами ломкий пергамент, отодвинул книгу грека Георгия Амартолы, иначе Грешника, перекладенную на русское письмо еще при Ярославе Владимировиче — он собрал тогда многих писцов в Киеве при храме Софии,— а поближе к свету подложил другую, победнее окладом, посвежее красками, да еще свиток, скатанный в трубу. — Сядь. Дай сулею. Послушай словесы прежних лет. Она поспешно присела на резную лавку, прикрытую ковром. Большая была охотница до родовых историй! Сама многие знала, но особенно нравилось ей слушать, как читает князы торжественно, хотя и не всегда ясно — с годами стал пришептывать, глотать слова. Читал он не про Троянскую войну — бог ведает, где та Троя? — не похожденья грека Зосимы в поисках земного рая — ах, и в раю без милых сердцу скучно! — а про понятное, свое, русское. Как Кый, перевозчик через Днепр, поставил первую избу на высоком берегу, где бысть граду Киеву. Про его потомков Оскольда и Дира, которые «полочан воевавша и много зла им со-твориша». Про славного Рюрика — печатку с его знаком, перевернутым месяцем над двузубцем, Всеслав и посейчас в перстне носит! . Рюрик посадил на кривскую землю,— защищать ее и города рубить,— Рогволода, пришедшего с ним из заморья. А тот Рогволод — отец злосчастной Рогнеды и пращур самому Всеславу. Нет, недаром род человеческий уподобляют дереву! Ветвь за ветвью отделяются люди от общего ствола. Далеко расходятся в жизненном поднебесье друг от друга. Но если понадобится выведать начало, непременно от верхушки спустятся назад, к корням. И странно звучащие, позабытые имена, как наивные и грозные тени, плотно обступят потомка. Давно схоронены в земле, сожжены на погребальных кострах их тела, но от 37 каждого сохранилась^ для будущего живая частица. Где она? Да в тебе самом! Если б было кому свидетельствовать, то оказалось бы, что густая смолоду копна белесых волос у Всеслава от варяга Рогволода. А монгольские скулы передал безвестный кочевник, схваченный некогда богатырской заставой в приграничной степи; тому обру или печенегу внукой стала Малуша, про которую узнаем далее. ...Была ли княжна Рогнеда Рогволодовна пригожа лицом — неведомо. Летописец не сообщает. Знатным достаточно горделивой осанки. А что гордячка, про то летопись не лгала! К ней, богатой наследнице, сватались оба Святославичи, сыновья разных матерей, ненавистники друг другу. Ярополк, старший, княжил тогда в Киеве. Юный Владимир получил от отца Новгород. Ему матерью была не белолицая боярышня, а девка-чернавка на побегушках, с годами возвышенная до ключницы у княгини Ольги; под конец и вовсе сама себе госпожа, владелица лесов и пахотных еланей обильного села Будутина, что под Киевом. Во все дни жизни Всеславову пращурку обороняла от обид твердая рука брата. Добрыня, как и Малуша, прошел извилистый жизненный путь. Младший дружинник, а затем воспитатель Владимира и новгородский посадник, он стал так силен, что князю впору!. С него пошла особая посадническая династия: Изяслав наследовал Ярославу Мудрому в Киеве, а Остромир, сын Добрыни, князю Владимиру в Новгороде! Тот же, с дядиной помощью изведя брата Ярополка, сам занял великокняжий стол. Старый Добрыня не расставался с племянником. Он ездил сватать Рогнеду. Надменная девица ответила, что из двоих выбирает Ярополка, а не рабичича, сына рабы —и кровь, бросившаяся Добрыне в лицо, чуть не задушила его яростным гневом! Он склонил Владимира к ужасной мести. Набрав большое войско из новгородцев и чуди, скорым маршем пошли к Полотску,. заво- 38 евали его, в поединке Владимир убил Рогволода с сыновьями, а Рогнеду взял силой... . Замирает Святохна, слушая дивную повесть. Смотрит безотрывно на склоненное лицо Всеслава; губы сжаты, . брови насуплены. Обидел прадед Владимир пробабку Рогнеду! Изяслав Владимирович, Всеслав лев :дед, должен был наследовать киевский престол, как старший в роде, а не Ярослав, прозванный Мудрым... А всего-то для опальной жены срубил тогда князь Владимир мал городок Изяславль да вернул отчую цолотскую землю. С того пошла вражда между Яросла-ричами и'Изяславичами. — С того, ан и не с того! — непонятно восклицает Всеслав, стукнув сухой ладонью по написанному.— Изначала не данниками полочанам надлежало быть у .Киева, а своим умом держать путь из моря Варяжского в землю греческую. На то Торопец стоит у волока и Видбеск на Двине! И язь чужих земель не искал; кривичей в обиду не хотел отдать, как их природный князь и защитник, Он отталкивает с досадой пергамент. Свиток сам собою сворачивается, будто летописец мертвой рукой хочет унести обиженное написание... Святохна суеверно перекрестилась. Всеслав перевел на нее пылающий взгляд, вернув его из темноты пространства, куда глядел, уставясь в размышления, и чуть усмехнулся из-под низких усов. — Ступай, Святохна. Ан и кур близко прокричит, путь великому Хорсу укажет. Спи, моя люба, А язь * тут, на лавке лягу. . От его голоса радость проходит по старому сердцу Святохны. Для кого воитель, немилостливый на крово-пролитье, для кого чародей, волком перерыскивающий дорогу,— как' в стольном Полотске позвонят к заутрене, так он услышит тот благовест в Киеве! — а для нее -муж верный, лада единственный, ни на кого ее- не-про- 89 менявший. Сколько их старалось! Нарумяненных киев- ] лянок, что завлекают бойким стуком сафьяновых каб-лучков. Тмутараканских дев в шелковых исподних сорочках, с ленивыми движениями и насурмленными веками.. Иные не брезговали даже смуглыми берендей-ками, крсы которых гуще лошадиного хвоста, А он все возвращался к жене, к сыновьям, презрев, сладкие посулы. От дверей она оборачивается, украдкой смотрит на щуплую фигурку под выцветшим суконным плащом, на склоненный затылок с лежащими по плечам волосами, и с нежностью повторяет про себя: «богатырь!» — Богатырь!— кричал о нем люд киевский тридцать лет назад, волнуясь и кипя, подобно пене, у княжьих палат, где, затворившись, сидел Изяслав Ярославич, только что бесславно бежавший из половецких степей от Шарукана. Тот Шарукан близко ; подошел: кибитку поставил вплоть к земле русской! А как катилась его орда по степям, гнедые туры в страхе бежали от моря Сурожского до самого Киева. Не видно стало золотого светлого месяца от духу половецкого, пару лошадиного. Разбитые отряды в стыде и гневе стекались к Киеву; их следы на левобережье уже затаптывали копыта степняков. Валили вину друг на друга, а более — на князей. Святослав, не дойдя до Киева, поворотил на свой Чернигов. Был он отважен и честолюбив. более братьев; его приказы не сходились с Изяславлевыми. От Чернигова он отбил половцев с большим для них уроном. Всеволод же последовал за старшим в стольный город и поддался той же растерянности: оба брата сидели на княжьем дворе, не скликая даже дружину, то ли наде- 40 яеь на высокие валы и стены, то ли ожидая, что половцы наскучат рыскать окрест и уйдут сами собой? Кияне' собрали на торжище вече: как дальше быть? Хоть и сила есть, так оружья нет, все побито и брошено. Подступили к Изяславлеву двору. Дай нам, княже,; луки, копья, булавы и топоры. Дай нам коней. Растеклись по нашей земле половцы, и хочем еще биться с ними! Но Изяслав —: словно разум у него отняло на то время!— так оскорбился своеволием, что лишь крикнул сквозь окно: расходитесь, мол, не вам-де решать воеводские дела. Еще пуще заволновалась толпа. Тогда еще не установилось окончательно — кто для: кого? Город ли зовет князя по своей воле? Либо князь правит городом самовластно и наследственно? Горожане думали так, а князья по-своему. Другие города часто изгоняли одного князя и просили себе другого, а бывало, раскаивались и мирились со старым, посылая ему грамотку: «Князь наш. добрый! Если ты позабудешь все и поцелуешь к нам крест, то мы твои люди, а ты наш князь». Но в стольном Киеве открытая брань случилась впервые. Стал слышен ропот, что нет у Руси защитника и богатыря, кроме Всеслава. А его в порубе держат.,. Громче всех шумели полочане, купцы и их работники, странствующие люди. — Пойдем выручать дружину, полоненную при Не-миге-реке! Спасать храброго Всеслава! Обманом его захватили злые Ярославичи. Избавим обидимого! — Избавим!—дружно отозвались кияне. Они-то хорошо помнили, как в брани Всеслав быстр и силен! Как восемь лет назад шел, еще в согласии с дядьями, на пограничных торков. Неутомим в сече; обгонял всех, скачучи по дикому полю за бегущим врагом. И которых из торков тогда побили, которых приве- ли в плен и осадили на Руси. Остальные же сами пропали в степях от стужи и мора... А ныне, плененный и униженный, сидит он уже тринадцать месяцев в киевской темнице, с двумя сыновьями. Все на ту пору позабыл народ!. И что перед тем осаждал Всеслав Псков и Новгород, желая: отбить от Киева, а когда не приняли его те города, как своего князя, в досаде либо от удали поснимал со Святой Софии колокола с паникадилами; многих : жителей посулами, да неволей погнал на житье в полотскую землю — заселять дебри. Велика была беда в тот час! Дядья разбили его на реке Немиге, разоривши в отместку город Меньск, люд которого заперся за стенами; Сто лет песни будут петь про кровавый снег на берегах Немиги! Что-де снопы там стелют головами, веют душу от тела.*. Прошла зима,, и в июле месяце Ярославичи послали . звать племянника на переговоры. Крест целовали:' «не сотворим ти зла!» Умен-то умен Всеслав, а поверил. Вспомнил, наверно, как Ярослав Мудрый позвал отца его Брячислава, простив набег на Псков, иначе Плесков, от плеса или плесканья названный. (Тот Плесков оба считали спорным городом: киевский он или полотский.) Позвал и отпустил с честью, отдав навсегда Свячь и Витбеск, кривские города, что жили под Киевом. «Будь со мной заодно»,— сказал Ярослав. И Брячи-слав не нарушил мира. Из трех Ярославичей самым коварным прослыл Святослав Черниговский. Шел слух, будто бы именно по его наущению согласились два других брата- таййо отравить племянника Ростислава, изгоя, по старинному обычаю лишенного права на удел. Но Ростислав не согласился с обычаями, самовольно сел в Тмутаракани, и три года не могли его оттуда выгнать. Теперь второго беспокойного племянника, Всеслава Полоцкого, решились дядья 42 заманить и обмануть на крестном целовании — це слы-ханное до того дело! Когда Всеслав переплыл Днепр под Оршею и вошел, не таясь, со старшими сыновьями в белополотняный шатер князя Изяслава, тот крикнул страже, чтоб схватила их. А схвативши, отвезла в Киев, замкнула в по-рубе. Всеслав сидел в порубе смирно, только скулы его . обтянуло еще туже, да глаза опускал чаще, чтоб не было видно мимоходящим, как они зло сверкают, когда узник выглядывал в тесное оконце. Неотступно грызла дума: неужели своей простотой погубил он сыновей, и себя, и княжество, и замыслы великие! Но никогда злосчастья не приводили его до конца в уныние; среди жестоких бедствий, на которые щедра судьба, он оставался волею тверд; Поэтому, когда зашумело по Киеву восстание — был он аки пардус, готовый к прыжку. Волна народная потекла к усадьбе воеводы городских и сельских полков Коснячка с громким. ропотом, что-де его беспорядочным предводительством они и побеждены от половцев. Со всех сторон раздавались укоры: «Ты ешь тетеревов, гусей, рябчиков, кур, .‘голубей и прочее кушанье, а убогий хлеба не имеет, чем чрево насытить! Ты облача ешься и ходишь в мехах, а убогий рубища не. имеет на теле! Се дом хищника, разорим его!» Коснячок испугался галдящих вуев, велел сказать, что. нет его. Засел в подполье. Покатилась толпа к подножью горы на Брячиславов двор, и опять громче.других кричали невеликие числом полочане,. стремясь не-упустить смутного дня: мол, скорее надо невинно: содержащегося Всеслава освободить из заточения и, как искусного, .в воинских делах, отправить против неприятеля. 43 Шум и гам переместились под окна Изяславлевы. Сам он сидит, затворясь в сенях, слышит,, как уже в голос говорят, что пора-де Киеву искать другого князя. — Видишь,— шепчет ему ближний боярин именем Тука,— что люди взвыли? Вели, чтоб чародея Всеслава крепче стерегли. Но уже летели ворота темниц, камнями сбив.али затворы. Недалеко и до Всеславлевого особого терема. Видя то, спешно принялись бояре советовать Изяславу: —• Разреши, князь: подзовем проклятого полочанина хитростью к окну- и заколем копьем, пока не поздно! — Нет,— отвечает бледный Изяслав,— не хочу быть убойцем. Хоть ума простоватого и неосторожного — совету , других последуя, престола два крат лишался! — Изяслав Ярославич не забывал вместе с тем, что он. старший в роде и имел обязанность блюсти общие выгоды, думать о русской земле и чести всех родичей. Не был он убежден до конца и во враждебности племянника. Сам же явно виновен перед ним ложным целованием. А того уже вывели из тюрьмы. С превеликим торжеством поставили на середину княжьего двора, как велел обычай, объявили новым великим князем. — Хочем тебя, богатырь! Так Рогнедин внук вернул ненадолго первородное дедовское право. Но радостной слепоты не было в его сердце, И о киевлянах он думал плохо. Освободив его, бросились они с легкостью грабить Изяславлев двор, растаскивали со смехом и жадностью золотые монеты, серебряную посуду, куниц, белок, словно позабыв уже, что гнев их вызван утайкой платы и кривым судом, а не одной запальчивостью. _ . .. 44 Всеслав стоял в стороне: наблюдал, обдумывал; Видел, как с заднего крыльца ускакал князь Изяслав с братом Всеволодом,— и не преследовал их. Чем больше другие пьянели от своеволия, тем он становился трезвее. Сыновья удивлялись: разве не сбылись, как по волшебству, все честолюбивые мечты отца? Разве не добыл он себе и им великокняжий престол? Всеслав качал головой, молчал загадочно. Один только раз обронил сдержанно, что время сейчас думать не о Киеве. и не о Полотске. а обо всей земле Русской. И когда утих вокруг первый хмель вольности, повел себя как полноправный князь: мирил неспокойных, наказывал строго, разумно. Иногда взыскивал за старое, чаще прощал. Мстил или научал — смотря по нужности. За неделю собрал рать, стремительно повел ее по следам откочевавших в сторону Тмутаракани половцев. Явился под городские тмутараканские стены, когда жители еще спали: солнце не всходило, рассвет не начинался. Узкое горло Сурожского моря, называемого греками Меотийским болотом за мелководье и мутность волны, лежало в сей час перед взмыленными всадниками точно тихое прекрасное зеркало. Как было поверить жителям, проснувшись, что скакали Всеславлевы стрелки без устали на сменных конях по сто двадцать верст за день? Легче довериться молве: чародей, мол, оборотень! Не человеческим шагом — волчьим скоком поспешает; махнет рукавом — и войска у него без счета! Но сам-то Всеслав знал, что его разномастная дружина сильна дерзостью, не числом. Хотел было поискать наемников, как принято, в племенах Северного Кавказа, раз уж он тут очутился, но не стал задерживаться. Вернулся в Киев. Выжидал. • • .Великого княженья его и было всего, что с сентября 1068 года по апрель 1069 года. По весенним просыхающим степям уже подступил Изяслав с польскими войсками короля -Болеслава, же- 45 натого на Вышеславе Святославовне, племяннице. Выл тот Болеслав сластолюбив, обжорлив, тучен — на коне сидеть мешало ему- толстое чрево! Однако храбр, драчлив, в боях удачен. Всеслаь'еще вышел навстречу польской рати под Белгород, но без души, как-то вяло, будто и не хотел защищаться. И ночью, ' тайно' оставив стан киевлян, ускакал к себе в Полотскую землю. ...Два лета проплакала княгиня Святохна на городском валу; не зная^ в какую сторону и смотреть, ибо лада-князь, случалось, уйдя на восход солнца, возвращался с заката. После разлуки все видится острее: она нашла в его кудрях участившуюся седину, • а он заметил, что лицо ее отцвело, хотя тело оставалось по-прежнему прекрасным — словно молоком облито! Й вся она была ему родна, * желанна, подобно теплому хлебу пшеничному... Свиданье оказалось недолгим. Передышки не дал бросившийся в погоню сын Изяслава. Всеслав, не успев приготовиться к обороне, подался дальше на север и нашел убежище в вотской пятине, у податного Новгороду племени вожан. Там охотно приветили опального храбреца, чтя вещую душу в дерзком теле... А в Киеве шли казни. Расплачивались те, кто вывел Всеслава из поруба, числом семьдесят: невинные Овинными от ярости погибли! Полотск же грабили по очереди временные его князья Мстислав и Святополк Изя-славичи... Всеслав не бездействовал. С обычной расторопностью набрал новую рать, осадил в Новгороде юного Глеба, сына Святослава Черниговского.* Покорного' юношу сажали то на место отравленного Ростислава в Тмутаракани, то велели-держать Новгород, смотря куда вели отцовские планы. И между Ярославичами уже затевался кровавый спор Г Всеслав вошел в Новгород- со- стороны Кузнейной 46 слободы. Держал себя на этот раз осторожно; никому не угрожал, красноречиво напирая на справедливость своих исканий. Он, дескать, за то, чтоб Полотск и Новгород стояли не ниже Киева. А если в запальчивости и обидел кого, то оттого лишь, что ждал понимания своих замыслов от псковичей и новгородцев. У одних как их природный князь, а у других как естественный союзник и родич: ведь из трех первоначальных поселений, что, слившись, составили. общий новый город — отчего и имя ему Новгород,— одно принадлежало кривичам. Всеслав, как многие одержимые люди, строил свои умозаключения неравноправно. Сам гордец, он не принимал в расчет чужую гордость, словно ее* и не должно было существовать вовсе. Поэтому надежда привлечь сердца легендой о древней кривской слободке или напоминанием лишний раз о зависимости Господина Великого Новгорода, о его вечном споре с Киевом — нет, это был неверный ход! Новгородцы поморщились и надулись, глубоко уязвленные. Всеславлевы слова пролетали отныне мимо их, не задевая. А потом и вовсе толпа на Кузнейной площади стала редеть, таять, как-то исчезать сама собою, растекаться малыми ручейками по переулкам. И вот уже Всеслав очутился один посреди понурой дружины. Он мог бы даже показаться смешным, обращая словеса к камням и стенам, если б лицо его не оставалось неукротимым и растерянности не читалось в сжатых губах. Злоба против новгородцев не поднялась в нем, не подвигнула на безрассудства. Если и заключалось в нем чародейство,— то было чародейство великого ума. Увлечься он мог при удаче; при неудаче видел события такими, как они есть, И отступился. Уважение к беглому князю новгородцы выразили тем, что дали ему уйти невозбранно. И вновь Всеслав перерыскивал серым волком Русь из конца в конец! Напрямик, через половецкие степи,. 47 куда крещеный человек и сунуться бы опасался. Ре- • шил пересидеть недолгое время в Тмутаракани, на острове, созывая отовсюду новых удальцов: он был щедр, к нему шли охотно. — т ' Менялось военное счастье; едва выбил из Полотска | Святополка, как третий сын Изяслава Ярополк разбил ; | его под Голотическом в тридцати двух верстах от Моги- . 1| лева, подначального Витбеску города... Так оно и шло; брань не утихала, кровь русская лилась, костями поля засевали. Пока не начал состарившийся Изяслав Яро-славич переговоры уже без обмана со своим непобежденным племянником. Ведь и Всеслав стал не молод. Твердо знал, чего хо- о |ч тел: не славы себе, не киевского прёстола, а чести и спокойствия кривской земле: и Полотску, и Меньску, и Витбеску, и всем другим городам и весям... Замириться с Изяславом помог сын Глеб — отец в молчаливой благодарности оценил его дальновидность. Дочь Ярополка, победившего Всеслав а, была просватана за Глеба Всеславича. Она только что родилась, и новорожденная стала уже невестой. Однако Глеб не отступился от помолвки, дождался ее возраста и женился, хотя Изяслав с семьей вскоре был вновь изгнан из Киева и долго бедствовал, йща пристанища то в Польше, то у немцев. В Киеве же сел сначала Святослав (он убедил брата Всеволода, что Изяслав ведет тайные переговоры с полотским чародеем, пугал, что-де «намерены нас лишить данных от отца владений!»), а после его скорой смерти ему наследовал Всеволод, последний Яро-славич. Нет, не пересказать всей жизни! Не припомнить ее даже — так была суматошна, кровава, безрадостна. Уж и новый противник Всеславу подрос, * возмужал — Владимир Всеволодович Мономах. С черниговской конницей разорил он Лукомль, Логойск и Друцк, через несколько лет подступил к Меньску и не оставил там 43 «ни челядина, ни скотины». Всеслав то нападал, то оборонялся. Но с годами утих, сидел мирно, лишь издали наблюдая распри следующего колена Ярославичей: как Мономах гонялся по всей Руси за Олегом Святославичем, что вошел в союз с половцами; как вернулась со скандальной славой Всеволодова дочь Апракса, бывшая женой императору Генриху Четвертому. А с какой помпой уезжала: шел за ней караван верблюдов, груженный роскошной одеждой,.. Всеслав усмехнулся; сам он был не прихотлив. И вдруг поймал себя на мысли, что думает о себе как бы в прошедшем времени. Но в этом новом ощущении уже нет горечи, словно жадность к бытию прошла сама собою, источилась по каплям. Многогрешная шумная жизнь прокатилась под его ногами, подобно двинской волне. Иные волны теснят ее теперь с молодым напором... «Ах, видел он теперь, так отчетливо видел, когда бывал прав, а когда ошибался в борениях своих и в неуемной непоседливости. Время просветляет в памяти то, что совершалось впопыхах и как бы слепо, и покрывает тенью забывчивости некогда яркое — ибо всему приходит в старости истинная мера! Не познал он, жадный до мысли, и тайну бытия. По-прежнему оставалась она сокрытой от него, как и от других сынов адамовых. Одно понял твердо: ждущий никогда не дождется! Только действовать». А осенняя ночь все длилась и длилась. Скучая бессонницей, со скрипом распахнул Всеслав оконную раму. Порыв сырого ветра налетел из-за стены, сдвинул бархатную островерхую шапку. Вновь нахлобучивая ее, привычно ощупал волшебную повязку — на месте ли? — и хоть за долгую жизнь разучился чему-либо верить, держал это про себя. В памяти людской считал 49 полезным остаться таинственным и всесильным кня-зем-чародеем, прозванным Волком Всеславичем... . > Запахнувшись поплотнее,. Всеслав смотрел на ночную Двину. С этой рекой были связаны самые важные его замыслы. Если он и отвлекался на другие, порожденные самолюбием и страстями, то все равно —частичка его бессмертия будет пребывать именно здесь. Мысли его постоянно возвращались к великой водной жиле. «Ах,. Дуна, Дуна»,— проговорил он растроганно, называя ее римским именем, словно этим одним раздвигая пределы течения, а с ним и пути русские. Труд жизни был окончен. Пусть другие, идущие вослед, сделают больше, Всеслав умер 14 апреля 1101 года. Набатное утро Душным июньским вечером 1240 года вечерняя трапеза в доме богатого витепского купца и ру-коумельца-кожемяки Олексы Петриловича запа-К здывала. Ждали старшего сына Грикшу с вестями из Новегорода. Олекса Петрилович посылал верхового слугу Ретешку навстречь, вдоль берега Двины, и тот, прискакав, сказал, что лодья при слабом ветре уже идет по излучинам на веслах. Дневные часы, исчисляемые на Руси от восхода и ■ до заката солнца, подходили к концу. Вот-вот должен был начаться новый счет — ночной. Время вокруг стояло неспокойное: будто занесенная секира над каждым! Слухи шли скорее преуменьшенными, чем преувеличенными, и то их не вмещали уши. Человеческий разум так устроен, что обороняется от плохих вестей доколе это еще возможно, стараясь сохранить видимость прежнего. Божьей милостью, или по другим причинам, Витебск оставался пока в стороне от кровавых дорог, проложен^ ных многоплеменным войском, которое катилось от низовьев Волги и дошло потом до Силезии. Оно закре-т пило за собою на Руси название татар. За десять лет было уже известие, что, теснимые татарами, половцы бежали к болгарам. А потом и толпы волжских болгар, спасшихся от истребления, просили у-рязанского князя Юрия мест для поселения. Русские . княжества всегда испытывали недостаток в жителях; пришлых брали охотно, лишь бы осаживались на земле, возделывали пашню. Но отсрочка оказалась слишком мала. Уже-в следующем году, пройдя с востока лесной стороной, орда надвинулась и на Рязань. Свирепые видом воины с приплюснутыми носами и выдающимися скулами потребовали полного подчинения, а также десятинной дани: десятого коня белого, десятого коня вороного, десятого бурого, рыжего и пегого. «Когда никого из нас не оста^ нется, тогда все будет ваше!» — ответили рязанцы. Гордые слова обернулись зловещими. Потрясенная Русь успевала лишь считать сожженные грады. Мужествование никого уже не спасало. Иные, как Козельск,— имя которого татары избегали произносить, а называли обиняком «злой город»,— пали до последнего человека;' их малолетний князь будто бы даже утонул в крови. Пощады никому не оказывалось; «плод пощады сожаление» — говорил еще Чингизхан. Батый не дошел ста верст до Новгорода: новгородцев заслонило раннее таяние снегов, непроезжие по весне дороги. Свернув к восточным окраинам Смоленских и Черниговских земель, а затем в южную степь, Батый тритьежды спугнул половцев — на сей раз они бежали в Венгрию,—й после осады взяли Киев. Сила орды была так велика, что войско с обозами протянулось на двадцать дней пути, а киевляне за городскими стенами не’слышали друг друга от шумного скрипа телег, ржанья лошадей и рева верблюдов! (Правда,-сказывают, иногда сажали татары в седла и чучел, чтоб казаться поболе числом...) Узнав о падении Киева, Олекса Петриловйч только. горестно вздохнул. Давно не был он уже тем могучим и. богатым местом, куда съезжались купцы, чтоб на восьми шумящих рынках продать и купить товары, а князья рядили оттуда- русскую землю. Теснимый то степняками, то литвой, Киев хирел; Владимиро-Суздальские великие князья не захотели в нем княжить, и от всего многолюдства оставалось ныне едва ли две-три сотни обитаемых домов... Лишь подплывая с Днепра и расплывчато видя сквозь цветной туман беленые стены и церковные маковки, Олекса Петрилович мог вообразить Киев старых времен, подобный граду поднебесному. Когда золоченые храмы его были полны, а возле икон теплились алые и зеленые огоньки. Теперь потухшие лампады со звоном лопались под копытами, •54 мбйаика сыпалась со стен. Невообразимо знать, что богатое умельство сокрушено и бесполезно растоптано!' Вставая по утрам, солнце приносило с востока худые вести. Но и закатные межи не обещали покоя. Литва не раз уже подступала под соседний Смоленск: великий князь Владимирский Ярослав отгонял ее с напряжением. В Польше свирепо дрались за власть Владислав Лясконогий с племянником Одоничем. Братья-князья Лешко Краковский и Конрад Мазовецкий держали руку Лясконогого, но Конрад сам много терпел от по-; граничного племени пруссов. Был он так беден, что од-нажды зазвал на пир своих бояр с женами, а потом отобрал у них коней, снял парадное аксамитовое платье и тем откупился от прусского набега! Конрада можно было бы не' брать в расчет, если б он не увеличил по недомыслию число врагов: думая защититься от пруссов, отдал замок Добрынь палестинским рыцарям. Те пришли с жаждой крови во славу кроткой девы Марии и со своим до крайности суровым уставом, который ожесточил им сердца (« ты должен отречься от отца, от матери, от сестры, и в награду за это орден даст тебе хлеб, воду да рубище»). Как некогда сарацин, стали истреблять пруссов: тевтонский орден наступал бесконечно, ряды его пополняла вся Германия, а силы пруссов иссякали... Не сегодня-завтра крестовые рыцари станут искать новой поживы. Олекса Петрилович был человеком многоумным, в голове держал не одни свои кожи. Да и торговля его была прямо связана со всем, что случается в мире. Он старался обо всем проведать вовремя. Знал поименно тиунов на волоках. Зато его лодьи и тянули на катках-колах от воды до воды вне череда, .раньше гостей немецких, хотя это было и противу правил, потому что по договору 1229 года между Ригою, Готским берегом и Смоленским князем Мстиславом Да- 55 выдовичем — а. он отвечал равно за полочан.и россиян витебских,— чтоб не было в будущем разлюбья, немцам указывалось кидать жребий: кому идти наперед. А русскому гостю идти назади. Однако в том ум торгового человека, чтоб исхитриться для своей выгоды, попасть повсюду первым, не платя за то пеню, а пользу получив! От.сына Олекса хотел знать про здоровье новгородского князя Александра Ярославича. Недавно его молодая жена, витебская княжна Парасковья, гостила у матери с первенцем княжичем Василием и Олекса Петрил ович был рад, что доброе семя умножается! , Александра Ярославича Олекса уважал. Не будь в Новгороде такого твердого умом и удалого на руку князя, псы ненасытные — рытори закрыли бы мечом путь к морю, русскую водяную фортку,— как й-в витебской стене есть такая .фортка .возле наугольной башни именем Духовской круглик, где стена поворачивает на север,— а что тогда останется делать им, торговым людям, да и всему Витебску?! Будто жилу резали. Сейчас в Новгороде шатко... Потому и вслушивался Олекса. в шум чужих шагов по сосновым плахам, которыми прикрыта вблизи его усадьбы мостовая: не Грик-ша. ли? Оленица, сноха, тоже то бледнела, то тихо ойкала, если ей чудилось его-.приближение. Только младшие сыновья Онфим и Потра с голодным нетерпением топтались у порога, поглядывая на пустую мису, возле которой лежал сухой черпак, да ложки — у кого белые, струганные, а у отца рисованная, круглая, с узорами и травами по вызолоченному фону. Ту ложку он привез из приморской земли с готского берега, как подарок от Регембота-горожанина, в доме которого заключил выгодную сделку с Еганом Кинотом, что прибыл из города Мунстера, да с Тонлиером из города Южаты, он же Данцыг. бб Еган ему поднес тогда в знак приязни кубок шкля-ный, венецийский, оправленный серебром, и дно в нем серебряное. * Олекса тоже щедро одарил готских купчин: кого шапкой бобровой, кому дал для жены серьги с зернью, тонкой кузнейной работы с надписью витьбического мастера Косты, ценою до десяти гривен с куною; кого своим собственным издельем — мягкими туфельками для дочери-невесты, прошитыми блестящей бронзовой нитью. Изрядно захмелев, Еган и Регембот поносно ругали божьих рыторей, что сидят аки бешеные псы по ливско-му берегу в крепостях; крестят не перстом, а мечом, избивают людей, жгут посады и тем буйством и кровопролитием загораживают путь честным купеческим лодь-ям, полным товару и приветливости... Тонлиер, робкий толстяк, поминутно обтирал лоб шелковой тряпицей и пугливо озирался: у них, в Южа-те, папская рука сильна! «Сказывают,—-шептал он, присвистывая щербатым ртом,— что папская курия вскоре положит договор меж собой и ордою, чтобы всех русских крестить католическими именами, ибо страна греков, их церковь вернулись почти полностью к признанию апостольского креста, и то заблужденье, что ныне часть не соглашается с целым...» Хмельной Летрилович, разъярясь, прервал его шепот и гаркнул — так, что мигнул свет в розовом колпачке поверх восковой свечи,— что не бывать тому! Русским паче живота дорога вера и честь, и есть у них защитник, молодой князь в Новгороде Александр Яро-славич. Он-де его хорошо знает, тот князь — зять Витебску;. старшая княжна Брячиславна пошла за него летось, и он, Олекса Петрилович, удостоен был есть брачную, кашу в Торопце за нижним гостевым столом. — О, Торопец! защелкали языком' купчины и, уходя от опасного разговора, стали вспоминать, как то- ропецкие волочане в порядке и без лихоимства тянули | их груженые лодьи на колах посуху до Двины. ; Олексе Петриловичу еще хотелось порассказать про ;] брачный пир и честную икону. византийского письма, ■ | которую на такой случай везли издалека, чтоб благосло- V вить молодых. И каким показался, ему сам жених: хоть I р ростом не дюж, да грудь широка под княжескими золо- . Ь чеными латами, волосы черны и прямы, борода корот- И, кая, зренье острое. Слышно, что князь был читатель | книги и вельми памятлив на них; про то, что было дав- | но, мог рассказать, как по-написанному... [: — Отче! То Грикша прибыл! — взвизгнула Оленица, I Ветер пошел по избе от разлетевшегося в беге сара- Р фана — так метнулась к двери, чтоб поскорее увидать , I мужа; на людях низко поклониться, а в сенях жарко 1 прильнуть к нему. Олекса чуть сдвинул брови, потому что хоть и пони- | мал женское нетерпение, но и сам был сейчас нетерпе-лив на новости. Однако промолчал, только кивнул на стол жене, отершей радостную слезу. при виде стар- Г шего сына — такого румяного,.. статного, с кудрявой молодой бородкой и волосами поперек лба, чуть' по- I темневшими от пота; спешил в гору от дальнего вы* |; мола, где пристала лодья. I Все сели за стол, покрестясь. Олекса резал каравай, | раскладывая ломти по чину: троим сыновьям, невестке, | дворовым людям: слуге Ретешке, да Лихачу с Полюдом, | кожемякам, да Матвейцу-скотнику, да девке-холопке. ^ А хозяйка между тем метала из печи горшки с хлеба- {■ вом, вкусно пахнувшим упревшим горохом, вареной го- \ вядиной и кореньями. 5 — Испить бы,— виновато сказал Грикша, смахивая ? ладонью невысохшие росинки пота. Оленица, вскочив с готовностью, зачерпнула дере- |-;: вянным ковшом, подала .ему с. поклоном.. — | — Ну, пошли в камору, — сказал отец, обтирая рот. И строго приказал домашним: — Нас не кликать, в камору не заходить. Там он сел на ларь с тайным запором, называемым «русским замком», придвинулся поближе к прорезному окошку, откуда последним лучом светило косое солнце, и, развернув берестяной свиток, что подал сын из дорожной сумы, стал читать вполголоса письмо своего новгородского компаньона: «Олексе от Микифора поклон. Како придет ся грамотка, спиши список купный да пришли тайно...» Отец и сын понимающе переглянулись. — Может и нам не плошать, верши окрест скупить? — спросил сын,— Хлеб в амбарах цены не теряет. Оба стали серьезны и озабочены. В отличие от молодого Онфима и подростка Потры, Грикша был посвящен в дела отца и, покорствуя ему во всем, наедине безбояз-но высказывал свое-мнение. Пока отец читал дальше, уже про себя, сын стоял в задумчивости у низкой притолоки, возвышаясь над нею кудрявой головой. То, что ему удалось разнюхать в Новгороде, было чревато опасностями и для них, витебчан. Кончив читать, Олекса Петрилович машинально завертел пальцами привязанный к поясу металлический стерженек писала — кончалось то писало отлитой звериной головкой в ноготь величиною,— словно тотчас хотел процарапать ответ. Но смирил себя. Коротко кивнул: теперь рассказывай! . Стопка готовой, к употреблению бересты, четырехугольно обрезанной, вываренной для мягкости и расслоенной, лежала перед ним, рядом с редкими листами дорогого пергамента. Глядя на эту стопку для большей сосредоточенности, Грикша начал отчет. Поначалу Новгород показался ему землею тихой и благополучной. Прибыв, он, как. было наказано, отстоял службу в Святой Софии и зажег благодарственную 59 свечу перед образом Богородицы-Оранты. Затем прошел | по лавкам рыночным: горшечным, соляным и мясным, 11 А в пирожном торге по обеим сторонам намощены ныне : I доски и сверху кровлей покрыты. От недавнего неуро- | жайного года,— когда сусед суседу не уломит хлеба, | зерно везли лишь иноземные корабли,— новгородцы , уже, видать, оправились. Хотя напротив витебских це- •• ны во всем дороже; кожевенный товар сразу1 пошел в у ход. '] Татарских тиунов он там не видал: младший Яросла-вич вошел в доверье к хану Батыю и княжит спокойно. ,;! С литвою князь тоже мирен, всем ведомо; с Товтиви-лом, что сел ныне в Полотске, они свояки по женам, витебским княжнам сестрам Брячиславнам. I; Против немцев по Чудскому озеру и на Неве-реке у Г него стоят дозоры невидимо посреди дремучих дебрей | и, что ни день, оттуда скачут с донесеньем,— все ли спо-койно? («Добро, добро,— бормотал Олекса.— От рыторей !■: заслон надо крепкий держать».) Ц Но .Микифор Данилович,— продолжал Грикша,— | о князе отзывается худо: мол, сам-то беден, а все с них, * с бояр да с сильных, людей требует. «Вы,—говорит,— | как накопите десять тысяч гривен, так женам дарите по р-серебряному монисту, а с каждыми новыми тысячами повторяйте подарок. А мне сейчас нужно сто на мечи харлужные, чтоб шлемы с первого удара разрубали, да I на латы для конных дружин, да на щиты, кольчуги и копья для храбрых пешцов». «А коль они такие храб- | рые,— подал голос Микифор Данилович, схоронясь од- | нако от княжьих острых глаз за чужие спины,— то и I хлуд могут в руки взять, как в старину, с топорами да | сулицами на ворога пойти». Александр Ярославич обер- ? нулся гневно, пригрозил даже, что отъедет от них, нео- [ смысленных, со всем двором, дружиной и семейством: . матерью Фёодосьей Игоревной, женой Парасковьей Брячиславной да двумя сыновьями, ‘Василием и мла- & 60 денцем Андреем. «А пусть отъезжает,— сказал уже Грикще в сердцах Микифор Данилович.— Новгород не обескняжит. Другого князя позовем, посговорчивее. То дозволено нам, новгородцам, со времен Ярослава Мудрого». — О, слепота в человеках! — вскричал Олекса, вскакивая с ларя.— Что уж говорить, денег, конечно, жалко! Каждую гривну умом да трудом добудь. Веверица малая и та сама в руки не идет. Но и дальше ларя своего надобно думать. Кто Новгороду и всей русской земле поможет, как не мы, сильные люди? Старый князь Яро- : слав в стольном граде Владимире ордой стиснут и от князей-завистников едва отбивается. Ждать помощи оттуда нельзя. Сами должны стоять заставой у моря. Варяжского.,. Отдышавшись от досады, Петрилович кивнул сыну, разрешая продолжать. ,• Встретил неожиданно Грикша в Новгороде у Не-ревского конца и Егана Кинота, мунстерского купчину. Тот велел кланяться, передавал особый поклон от жены своей госпожи Кристины. Будто серьги с зернью витебского мастера носит она по сей день к большому наряду на удивленье и зависть прочим дамам. — Хитрит немец,— усмехнулся Олекса.— Про серьги госпожи Кристины сказал, чтоб про другое смолчать. Любо знать, что у него задумано? И не повредит ли в чем нам то тайное немцово хитроумство?.. В каморе быстро темнело. Просмотр счетов за проданный и купленный товар Олекса отложил до утра. Грикша, степенно поклонившись, ушел к своей Олени-це, в собственный дом, срубленный ему недавно на отцовой усадьбе. А Олекса Петрилович, растревоженный разговором, прежде чем пройти к спальному одру в особую клеть мимо горницы с полатями, откуда-уже неслось сладкое сопенье младших сыновей, поднялся по -61 лесенке на резной балкон с балясинами — подышать свежим воздухом. Стоял самый разгар лета. Безветрие. Полная луна всходила в жаркой дымке. Витьба текла в тени оврага невидимо. Зато Двина блестела как позолоченный шлем, словно угрожая... Олекса Петрилович, мирный человек, со внезапно сжавшимся сердцем, перекрестился. Город пробудил набат. Резко звучало било на торговой площади. Едва одевшись, Олексины чады и домочадцы выбежали на сумеречную улицу. Синий небесный свет, который ночами затопляет землю, словно большую чашу, уже редел. Медленными волнами поднимался он вверх, к своей горней родине. Начинало развидневаться, хотя до солнца было еще далеко. Ото всех дворов и усадеб — по ветхим мосткам, открывая плетеные калитки; и по роскошно выложенным подъездам, распахнув ворота на пяточных шипах,— спешили витьбичане, торопливо шлепая, подошвами грубых яловых -поршней или же щелкая каблуками сафьяновых остроносых сапог. Тревожное било на торговой площади призывало равно всех. Петрилович оглядывался: не видать ли зарева? Не занялся ли где пожар? Но город был темен и только жужжал, как вспугнутый улей. С неудовольствием он приметил, что и женщины затесались в толпу: Оленица, пользуясь теснотой, висла на руке у Трикши; жена держалась за локоть Онфима. Перед хозяйкой ретиво расталкивали проходящих Лихач-кожемяка и Матвейца-скотник. Ретешка с Полюдом замыкали шествие. «Кто же остался на усадьбе? — подумал Олекса Петрилович,—чай, одна девка-холопка да Потра, если не взбудили?» Но не время было проявлять хозяйскую власть. Кто-знает, какое известие предстоит услышать? Вдруг, не дай бог, пришел конец тихому житию, накоплению в сундуках добра, хитроумным торговым планам — и все собранное, сбереженное развеется прахом, улетит серым дымом... Не стоят ли уже поганые под стенами? Горе, горе... Куда Витебску оборониться! Град мирный, купеческий; дружина невелика да и та больше для чести князю Брячиславу. Олекса Петрилович ставил усадьбу по своему богатству вблизи от верхнего города; идти до Торговой площади было ему недалеко. Другие еще только текли по узким улицам, а он уже дотолкался до самой се-; редки. Соседи и старшие дружинникй, все, как и он сам, люди солидные, седобородые, широкие в поясах, сейчас с кафтанами внакидку, с шапками, нахлобученными кое-как, лишь кивали ему торопливо и снова тянулись взглядами к кучке людей, одетых по-походному, хотя и без тяжелых доспехов, которые обыкновенно везут обозом под присмотром слуг-кощеев... «Ах, что же это я про доспехи думаю да про кощеев,— оборвал рассеянное течение мыслей Олекса Петрилович.— Стряслось что, вот главное! Кого бы спросить? К князю не подойдешь запросто, хоть вон он стоит с боярами... Э, да ведь рядом с ним Яков-полочанин, ловчий Александра Ярославича... Значит, весть из Новгорода. И случилось что-то уже после отъезда Грикши. С татарами да литовцами князь мирен. Выходит — рытори или шведы? Весть военная, потому вестником послан воин. И — спешная. Даже старого Брячислава подняли с одра, света не дождав...» Размышляя так, цепким умом сводя воедино обрывки чужих речей с собственным знанием, Олекса Петрилович пробирался поближе к .своему знакомцу. Яков-полочанин, видный издалека, возвышался надо всеми: телом был велик и крепок, а чертами мужест- 63 вен. В Новгороде они встречались, как земляки; купец щедро дарил княжьего приближенного не то, чтобы требуя от него услуг, а так, на всякий случай. Ясно ведь, что, женив сына на Брячиславне, великий князь Ярослав через то намеревался притянуть Витебск с Полоцком поближе к Владимиро-Суздальской земле, средоточию русскому, Лестно. Опасно. Боязно. Того гляди, кошель заставят расстегнуть. Э, да что тут гадать! Времена стоят грозовые, за воротами все равно не отсидишься. А раз положил ты, Олекса, держаться князя Александра, не трусь,, не отступай. Кивками и осторожным маханьем руки он успел привлечь внимание новгородского посланца; тот кивнул ему в ответ и велел знаком подойти поближе. Насколько это возможно на переполненной площади, они отошли в сторонку. — Ай беда какая? — не в силах побороть тревожного нетерпения спросил напрямик Олекса Петрилович. — На бедах ныне спим, бедами .прикрываемся,— уклончиво пошутил Яков.— Однако бог милостив. Не одну беду, мечами отводили... Слыхал про шведов? Ярл Биргер, зять короля Зриха, задумал чести себе добыть;, отбить у нас емь и сумь, что сами, пришли под нашу руку для защиты от рыторей. Да то лишь — начало! Замах у ярла на Неву и Ладогу — смекаешь, честный купец? На запор Русь посадить — хочет. — От того оборони! — побледнев, воскликнул Олекса.— Не томи, брат Яков, за чем приехал? — За людьми, за деньгами,— жестко ответил ловчий, смотря ему прямо в глаза.— У Александра Яро^ славича на Витебск особая надежда. Велел поговорить келейно с кем. следует до схода, да недосуг, .мне было к тебе на усадьбу бежать. Ижоряне, что живут между Вотьской и Лопской волостями, три дни назад дали весть: море шумно от кораблей!. Шведы плывут в устье Ижоры. Князь решил:, ближе всех подмогу 64 можно получить от тестя. За четыре дни должны вить-бичане дойти до Ижоры с оружием и припасами. На волоках подставные кони припасены, а на воде все лодьи купецкие возьмем под воев — переправим, назад отгонят корабельщики. Урону никому не сделаем. Но время дороже живота! Шведы нас не ждут; пока к берегу пристанут, пока осмотрятся среди лесных дебрей — ан мы и ударим. Но то бой не последний. Надобно войско большое готовить, ратным железом запасаться, в твои кожи ратников обувать, Олекса Петрилович. Смекаешь? — Вестимо,— отозвался со вздохом купец.—Назвался груздем, так уж полезу в кузов. Малая трата лучше большого разора, как не понять! Мгла поредела. Стали видны вокруг не только провалы глаз да разинутых ртов, но и лица со всеми их. морщинами, всклокоченными волосьями, неубранными со сна. ,. Площадь заполнилась, подобно дождевой кади в проливень — до краев. На помост, составленный наспех из бочек, взошел, поднятый руками слуг, князь Брячислав. На нем был зеленый кафтан ниже колен, не парадный, а для домашнего употребления, и корзно с синим подбоем, пристегнутое на правом плече красного княжеской запоною с золотыми отводами. — Витебские местичи,— сказал он маловнятным голосом. Однако говор тотчас смолк, подобно откатившейся волне, и все его услышали.— Промыслом божьим град. наш не был до сего дня затянут. в коло-вращенье бед. Села упасены от поганых, мирное житье не прервано. Ныне зять наш князь Александр со всем Новгородом зовет воевать шведа. Что ответим, дабы не сказали потом о нас на Руси, что родич остался без помощи и земля его опустошена нашим нерадением?.. 3 Зэк, 708 65 Толпа жадно ловила каждое слово и словно ждала продолжения княжеской речи. Но Брячислав как Начал, так и кончил; махнул слугам, те сняли его с помоста. Витьбичи еще" тянули шеи, а над толпой уже возник Яков-полочанин, новгородский вестник. Теперь на нем был невесть откуда взявшийся за считанные мгновенья ратный камзол из желтой кожи с часто нашитыми роговыми пластинами и светлокованный . шелом. По небу клубились красные тучи. Свет ранней зари отражался на дюжей фигуре посланца, взблескивая бляхами на ножнах его меча и на шеломе. — Поклон вам, город Витебск, от господина Великого Новгорода! —г зычно произнес он.— Шведы плывут в устье Ижоры. Все мы готовы сложить головы за Святую Софию. Мертвые сраму не имут. Но кто оборонит Русь? Неужто, как беззащитную вдовицу, покинем ее и откроем; ворогам с четырех сторон? Разве мало той тучи, что, идя от орды, кровью отцов и братьев наших, аки водой, землю напоила? Значит, пусть ныне и шведы труд наш наследуют, а земля иноплеменникам в достояние будет?! Олекса Петрилович озирался по сторонам: которые из витьбичей глядели честно, не отводили глаз, а которые переминались, потупившись. — Что будет, батюшка? — жарко прошептал в ухо младший Онфим, очутившийся неприметно по левую руку.— Неужто срам на себя примем? Откажемся? — Погоди,— отмахнулся отец.— Воевода говорить будет. Вознесенный над толпой грузным телом; затянутый не в доспех, а в легкую кольчугу, воевода, видимо, ждал, что новгородский посланец сойдет вниз и оставит его один на один с витьбичами: ловчий был человек хоть и приближенный к своему князю, Но не знатный. Но Яков-полочанин лишь слегка отодвинулся, и глядел на воеводу в упор. Показались они оба 66 Олексе Петриловичу дебрянскими зверями, что столкнулись на тропе, и, пока не обнюхают друг дружку, ни один пути не уступит. Воевода еще рта не открыл, а уже по площади прошло дуновенье то ли ропота, то ли досады. Послушать его, выходило, что дружину не собрать —вся по селам, по дворам разбрелась. И оружье давно не во-стрено, не чищено. И город льзя ли оставлять без ратников? Воевода говорил как резал, голосом грубым, отрывистым, но слова его были умягчающими, отводящими в сторону. Уже голос и еще чей-то раздался —не в полную силу, а подобный змеиному шипенью,— что-де гром не над нами, Витебском, гремит; Новгороду же пожелаем здравствовать.., Олекса Петрилович облился стыдом и испугом: то, что так ясно было видно ему самому, неужто заслонено от других? Сыновья смотрели на него с ожиданьем. Грикша, впрочем, словно и не сомневался в том, что сейчас скажет или сделает отец, а юный Онфим уставился глазами, полными отчаянных слез и смятенья. Еще воевода не сошел с помоста, звук его речей не замер, как Олекса Петрилович двинулся вперед, чуя, что нельзя дать остыть накаленному воздуху. Сыновья рьяно заработали локтями. Тут же оказались рядом, пробивая дорогу, и домочадцы. Трое стояли над толпой, потому что воевода все еще тщился оставить за собою последнее слово. — Прости, князь наш добрый, ежели вышел не по чину,— Олекса Петрилович отбил поясной поклон.:—< Не воевод мне учить, не дружину наставлять. Мое слово к младшим людям витебским, к братщине ремесленной да к торговым гостьям. Други и су седи! Или нам очи отвело, что, подобно слепцам, явного не видим?! Не про новгородские межи речь, а про защиту з* 67, своих домишек. Отойдет храбрый Ярославич от предела Невы-реки, назавтра Двина, красота наша, погибе. Витебск лядиною прорастет. Тела детей ядь псам и воронам станут... Разошлась дружина не ко времени по усадьбам да по дворам своим. А разве нет у нас сыновей? Разве руки их мечи, топоры, копья не удержат? Снаряженья нет? На что мы тогда — торговые люди, рукоумельцы? Ставлю от себя на триста копий сапог походных и панцырей кожаных! Да сверх того пятьсот гривен жертвую на мечи, щиты и шеломы. Посылаю двух сыновей князю Александру Ярославичу в подмогу, а коль домочадцы-работники пожелают, то и их отпущу с земным поклоном. — Желаем, хозяин! Дома твоего не посрамим! — громко закричали Лихач с Ретешкою.— Хуже людей не будем. Площадь бурлила, но сквозь' гомон опять все услышали слабый голос князя Брячислава. Его впалые щеки затеплились румянцем, и желтая рука из-под плаща поднялась, благословляя и благодаря. Едва Олекса Петрилович спустился с бочек на земь. как пальцы жены судорожно затеребили рукав с меховой опушкой. — Отец, Онфимушку-то куда?! Мал, несмышлен... — Зачем сватали, зачем замуж брали? Мужа отнимаете! — ныла Оленица с другого бока. — Олекса Петрилович!—-через их головы прокричал канатный мастер.— Чай и пенька сгодится? Жертвую! — Запиши горшечника Клима. Чада мои малы — сам пойду. —. Поскребту-кормчего не позабудь! И веслом и рогатиной послужу. — Мы тех шведов седлами закидаем, кулаками переколотим! — неслись со всех сторон хмельные от собственной решимости выкрики. 68 Олексу Петриловича позвал с помоста Яков-полоча" Взойди сюда.. Воевода спрашивает, когда местичи | твои будут готовы? Он с дружиной по второму днев-^ • ному часу в лодьи сойдет: . — | — Наши молодцы также управятся. Вскричи час, (I: чтоб все знали. Я покамест гривны соберу от кого сколько. Ратники могут гуртом идти, а деньгу каждую записывать надобно! О последней лодьей и пошлем Ярославичу. | — Ну, земляк, не я благодарствую — князь Алек-& сандр! А ты, господине,— обратился Яков к воеводе,— У ай ладно собрал дружину, не сходючи с помоста! — Если сами спасемся, а черных людей оставим, | то грех нам будет,— с важностью отозвался тот. | Ловчий усмехнулся жесткими глазами и, обернув-| шись к площади, по которой шло движенье, как на | речном перекате, перекрыл, разноголосицу луженой К : глоткой: }; — Слушай, полки витепские! У кого припасены ^ в кладовых каморах по сундукам кольчужки, шлемы : с бармицей, копья, рогатины, коши походные да про-!■. чее снаряжение — по второму часу после восхода солн-| ца за вымол к лодьям стекайтесь! Поплывем до перво-^ го волока. Там волочане ради дела великого общего Ч дадут нам коней верховых и колымаги обозные. Три-^ дцать верст мигом , проскачем. На веслах взойдем в Ло-вать, а там встретят нас паруса новгородские. Поспешно в Во лхов-реку вплывем... ■ .... • . . . .... р- Второй дневной час настал. Солнце оттолкнулось | от зубчатого леса, пообсохли росные травы. Крутые, кудрявые от лозняка берега укоротили тень. ■ Заперев плачущих в дому женщин, Олекса Петри- лович пошел проводить сыновей и домочадцев до вы- 69 мола. Он крепился, хоть и сжималось сердце при взгляде на мальчишеские розовые щеки Онфима, на : его сияющие радостью глаза: впервые покидает дом, чтоб посмотреть чужие земли! — Вперед других не выходи. Слушайся во всем Грикшу,— повторял отец, понимая бесполезность торопливых наказов.— От Ретещки с Лихачем не отставай. — Не тужи, хозяин,— утешил верный Ретешка.— Коль сами с животом не расстанемся, вернем тебе сына. Собой заслоним. Да и ты моих чад тут не " покинь. Грикше, надеже и помощнику, Олекса шепнул \ неприметно для других, чтоб разыскал в Новгороде ; немца Егана, помог укрыться и спас ему тоёары от раз- ■ грабления. Купцам и после боя торговать. • — Да поспрошай у ижорян цену на кожи. Если выйдет случай, подашь весть. Тотчас Матвейца-кожё-мяку пошлю за товаром! Это он уже прокричал вслед, желая показать спокойствие духа. Грикша кивал. Шлем на его голове был светлее воды и весело играл на солнце. Лодья покинула устье Витьбы, закачавшись под ветром на бурных двинских волнах. . Умаявшись за утро, сейчас^ на. широких уютных ; лодьях, витьбичи собирались в кучки, сидели . плечом ■ к плечу, согреваемые чувством единства. Негромко пели. Слова были не очень важны в этом радостном, освобождающем от забот и усталости хоре. Звуки ли- ’ лись мощно и в то • же время приглушенно. Каждый оставался наедине с собственной жизнью, и то, что в ней не задалось, сейчас переиначивалось, кроилось песнью по-иному, словно жизнь, была, бесконечна, и в будущем у всех-одинаково блистали зарницы,подвигов. 70 Грикше было по Ком грустить й с чем расставаться. Но его брата Онфима захватывало лишь вновь встре-чённое, словно за каждой излучиной его ждало нечто необыкновенное; либо чья-то хмельная свадьба, либо усердный храм со множеством огоньков. Даже зйако-мое четырехбуквие «ре-ка» захватывало по-новому, Черные с синевою глаза Онфима жадно впивались в берега. Невидимое прежде за береговым уступом солнце поднялось достаточно высоко, и пепельно-сиреневый отблеск заиграл, заструился по воде огненными змеями. Ворочая голову то направо, то налево, он увидел сначала цветение зари, а затем распустившийся на безоблачном небе торжественно ясный день. Так витьбичи поспешали к битве, что даст князю Александру Ярославичу прозванье Невского. И имя его станет славно с тех пор от моря Варяжского до гор Аравитскйх. Бой тот был скорым и дружным, конница пошла вдоль Ижоры, а пешцы по Неве; Мечами срубили зла-товерхий Биргеров шатер, а самому ярлу Александр Невский острым копьем оставил на лице памятную печать. Едва увидав издалека друг друга, оба бойца ринулись вперед, головой и плечами превозмогая пространство, уплотнившееся от их стремительности. Лошади присели на круп, ярясь перед прыжком. Но начальные удары еще не были одушевлены взаимным пониманием: как ни вращали они, убыстряя темп, рукояти, их мечи били вслепую, не зная ни слабостей, ни силы противника. И лишь предвосхитив смертоносный удар яр л а, Александр Ярославич бойцовским чутьем безошибочно уловил усилие вражеской десницы. По его членам пробежал трепет восторга. Он уклонился. Придвинулся. Вновь ускользнул от удара плашмя, направляя свой собственный клинок в открывшуюся брешь. Пучки травы и земляные комья отлетали от копыт. 71 ——'*~~11 >11 В слитном коловращении четырех тел, конских и человеческих, не нашлось бы места соломине — так стремительно крутились на узком ристалище оба всадника, так согласно, подобно цепам на току, молотили их обоюдоострые мечи.. Наконец Биргер, разинув воспаленный рот, слегка осел.в седле — и этого мгновения было достаточно, чтобы Александрово.копье с бокового захода достало шведа... Шведские корабли и шнеки, которые потопили, а те, что остались целы, нагрузили мертвыми телами и пустили по воле волн восвояси. Ловчий Яков-по лочанин один наехал на полк, мужествовал много; похвала князя записана ему в летописи. Сыновья же Олексы Петриловича, хоть и не отличились особо, .но тоже были не последними, бились честно и остались живы: Грикша вернулся в Витебск к торговым делам, а Онфим задержался в княжьей дружине. Ратная жизнь пришлась ему по душе. Две свадьбы Вначале зимы 1318 года, едва лег снег по склонам Замковой горы • и Витьбу стало прихватывать младенческим ледком, с последней лодьей по Двине приплыли отчаянные новгородские гости, что ходили по каким-то своим делам до моря Хупожского, а теперь пробирались восвояси. Они принесли весть, будто пришел в град Кострому посол из Орды, сердцем лют, а именем Кокча, и убил . сто и двадесять человек у стен городских. А еще, что в Твери начался мор на людей. Было в прошлом году им, тверичам, знамение в месяце сентябре в день субботний, до обеда: круг небесный засветился над градом! Клонился тот круг к северу и имел три луча — два на восток, а третий на запад, указуя, откуда пойдут смертельные распри за великое княжение князей Михаила Ярославича тверского и Юрия Даниловича московского, внука Александра Невского... Витебцы слушали, ужасались. Вот уже сколько, лет стоит Витебск островком среди зла и ненавидения. И орда до него не дошла. И литва не двигалась дальше, захватив еще при Всеслав.е, когда тот был юн и не силен, кривскую землю до левого берега Девины и озер 'Бреславских... Нынешний князь Ярослав Васильевич к войне не был охотник. И хоть на кого скоро осердится, но скоро и запамятует. Жил вдов; наложницу держал за жену, а наследников не имел, кроме единственной дочери Марии. И потому искал зятя сильного, который мог заступить ему за сына и охранить город. Думцы княжеские, бояре, до хрипоты судили; по пальцам перечли всех княжичей и суздальских, и тверских, и московских. Ан князь уже сделал выбор. Тайно послал ближнего боярина Лутьяна Гордятовича к великому князю литовскому Гедемину, прося .одного из сыновей: хоть Нариманта, хоть Ольгерда, хоть Евну-тия, хоть Кеетутиеа, Кориада, Любарда или'Монтевита. I тотетн т—аадаамЦ Спесивый Гедемин подумал-подумал и : согласился. ; Сам Ярослав был маломощен, смотрел из-под руки ; князей смоленских, да земля витебская завидна и ла-кома! Лежит меж Литвою и Русью, соединяет, мирит -собою две-страны, два народа. - В позднеосенний день серая гладь • реки, расцвети-лась надутыми парусами. Лутьян Гордятович воротился с Ольгердом, вторым сыном сильного литовина. Гедемин — по слухам, бывший, .конюший, человек происхождения темного и едва ли знатного, начавший ' собою новую-династию,—уже задумал собирать в одно целое: разрозненные русские. западные, княжества, как 1 то делали на востоке московские князья. Спустя два года другой его сын, Любард, после военного похода -взял за женою в приданое Луцк и Владимир-Волын- . ский с землями. Ко времени .смерти Гедемина в 1339 году почти все Гедеминовичи. сидели по русским городам; | Ыаримант-Глеб ■ в Турове и .Пинске, Любард-Владимир ; на' Волыни, Ольгерд;..в Витебске, Кориад-Михаил • в Новгороде, младшему Евнутию. отец: оставил Вильну. | Но Ольгерд был: первым и зван честью;-. .за ним на-всегда осталась среди витебцев добрая слава,. Тем бо- ; ле, что и мать его, именем Ольга, была русской, \ Сватовство прошло поспешно. . Нахмуренную Марию привели из терема, обрядив в дорогой наряд: • узорное платье расшито бисером, пряжка золоченая. Волосы заплетены в .две косы, как трубы лежат по плечам —г черны и толсты. Лоб и/.затылок стягивал старинный, прабабушкин венец из двух спаянных пластин, на них выпукло, две заморские птицы сцепились клювами. Скатный жемчуг гроздьями • висел вдоль щек. Венец-ли клонил ей голову долу или строптивость? На один миг подняла испытующе веки — и будто речной прохладой облила! Над прямыми девичьими бровками,; невидимо под жемчужной вязью, вздулись от напряжения два.бугорка. • • 76 По ОльгердовЫм жилам прошёл огонь. Кто знает, что нравится и почему? В этом своя тайна. Но положил во что бы то ни стало поять сию деву в жены. Дал ; в том молчаливую клятву Перуну-громовержцу. Хотя '/ внешне ничем не выказал волнения. Литовский кня-жич был не по годам рассудителен, учен, знал многие ■ языки и не тратил времени на суетные игрища. Мария сама не знала, понравился ли ей суженый? I; Хотелось поскорее уйти из-под власти отцовой люб-ки, которая только что не смеялась ей в лицо. Ольгерд г|; был статен и черноус. Чего же еще? Ярослав поставил условием, чтоб литвин принял русскую, веру. Тот без проволочек согласился. Летописец потом писал укоризненно, что Ольгерд , «еще при житии отца окрестился ради жены, но свежий ; череп смрадного тука напившеся, древним злосмердием смердяше». Понимать это надо так, что под конец жизни Ольгерд, возможно, вернулся к язычеству, а не как то, что, выпив налитый дополна бокал или черепок («свежий череп»), начал буйствовать. Ольгерд все дни своей жизни был воздержан, от пьянства отвращался и даже на брачном пиру, на удивление всем, не пригубил ни вина, ни пива. Свадьбу играли по морозцу. Двина встала рано, суета на пристанях замерла. Во многих домах горожаны брачили детей. В церквах шло частое венчание; то с одной, то с другой колоколен неслись свадебные звоны. Ольгерда Гедеминовича, принявшего имя Александр, и Марию Ярославну, правнучку Андрея Ярославича и Настасьи Даниловны, дочери короля Галицкого Данилы, венчали в Верхнем замке, в древней церкви архангела Михаила. Церковь была деревянная, на каменном фундаменте, и будто строена самой княгиней Ольгой в 974 году, когда та плыла с войском от ятвягов. Понравилась ей. гора над Витьбою. Велела ставить здесь де- ревянный замок и, пробыв в нем два года, отправилась дальше, в Киев... После церковного обряда, который новообращенному Ольгерду-Александру был внове,— и так не похож на волхованье вайделотов в дубовой роще! — молодых с почетом провели в княжескую гридницу — в высокие сени, или же обширный зал, уставленный сплошь тяжелыми столами с обильными яствами. Усадили на особые кресла: жениха на резное, со львами в подлокотниках, невесту на италийское, легкое, как лодочка, полукруглое, с перекрещенными ножками. Заиграли ложечйики и свирельщики. Запели, сбившись в стайку, девки в праздничных кокошниках. Слуги внесли брачную > кашу. И запенилось пиво. И полились из-под рук виночерпиев сладкие вина... На всех были надеты парадные одежды. Но больше всех выделялся молодой князь своим кафтаном, изукрашенным крупными лалами и синими евклазами, дорогим серебряно-золотистым поясом и пурпуровой мантией. У него были круто. вырезанные ноздри, которыми он словно бы внюхивался в окружающий воздух, задумчиво и не пугливо, как зубр, владыка пущи. — Княже,—прошептал Ярославу из-под локтя захмелевший Лутьян Гордятович, ближний боярин.-— Не прогадали ли мы, пригласив литвина? Не правим ли нынче тризну по чести своей и вере православной? Ярослав, с тонкой усмешкой знатока многих государственных хитросплетений, едва заметно качнул головой от плеча к плечу. — Литву поборет время,— произнес любимое присловье.— Оно смешает наши верования и языки, как ныне на брачном пиру смешало вино в кубках. Так что Литва станет Русью, а Русь Литвою, и будут они заодно. • ;Боя#ин в сомнении опустил веки, но в то же время | послушно кивнул, ткнувшись бородой в цветной сто-I ячий ворот. А сидевший неподалеку поп, венчавший княжну, I; который все медлил удалиться с хмельного пира — р обычай предписывал ему не смущаться напрасно мир-I скими игрищами и гуденьем на рожках,— разговорчи-1 во пояснял соседу, заметив пламенные взгляды жени-& ха, бросаемые на Марию, что, дескать, женолюбие нам I, есть от творца при создании вкорененное. И когда оно 4 , умеренно и благорассудно, ко умножению токмо рода г! своего, то честно и полезно. А избыточное есть грех, :. по апостолу Павлу, против своего тела, ибо многим 1 болезням причиною бывает, и человек, вдавшийся любодеянию, весь свой смысл и способности к делам полезным погубляет... Боярин кивал и ему, не слушая. Голова у Лутьяна ; Гордятовича была тяжела; смутные предчувствия продолжали томить душу. * * * В тот же день, когда на княжеской поварне до рас-V света пекли и жарили откормленных лесными орехами гусей, выпоенных мучным пойлом телят, потрошили ■ молодых барашков, низали на вертелы голубей и рябчиков без счета, а в особых мисах заливали молочных поросят, ставя в погреба для охлажденья,— в нижнем городе на окраине, где улица Великая, разделяясь надвое, идет не по-над Витьбою к башне Волконского кругляка, а в другую сторону к Задунавской фортке — ту фортку, ; иначе калитку, прорубили исстари в стене на случай осады, чтоб ходить незаметно крутой тропой к реке по воду; в замке хоть и были два колодца, да один высох, а в другом вода не чиста,— в тот самый день в бедном доме горшечника Нежила тоже выдавали замуж дочь, 79 Правда, Маремьяница не сидела, как княжна, весь день сложа руки и слушая подблюдные песни, но сама разделывала принесенную отцом с торга говяжью полть ценою в две ногаты, раскладывала косяки мяса по горшкам :— и которые варила с похлебкой, которые же запекла с кореньями, так что весь день печь трещала огнем, а дым не успевал вылетать в небольшое отверстие над дверью с раздвинутой до отказа заслонкой. Ее братик Микитца то и дело бегал на посылках через двор с полными руками от погреба к пуньке да к обветшавшей медовне, где хранился припасенный загодя, с лета, мед. Маремьяница росла сиротой, помогали ей соседки: Настасья, жена гвоздочника, да По-нарья, безмужняя дочь древодела Фалея — он же подновил в избе лавки, чтоб не стыдно было гостей посадить. А гвоздочник принес в подарок светец железный. Горели в нем пучком смоляные лучины; и так-то ярко, так-то весело, что у Маремьяницы вечно вытаращенные голубые глаза покрывались от умиленья поволокой. Ей тоже, когда пришло время, под песню заплели две русых косы и стянули лоб полотняной повязкой, расшитой дешевыми бусинами, а на грудь надели монисто из оловянных кругляшков. При каждом шаге они подпрыгивали (Маремьяница уродилась егозливой), и по избе словно бубенцы разливались! Гостей набилось в избу много. Они пили, ели и славили молодых, как велит обычай. Разглядывали благосклонно женихов подарок: пряслице из розового камня с искусной надписью «невесточ пряслень». А в сторонке у коневого столба, вбитого у печи, того, что держит собою поперечные брусья полатей (возле него поутру, горшечник Нежил и благословил дочь с женихом), позабытый на сей час всеми, примостился мальчик Микитца. Он подбирал угольки из-под 80 светца и чертил ими на белых липовых обрезках, которые выпросил у дяденьки Фалея. Под рукой Микит-цы возникали буквы; он начал их учить с нынешней зимы. Но чаще появлялись фигурки людей со смешными растопыренными пальцами -и головами репою. Ему .же казалось, что он очень похоже рисует гостей и все свадебное застолье со слепленной отцом к этому дню нарядной корчагой. По ее круглым бокам вилась надпись: «благодатнесно полна корчага сия». Микитца тихонько смеялся и разговаривал сам с ео-бою и со своими изображениями. Жизнь казалась ему ясной и простой. Но темна вода во облацех, и никто не может знать, что ждет его впереди в славном граде Витебске! я* * * . Не знал Ольгерд, что, прожив со своей ненаглядной Марией без малого тридцать лёт, после ее смерти он вновь женится на хитрой Ульяне Тверской. И так предастся той Ульяне стареющей угрюмой душою, что. обойдет в завещании первородное право Андрея, Марииного сына. А ведь он всегда любил его и называл ласково Вингольтом! Водил с собою в походы и посадил княжить во Пскове и Витебске... Не знала и Мария, ныне с доверием глядя на молодого, статного, но странного мужа, не отпившего ни глотка от брачной чаши,—-пьяного не вином, а одной лишь к ней нетерпеливой любовью! что будет их первенец изгнан из дедовского удела. А Ульянин сын Яков, женившись на польской королевне Ядвиге, сам станет могучим королем и будет судить своих братьев, то давая, то отнимая у них по прихоти земли. О, этот триименный Яков! Более известный всем как Ягайло, он принял накануне венчания еще католическое имя Владислава — и так был осмотрителен до последней минуты, ожидая от панов подвоха, что согласился перекрещиваться лишь в самый день принятия королев-ского титула. Прелаты много ждали от этого союза; им казалось, что вместе с Ягайлой под власть Рима сами собою подпадают и Литва с Русью. И какое значение могли иметь при. этом склонности Ядвиги, о которой хронист Ян Длугош писал, что трудно сказать, что в ней преобладало: внешняя или внутренняя красота? Как ни оттягивала печальная красавица нежеланный брак, ссылаясь на то, что еще во время детства рука ее была обещана эрцгерцогу, австрийскому Вильгельму — тому подтвержденье государственные договоры,—но не ей было переспорить казуистов-церковников и самого архиепископа Бадзанту, одержимых жаждой, власти. Ее уверили, что прежние договоры можно отбросить, как не имеющие силы, и Ядвига вынуждена была в конце концов согласиться «уже не по причине ее личных желаний, а для расширения .и укрепления христианской веры». Венчание состоялось в Краковском костеле 14 февраля 1385 года — и с. этого дня Яга.йло стал писать, во всех грамотах: «Мы, Владислав, божьей милостью король польский, великий князь литовский и наследник Руси,..» , Последнего титула ни за что не признавал за ним Андрей Ольгердович! Когда в наказание у сына Марии отняли Полоцкий удел, он бежал в Москву* к великому князю Дмитрию, рядом с ним дрался на Куликовом поле, показав себя храбрым воином, а затем по-прежнему бездомным воротился в родную Белую Русь, чтоб поднять бунт г против, вероотступника Ягайлы. Дальнейший путь его потонул в безвестности и темноте... к Не зцал и- князь Ярослав Васильевич, который сам на брачном пиру по болезни- ел мало, лишь/скуповато 82 поглядывая на объедение бояр и с одобрением на воздержанность зятя, которому отныне безбоязненно вручал дочь, но не княжество, рассчитывая еще долго самому владеть Витебском,— а меж тем живота ему оставалось, всего два лета! —не знал он, что хоть Оль-герд оправдает его надежды и будет городу верным заслоном и от немецкого ордена, и от татаро-монголов, полонивших Русь, но не в Ольгердовой власти было остановить на будущие времена движение стаи серых мышей, латинян-иезуитов, которые принесут столько зла Витебску. Нет, не Литва была главной опасностью! В этом-то князь Ярослав оказался прав. Правда, в "старые времена по студеным- зимам из пограничных дебрей вырывались полчищем на христианскую землю завернутые в шкуры древние литвины, и смирял их тогда своей ратью великий тезка Ярослав Мудрый, накладывая дань со скудной земли желудями, лыками да вениками. И то не ложь, что и позже грабила буйн!ая литва на волоках торговых людей, налетала на посады, пока Роман Галицкий не пресек набеги немилосердным походом — многих побил, а других в плен угнал, заставил распахивать пустоши. От чего пословица пошла: «Мол, Романе, худо живеши, литвою ореши». Впрочем, сомнительно, чтоб тот князь, в самом деле, пахал на пленных... Однако чего не бывало между соседями! То миром, то бранью стали литовские князья понемногу прибиваться к Руси. При молодом Всеславе в 1048 году Кернус, хоть и завладел частью кривских земель, обид никому не чинил. Боги были общие, обычаи одни — где кончалась Русь, где начиналась Литва, про то князья ведали, а жители не доискивались, селились вперемежку. Полтора века спустя на Полоцк двинулся другой литовский князь — Мингайло, добывая удел сыну. С Полоцком же в это время происходило вот что. Не- 83 когда обширное княжество дробилось и размельчива-лось, словно его в ступе толкли. Князьку Святославу-Юрию, сыну некоего Вячеслава, достался уже один город, без сел и земель. Святослав умер в 1140 году, а .сыновья его Вячеслав и Давыд, не имея потомства, дали городу вольную. Так в двенадцатом веке Полоцк ' стал ненадолго республикой. . Во главе стояло вече. и тридцать старшин-бояр. И хоть между боярами: шел обычный спор, кому быть выше, чья дружина бойчее (одни сажали стрельцов на коней с луками и легкими сабельками, другие пускали своих пешими лишь, с копьем и мечом, зато мечи были харлужные, с острием на обе. стороны — вырвал из кожаных ножен и хочешь в сердце коли, хочешь по шелому секи! Из-за тех мечей, чтоб добыть их, у рус- . ских могилы разрывали), но все-таки полочане держались сообща и отчаянно дрались за свою независимость. Большинство из них сложили головы в бою, и Мингайло, . войдя в полуобезлюдевший город, без сожаления отдал, его сыну. — Гинвилл, новый князь полоцкий, не хотел, чтоб его считали чужаком: он поспешил сблизиться с окрестными князьями, принял православие под именем Георгия и женился на русской княжне..; Беда пришла от янтарных берегов. Ливонии, данни-цы полоцких князей. За двадцать лет до похода Мин-гайлы к ливам- бурей прибило, корабль бременских купцов — событие само по себе мало примечательное. Угрюмые ливы ждали, что. потерпевшие кораблекрушение уберутся навсегда -восвояси,, но те возвращались снова и снова. Срубили на берегу Двины дом и острожек, за стенами которого можно, было, уже отеи-. деться. Вслед за мастерами-камнесечцами в крепость прибыли миссионеры. Не видя в том беды, полоцкий князь разрешил им проповедовать в подвластной ему области; Чем упорнее отказывались местные жители переходить в христианство — даже смывали насильственное крещение в Двине! — тем настырнее делались латиняне. : Епископ Альберт прибыл уже с целой флотилией вооруженных крестоносцев, щедро раздавая рыцарям чужие земли, и с благословения . папы Иннокентия основал Орден Меча, прельщая' праздную молодежь красивым плащом; похожим на белоснежное ангельское крыло, изображением меча и креста, источавшего кровь... Так немцы крепко встали при устье Дви'ны. И опять полоцкие князья не ощутили беспокойства: с Чуди, мол, брали дань силой и с немцев возьмем! Борис Гинвиллович осадил немецкую факторию Икс-куль, получил откуп,. двинулся к другой крепости Гольму, но епископ-Альберт успел послать туда сильный гарнизон, и Борис вернулся в Полоцк. Вскоре, к нему .был -направлен епископский : посол аббат Феодорих. Был аббат , известен, тем* что дважды спасался чудесным. образом от мести ливонцев: священный конь в языческом капище при гадании переступал через копье левой, а не; правой ногой и тем даровал пленнику, обреченному в жертву ради лучшего-урожая, жизнь. ......... - В Полоцке Феодорих. застал ливонских • старшин, прибывших, ранее его. Они просили русского князя о. защите: . «Мы не верим Альберту,— твердили они в отчаянии.*-—Немцы не умеют сохранять мир!» Одного из старшин, старика по имени Ако, Феодорих запомнил особенно хорошо. Его отрубленную :голову вскоре поднесли епископу прямо в церкви, после обедни. Воистину кроток христианский бог, если стерпел и это.. ■ Князь Борис уже обдумывал план внезапного похода по лесным тропам, протоптанным его дружиною, по. недавно ; настланным болотным гатям — и поход адолне-мог бы. стать. удачным, если б аббат не под- 85 купил щедрым посулом алчного боярина и не послал с узнанной вестью в Ригу лазутчика, переодетого нищим... Следующий полоцкий князь Василий Борисович, внук Гинвилла, тоже ходил на лодьях вниз по Двине, осаждал немецкие крепости. На сей раз полочан отбили камнестрельными машинами. И. хотя переимчивым умом русские сумели разгадать их секрет, даже построили свою машину — Василий отступил: у стен крепости в ловушки из железных гвоздей стали оступаться и калечиться его лошади. С каждым годом Орден отнимал у Полоцка все больше земель в низовьях Двины. Уже и храбрый княжич Всеволод, видя пожар своей наследственной крепости, громко воскликнул, спасаясь в последней лодье: «Герсик! Любимый город мой! Как неожиданна гибель моего рода. ПрищЗю'сь мне, бедному, видеть сожжение моего города и гибель моих людей! » А что же Витебск? Ведь это о его чести печалился на брачном пиру ближний боярин князя Ярослава. Чего не мог знать о будущем проницательный Лутьян Гордятович? Разве лишь того, что в 1338 году будет все-таки заключен мир между Орденом и Рижским магистратом, с одной стороны, и князем и городом Полоцким равно как князем и городом Витебским, с другой стороны, на десять лет с определением мирной полосы, И что Витебск будет надолго защищен от беспокойства умом и твердостью Ольгердовой. ...А неохотно ушедшему с пира попу, который брел сейчас по темным кривым улицам, хрустя в тишине свежим снежком и придерживаясь для верности за частоколы, йаже в дурном сне не могло бы привидеться, что когда-то с нежилой пока Успенской горки,-на ко- 86 торую он взирал без внимания, будет сброшен доведенными до отчаяния витебскими местичами их притеснитель Иософат Кунцевич. О, это была особо скорбная страница витебской летописи! Но сначала — откуда взялся и кем был сам Кунцевич? Настоящее его имя Иван; в доме отца, бедного ремесленника, жизнь его, возможно, протекала бы мирно, не зараженная тщеславием, если б иезуиты-католики не взялись за его воспитание. Все худшие качества молодого. Кунцевича — жестокость, властолюбие, коварство—очень пригодились для утверждения любыми средствами церковной унии среди белорусов. Карьера Кунцевича шла стремительно. Совсем еще молодой, тридцатилетний человек, он в 1618 году посвящен в ; сан Цолоцкого униатского архиепископа. Король Сйгизмунд III предписал, чтобы белорусское население, во всем ему было послушным. Но добиться этого оказалось не так-то просто! Кунцевич закрывал православные церкви, писал доносы и заключал под стражу. Везде его путь сопровождался возмущением: в Орше, в Полоцке, в Могилеве и в Мстиславле жители собирались на тайные сходки, а после и явно побивали камнями церкви, где богослужение вел Кунцевич. Но дальше всех пошел Витебск. Заговорщики, не скрываясь, построили для сходок два шалаша* . один за Двиною, другой на Задунавье. Перепуганный бургомистр, Василий Бонич, хотел было запретить сходки, но уже в самом магистрате шел разлад: Кунцевич стал невыносим для всех слоев населения! Непосредственным толчком к бунту было то, что слуги Кунцевича схватили некоего православного попа, проходившего с бранью мимо дома архиепископа. Сначала ударил в набат колокол ратуши; тотчас подхватили звонари городских колоколен. Это случилось 12 ноября 1623 года, ранним утром. Побросав шапки в кучу в знак мятежа, вооружившись камнями, более тысячи' человек бросились к дому ненавистного ^ мучителя. ’ Потом, когда тело его было уже утоплено в Двине, а в Витебск вступили польские королевские войска вок главе с воеводой Львом. Сапегой, один перечень убытков личного имущества Кунцевича показал, как этот пастырь (пречисленный вскоре к лику святых!) был корыстолюбив: золото, серебро, одежда, наличные деньги, ковры, посуда, сабли, документы на имения и другие ценности составили несколько тысяч злотых; ,, Суд над городом преследовал единственную цель-— устрашение. Папа Урбан VIII обратился с призывом 1 к Сигизмунду: «Итак, державный король, ты не должен удержаться от меча и огня. Пусть ересь чувствует, что жестоким преступникам нет пощады...» След- 1 [ ствие было закончено за три дня: сто двадцать человек приговорены к смертной казни, более ста заключено в тюрьму и двести бито кнутом. «За исключением немногих лиц, все были виновны» — таков вывод коми<> сии. Колокола сняты, ратуша разрушена, самоуправление и торговые привилегии отняты... * * * ...Нежил-горшечник, уже несколько утомившись бражничаньем, привыкнув засыпать с курами, а встаг вать после вторых петухов, тоже вышел осоловевший во двор и дышал несколько минут на морозном безветрии, чтоб освободить голову от дурмана. Он думал о том, каков-то окажется княжий зять, завтрашний господин витебчан? Будет ли литвин ладить мир с Великим Новгородом? Не затеет ли каких походов? Удастся ли прожить мирно? Нежил был немудреным человеком, далеким от политики. Но ведь простые люди и несут на себе все те тяготы, которые взваливают на них великие. Они 88 последними отступают в бою и первыми возвращают-* ся в обгоревший город, чтоб строить его вновь. Новгородские же дела тревожили витебского горшечника потому, что его. зять — уже вставший тем временем из-за стола и миловавшийся с Маремьяной,— был родом из Новгорода, слугой — или парубком,;— новгородского хлебопека. Тому хлебопеку приходилось в неурожайные годы посылать сметливого Ядрейку в кривскую землю скупать рожь на корню, себе в запас. Ядрейка однажды остановился на постой в нежиловой избе, а потом стал слать бойкой Маремьянице тайные грамотки с мимоезжими людьми. Так тянулось года два, пока не пришло время окручивать девку за соседского парня. Тут она в рев: «Не пойду ни за кого, кроме как за хлебопе-кова Ядрейку, новгородчанина». Нежил сердцем был всегда слаб. А после того, как вынес жену-покойницу на белых полотенцах и за одну зиму от мора вслед за нею схоронил четверых детей,:— так что у него и остались всего эта Маремьяница да смирный безгласный Микитца,— и того более. Он не стал спорить с дочерью. Соседскому сыну отказали. Новгородчанин словно почуял опасность. И хотя залетел на ту пору далеко, на Каян-море (у хлебопека были дела и с карелой), вскоре приплыл попутной лодьей — сватать. Где будут жить молодые, говорил пока уклончиво, но, как мнилось Нежилу, мог бы остаться и в Витебске. Парень оборотистый, приметливый. Не захочет с тестем гончарничать — другое дело найдет, по душе. Так что в семье прибудет, а не отъемлется. Был бы лад да тишина... •. Тут Нежил икнул от холода и вернулся в избу. А Млечный Путь продолжал в одиночестве наполнять своим слабым свечением витебское небо. им Как оно еще пусто и необжито человеческими мыслями! Людям долго будет мниться, что небесная глу^ бина лишь там, где темно: в рыхлом мраке близких облаков. Земные заботы клонят головы. Если же слу- ; чится на витебском проулке заезжий книжник, то и он подъемлет взор лишь затем, чтобы поискать след от мифической птицы Феникс, залетной гостьи из того счастливого края, где ворота неба распахнуты, и нет за ними ни недугов, ни старости, ни гнетущего страха. Затем и размышления умника неизбежно перекинутся на земную юдоль. Он задумается о добре, которое изначально, и о преходящем зле. Но почему тогда, повсюду зло теснит добро? И почему у добра один лик, а у зла их множество? Есть зло естественное — от болезней, холода, утрат. Оно закаляет душу, ибо требует , усилий и терпения. Пережив его, человек становится тверже. Но зло нравственное опасно, как чума: оно опустошает сердце. Имена ему: злоба, алчба, коварст-во, обманутое доверие;... Прохожий вздохнет, не признав себя побежденным: бой добра и зла нескончаем:! Это и дает силы жить. ...Длилась свадебная ночь, полная надежд. Вокруг княжеского замка и вокруг из*бы, горшечника одинаково смыкался мир, тесный, как лукошко. Даже близкий лес, подступавший к самым городским стенам, похож был на заброшенный до утра дом. Стволы его скрипели, как незапертые двери... Тем временем новгородчанин Ядрейка, скинув с себя нарядный кожаный пояс с бронзовой пряжкой и подвешанными колечками, уже лежал в глубине полатей, подальше от соленых шуточек гостей, которые хотя и расходились, да по одному, все еще жалея, прервать праздничную беззаботность. Кладя Маремьянице руки в пазуху и беззвучно целуя ее в уста, он думал, между тем, что возвращаться к хлебопеку ему нет резону; большего, чем теперь, не 90 выслужишь* а много у старого черта не украдешь. Он догадывался, что наутро Нежил затеет разговор, чтоб молодым оставаться в Витебске, в тестевой избе. И готовился мысленно себя не продешевить, а прежде поломаться. Стоит ли перенимать горшечное ремесло, он еще не решил. Но парню, как он, дерзкому на язык и смелому в замыслах, везде путь-дорога. А то, что его свадьба совпала со свадьбой князя -— тоже пришлого! — мнилось счастливым предзнаменованием (Ядрейка суеверно потрогал на груди каменную иконку Николы Льняного, покровителя удачливых людей, зашитую в ладонку). Затем коротко хмыкнул, предвидя для себя впереди лишь хорошее, и нежно сжал Маремьяницу длинными вороватыми руками. ...Но не знал он, что пришлый Ольгерд двадцать один год проживет в Витебске и уже через два года, по смерти Ярослава Васильевича, начнет украшать город, возводить вокруг него каменные стены, а затем и храмы Благовещенья в Нижнем замке и Святого духа за ручьем, в поле. И что Ядрейка по переимчивости своего нрава бросит без сожаления и хлебопечение и гончарный труд, а сначала будет рубить камень в пятнадцати верстах выше города, где Двина называлась местными селянами Рубой, а потом наймется возить тот желтый пористый известняк на плотах; научится складывать из него дома, укрепив в фундаменте заговоренные валуны. Постепенно и он, неуемный, растеряет пыл молодости. Но зато признан будет повсюду знаменитым мастером, так что получит право оттискивать на сыром кирпиче собственное именное клеймо — и кирпичи те по сию пору целы! А Микитце, тихому брату Маремьяны, тому, что спит сейчас на нарах ниже молодоженов, наевшись вкусной снедью и видя во сне по-прежнему куски бересты и липовые обрезки, на которых углем или писалом наносит без устали скачущих всадников и языкастых зверей с закрученными хвостами,—=• этому самому Микитце суждено расписывать изнутри тот неувядающий храм Благовещенья, шестистолпный, крестовокупольный. И долго будут светиться на стенах краски, розово-жёлтые с зеленоватым оттенком и лилово-синие, как вечерние облака над Витебском. Пока бег веков не погасит их. Лишь тогда окончательно отлетит от старых камней Микитцина душа и рассеется по обширному миру... Шаг к Ватерлоо Возвратись ввечеру из должности в губернской палате, коллежский советник Гаврила Иванович Добрынин — старик язвительный и многоумный,—г уселся за письменный стол, чтобы при свете июньской зари занести в тетрадку мемуаров очередное событие. «Уроженец из Корсики,—написал он,— по имени Наполеон Бонапарте; по счастию и деятельности император французов; по проворному властолюбию покоритель Германии, Италии, Польши, Голландии; по стечению обстоятельств увенчанный славою — приближается уже к границам России». Отложив гусиное перо, Гаврила Иванович подошел к окну, чтобы прикрыть раму й тем защититься от летящей мошкары. Он бросил рассеянный взгляд на деревянные строения соседских домов, на свой садик, близкий к речному обрыву, на весь мирный угол, где : приютилась его холостяцкая обитель, полная тишиной и непотревоженным уютом. «Ужель,— подумал он го-I рестно,— надлежит вскоре схватить на плечи котомку г по примеру троянца Энея и оставить сии пенаты? »- * .*к * Июнь — месяц гроз — и полтора века назад оказал-| ся распахнутой дверью в войну. I Перешагивая границы России в самое цветущее ! время года, не мыслят ли ее враги, что сама природа ^поможет их замыслам, подтвердит надежды на ско-I рый победоносный марш? Ведь зеленые луга выглядят ? столь приветливо. Реки текут так плавно. А сень лесов & мнится почти дружелюбной... | «Сила не знает ни ошибок, ни иллюзий»,— любил (повторять Наполеон. И все-таки в этот предрассветный короткий час, когда едва погасший запад мешался |в отражениях Немана с уже белеющим востоком, его 95 посетила иллюзия, будто июнь 1812 года брошен перед ним наподобие козырной карты. Оставалось — сыграть. По трем наведенным мостам на правый берег переправлялись дивизии; кавалерия- сменялась пехотой. Двое суток безостановочно, как барабанная дробь, раздавался цокот копыт и бравый шаг полумиллионной армии. Наполеон всегда был суеверен. Силой воли он заставлял себя переступать через дурную примету, но она надолго торчала в памяти занозой. Когда-то, уже очень давно — потому что наполеоновский век был спрессован событиями более плотно, чем течение того же времени у других людей,— четырнадцать лет назад, при начале египетского похода, его корабль «Орион», покидая французскую гавань, задел килем дно. И что же? Поход оказался бесконечно несчастливым. Отступив от сирийской крепости, которую он так и не смог взять, генерал Бонапарт шагал по пустыне. под безотрадным'солнцем впереди солдат. Он шел, как заведенная кукла, не позволяя себе обессилить. В удачливой судьбе Наполеона вообще было много отступлений и потерь. Он умел их скрывать, как скрывал и прятал на теле раны (уже на мертвом их сосчитали по старым рубцам). Высокопарными воззваниями, дерзостью, уменьем маскировать истинные чувства, он убеждал себя и остальных, что средоточие удачи находится не во вчерашнем дне, а в завтрашнем. Ему верили и за ним, шли. Если страстно желать воплощения воздушных замков, то они в самом деле начинают обрастать камнем и бетоном... Без колебаний бросив тогда обессилевшую армию, чтобы самому бежать во . Францию, Бонапарт сорок семь ночей при полном безветрии крался в тумане мимо сторожевых- судов английского флота. Днем его 96 два корабля стояли неподвижно; англичане принимали их за рыболовов. Сорок семь суток бездействия для пылкого корсиканца! И представьте, он оказался весьма терпелив. Ведь ему нужно было снова переиграть фортуну. Риск, вечный риск — таков многолетний девиз его жизни. «Надо ввязаться в бой — а там будет видно!» Но вернемся к приметам. На неманском берегу его сбросила с седла лошадь: испугалась зайца. Несколько мгновений он неподвижно лежал в густой траве, хотя остался невредимым и даже не ушибся. Пока спешила на помощь свита, у императора защемило сердце от дурного предчувствия. Но он сделал над собою усилие, легко вскочил на ноги и обернул ко всем усмехающееся лицо. У‘Наполеона был маленький, сильно выдающийся вперед подбородок, тонкий нос, похожий на лезвие, красивый, щедро вылепленный лоб и водянистые глаза с неподвижно прямым взглядом. Пульс его бился всегда’ одинаково точно: шестьдесят ударов в минуту. * * Дом вдовы генерала Северина был поставлен по витебским понятиям на широкую ногу. Двухэтажный, с закругленными по-итальянски окнами,— стеклышки расходились веером в полумесяце оконницы,— с опрятной крышей и двумя белеными домовыми трубами, он вызывал ощущение довольства и невинной спеси: хозяйка принимала у себя лучшее общество. Раз в году, в день именин, она начинала бал кадрилью с герцогом Вюртембергским. Герцог переехал на 'жительство в Россию к своему племяннику императору Александру и два года назад был им назначен военным начальником трех губерний — Витебской, Могилевской и Смоленской. Еще не старый, бравый, 4 .За к* 708 97 сорокалетний любитель пирушек и лошадей, он охотно хватался за все, что могло бы расшевелить провинциальную скуку. Его жена ради дочери Фредерики-Антуанетты и двоих сыновей, восьмилетнего Александ- 1 = ра-Фридриха-Вильгельма и пятилетнего Эрнста-Кон-стантина, часто устраивала детские праздники; зимой святочное катанье- на санях, летом лодочные прогулки и пикники в лесу. , В кадрили она шла второй парой с сыном хозяйки дома Юрием, которого все звали на модный французский лад Жоржем. Герцогиня милостиво улыбалась юному кавалеру и мела длинной юбкой по навощенному паркету. (Паркет был тоже редкостью в Витебске, как и штофные обои; даже в лучших каменных домах | [. стены обмазывали охрой, синькой, а то и простой глиною.) Юрий исправно. кружил даму. Он был причесан и одет по-взрослому, -в недавно сшитом фраке, изготовленном лучшим витебским портным Тойхелевд: Малкиным. Однако он не ощущал себя полностью счастли- 11 вым: во-первых, вместо штатского платья ему не'| терпелось надеть мундир и покрасоваться в. нем,-^— по | крайней молодости в том лишь и видя смысл военной | службы! — а во-вторых, вместо кругленькой, как гол- | ландский сыр, герцогини мечты рисовали ему рядом с собою совсем иной облик. Последние месяцы он перестал торопить мать ^ с поездкой в Петербург, где та намеревалась возобно- • вить связи покойного генерала и при помощи прежних | друзей определить . сына в гвардию. Причина была |ж проста: в четырех верстах от города на берегу озерца, 11 окруженного соснами, жила знакомая Юрию еще по | детским танцевальным утренникам Надежда Аркадь- | евна Лукомская,' дочь заседателя земского суда, вла- | дельца небогатой усадьбы. . | Романтически встречаясь в лесу у поваленного | 98 !• 3 ствола,— Юрий приезжал верхом, а Наденька приходила. с корзиночкой для ландышей,—• они прогуливались по тропинке рука об руку и рассуждали о многих туманных и возвышенных предметах. — А знаете, Наденька,— сказал однажды Юрий, торопливо идя к девушке, которая столь же стремительно спешила ему навстречу с неизменной цветочной корзинкой в руках.— Вчера вечером у губернатор-. ши Сумароковой говорили, что нам надобно ожидать войны с французами. Государь недоволен императором Наполеоном: тот подстрекает поляков к бунту. . — Какой ужас! — воскликнула Наденька.— Но если будет война, мы не сможем видеться так часто, не правда ли, Жорж? — Увы, да. Тогда я вступлю в полк и буду защищать отечество,— приосанясь, ответил юноша.— Как вам кажется, мне будет к лицу красный доломан и ментик с опушкой? — Неизвестно, к какому полку вы будете приписаны,— рассудительно отозвалась Надежда Аркадьевна.— Ах, если б в кавалерию! Надеюсь, вам позволят взять с собой коня, вы ведь не расстанетесь с каурым? Могу ли я думать, что вы столь забывчивы? — прибавила она со,:значением. — О, никогда! — с жаром отозвался он.— То для меня свято, что связано... Но смущенная девица уже спешила к привязанному поодаль каурому. — Я должна побранить вас, Жорж. Вы до сих пор не велели отвести бедняжку к кузнецу. Смотрите, он потеряет подкову. Как истая деревенская жительница, Наденька отлично разбиралась в лошадях, сама была хорошей наездницей и с удовольствием скакала бы всякий день навстречу Жоржу, красуясь зеленой бархатной амазонкой и шляпкой с перышком, если б не стыдилась со- 99 знаться, что ее верховая кобыла несла кроме того и иные обязанности в . отцовской усадьбе. А амазонка досталась от старшей сестры, когда та, расплывшись после замужества, делила гардероб. Бедность до поры не очень угнетала Наденьку. Ей радостно было бегать простоволосой по лесным полянам и собирать ягоды, аукаясь с дворовой девкой. Или, поднимая чуть не до колен кисейное платье, вскакивать в лодку и грести по мелководному озерку, заросшему кувшинками. , Училась она поверхностно: то у гувернантки, пока нанимали для обеих дочерей, а потом в пансионе у мадам, выдававшей себя за француженку. Овдовев и перенеся легкий удар на почве расстройства, отец забрал дочь домой, вышел в отставку и, как умел, занялся хозяйством, чтоб прокормиться им обоим. Так, не достигнув еще пятнадцати лет, Наденька неожиданно сделалась хозяйкой дома: ведала кладовыми, следила, чтоб содержался в порядке сад с огородом, самолично считала фураж на. конюшне и запасала к зиме корм скоту. Климат в Витебской губернии был хоть и умеренным, но непостоянным, и не при-, ходилось надеяться на хорошую жатву: на всякие восемь лет здесь, по обыкновению, два случаются хорошими, три. посредственными и не менее трех без-урожайными. А после одного мокрого и другого сухого года в третьем непременно ударят ранние морозы. Как и ожидалось в этом, 1.812 году... Не видясь с Наденькой более двух лет, Юрий тем не менее тотчас узнал ее, когда небольшая компания сверстников устроила в окрестном лесу верховую прогулку. Наденьку уговорили, принять ' в ней участие, и, недолго отнекиваясь, она отлучилась на полчаса, а вернулась уже верхом, в зеленой амазонке, восхищая юнцов смелой посадкой, неутомимостью: в скачке и нежеманным обращением. 100 Когда Юрий зачастил в усадьбу, каждый раз неловко объясняя визит тем, что ему «по дороге» — хотя никакие дороги не. вели к глухому уголку! — отец желчно выговаривал Надежде .за неуместность подобного приятельства: «Тебе до генеральского сына не дотянуться. Ее превосходительство матушка —: дама спесивая, а барчонок глуп или распутен. Берегись, дочка!» Тогда-то и возникли, как заслон против злого мира,— уколы которого стала уже ощущать на себе Наденька, но нимало не понимал еще Жорж!— тогда появились и поваленное дерево в лесу, и маскировочная корзинка. Что касается Жоржа — иначе Юрия, то он слыл в' своем кругу малым пустым, хотя и добрым. Суждение не совсем верное: жизнь пока что не потребовала от него упорства или серьезности. А доброта его была сродни покладчивой лени; словно большое дитя, он лишь доверчиво озирался по сторонам, легковерно принимая то, что велят старшие. Увлечение верховыми прогулками — и все в одну сторону, по одной дороге! — стало его первым самостоятельным шагом. Так счастливо протекал для них июнь, месяц гроз, русское подлетье. * ас * Тридцатидвухлетний немец, адъютант принца Августа, Карй Клаузевиц приехал в Вильну с рекомендательными письмами к генералу Фулю. Генерал никем не командовал, но он преподавал основы военного искусства императору Александру, который сам не служил в действующей армии и тоже не имел никакого командного стажа. Однако именно им двоим была поначалу вручена судьба русской обороны: Александр 101 объявил себя главнокомандующим, а по плану Фуля создавался укрепленный лагерь на Дриссе. Представившись царю, Клаузевиц очень скоро понял, что, обладай, тот большим знанием людей, он не проникся бы столь безграничным доверием к человеку, подобному Фулю, который много лет вел замкнутую кабинетную жизнь и за шесть лет проживания в России не научился русскому языку и даже не; ознакомился с построением армии! Все его планы оказались не применимы' к масштабам настоящей войны. Клаузевиц, посланный инспектором в Дрисский лагерь и раздраженный всем, что он там увидел, записал в памятную книжку: «То, что важно для пространства в сто миль, может оказаться иллюзорным на пространстве в тридцать». Карл чувствовал себя крайне унизительно: русские офицеры, коль скоро он тоже немец, считали его сторонником Фуля! Не было иной возможности завоевать их уважение, как только служить верой и правдой. В Дрисском лагере русские пробыли не более шести дней: он оказался решительно не пригоден для задержания противника. И место неудачно, и мало войск. Наивно было надеяться, что Наполеон, обладавший по словам современников «чисто демонической» способ" ностью разгадывать намерения противника, попадется в примитивную ловушку. Чтобы представлять из себя сколько-нибудь серьезную силу, русской, армии, разделенной сейчас по плану Фуля на три части, следовало как можно быстрее соединиться. Осуществить этот маневр можно было лишь при отступлении, и Барклай де Толли приказал отступать. Он торопился, потому что французы могли перерезать московскую дорогу. На Клаузевица генерал произвел такое же незаслуженно отталкивающее впечатление, что и на .102 остальных. Это был сухопарый пятидесятилетний человек с начесанными височками и почти голым черепом. Взгляд его был тяжел и проницательно-на-смешлив. Множество орденских звезд и крестов, полученных за сражения с турками, шведами и поляками, были приколоты, будто напоказ, к мундиру, начиная от застежки высокого воротника; шляпа в разноцветных перьях казалась слишком нарядной, а прекрасно начищенные сапоги с серебряными шпорами словно и не пробовали дорожной грязи. Он был измучен и удручен, возможно даже более других, но не показывал этого. Посреди общего недоброжелательства Михаилу Богдановичу оставалось утешаться мыслью, что он не растерял вверенных ему войск и удержался от угодливости перед царем. С Клаузевицем Барклай говорил холодно и поспешно. По его просьбе он прикомандировал его к графу Палену, который стоял во главе арьергарда. Корпуса и дивизии Первой армии, уклоняясь от боев, двигались к Витебску; там ожидалось спасительное соединение с войсками Багратиона. Клаузевиц с беспокойством думал, что этот не слишком поспешный десятидневный марш мог бы и не состояться, если б не такая же непонятная медлительность Наполеона. Но с первых же дней французский император ждал двух необходимых ему событий — генерального сражения и просьбы о мире. В Вильну действительно приехал генерал Балашов с поручением от Александра, но никакого смирения он не выказал. «Неужели вы думаете,— нетерпеливо воскликнул Наполеон,— что я привел столько войск, чтобы только посмотреть на Неман?!» Сдержавшись, он спросил о дорогах. Балашов будто бы дерзко отозвался, что на Москву ведут многие из них; Карл XII выбрал дорогу через Полтаву... 103 Царь к тому времени уже объявил в приказе, что «не остается ничего иного, как поставить силы'наши противу сил неприятельских. На зачинающего бог!» Наполеон не терпел. патетических выражений у других. Он решил, что Россию следовало принудить к миру. Пока что его не настораживало, а только вызывало легкое недоумение, что русские рассеивались перед ним подобно дыму. «Великая армия» малым ручейком втекала в безлюдное пространство: местность была покинута, крестьянские хижины опустошены. Узкие проезжие дороги на пути к Витебску теснил густой лес. Иногда неизвестно откуда выскакивали отряды казаков— и как было против них действовать? Французы разворачивали линию — казаки мгновенно собирались в колонну и прорывали ее. Французы атаковали колонною — казаки рассыпались и охватывали со всех сторон. Карл Клаузевиц наблюдал и анализировал, но чувствовал себя глубоко несчастным: его знания оставались втуне! Петр Петрович Пален, назначив его начальником своего штаба, обращался с ним барственно-равнодушно. В общем, он даже понравился Клаузевицу: молод, решителен, с открытым характером и... говорит по-немецки! Со всеми остальными новый начальник штаба ощущал себя глухонемым: руководство боем проходило на его глазах,; но он не мог понять ни- слова из сказанного. Отвести душу удавалось единственно в письмах к жене. «Лишь год мы прожили вместе. Но при самом дурном обороте событий я еще не утрачу мужества. Счастье крепко обосновано в нас самих, и : никакая сила в мире не может разбить его полностью,’ пока мы оба останемся живы...» Он жаловался ей: «Страдаю от зубной боли, лезут волосы, а руки без перчаток обтя- 104 ШЯШ^ШШт 1И11Ш9ЁШ нуты желтой кожей. Приходится ночевать в сараях и конюшнях, и я уже три недели не раздевался». Витебск представлялся Карлу желанной передышкой, хотя он сознавал, что она не может быть долгой. Город поднимался уступом в белых зданьях, колокольнях, крышах, которые то спускались вниз, то карабкались по откосам. Все это нестерпимо сверкало на солнце, и лишь густая листва береговых зарослей умеряла зной чересчур жаркого лета. Войска в боевом порядке прошли по немогценным улицам, поднимая пыль между частыми домами. Штаб обосновался в особняке генеральши Севериной. Высший свет, к которому она стремилась, неожиданно оказался рядом. * .* * Мнение Пушкина о Барклае де Толли следует признать преувеличенно лестным («неколебим пред общим заблужденьем»). Барклай, как и остальные, переживал мгновения растерянности. Опередив французов всего на три дневных перехода, он вступил в Витебск с намерением дать перед городом сражение. По его расчетам вот-вот должен был подойти от Могилева и Багратион со Второй армией. Об этой встрече он думал почти с таким же беспокойством, как и о генеральном сражении. Багратион был человеком порыва, чуждый стратегическим комбинациям. Чернокудрый, стремительный (вечно торопящийся, как казалось Барклаю), с тонкими усиками над алым ртом, с ежеминутно вспыхивающими глазами, с крупным кавказским носом и громким гортанным голосом — он вызывал в «замороженном» Барклае неприятие и раздраженность. Даже храбрость его казалась вызывающей. Сложив с себя командование, расстроенный царь 105 лишь уклончиво рекомендовал Багратиону «входить в соглашения с Барклаем». Субординация оставалась неясной: у Барклая не было уверенности, что Багра- ; тион безоговорочно примет его планы и подчинится приказам. В частных письмах Багратион темпераментно осуждал все его распоряжения. Барклай родился в семье неимущего лифлянского пастора, начал службу в чине унтер-офицера; огляд-чивость была у него в крови. Он не тешил себя надеждой на удачный исход Витебского боя с противником, который более чем вдвое превосходил его численностью. Но и отступать уже не было мочи! Под ч градом всеобщих насмешек он считал себя вынужденным дать этот долгожданный бой. Однако его страшили в одинаковой мере и бесповоротное решение и тяжкая ответственность за последствия. — Неужели мы остановимся на безумной мысли сражаться на этих непригодных позициях? ;— улучив момент, взволнованно спросил Клаузевиц у графа Палена. Вместе с корпусом Дохтурова их арьергард последним, лишь спустя двое суток, вступил в Витебск. Петр Петрович, запыленный, не успев даже умыться, потому что сразу был вызван в главный штаб, нахмурившись, покачал головой. Он не мог отказать своему немцу в проницательности, хотя был глубоко уязвлен решением главнокомандующего. Вновь отступать! Как и остальные, он смотрел со слишком близкого расстояния. То, что, отступая, русская армия усиливается, еще никому не приходило в голову. Даже тактическая ошибка Барклая — замедленный марш к Витебску — могла быть объяснена инстинктивным нежеланием освобождать французам лишнюю территорию. А фраза, некогда вырвавшаяся у императора Александра в разговоре с французским послом Норбо- ном,— «за меня пространство и время» — была, по существу, случайной. Стратегией войны эта мысль стала лишь после Бородина... Витебск находился в смятении. Еще накануне гражданский губернатор Сумароков, племянник знаменитого драматурга, выступил с воззванием к жителям. Он напоминал, что хотя городу ниспослано тяжкое испытание, но любовь к отечеству горит во всех сердцах ярким пламенем. Это означало, что город намерены оборонять. Но прошла всего одна ночь, и генерал-губернатор герцог Вюртембергский произнес нечто совсем противоположное: он посоветовал жителям, в случае оставления города, не противиться неприятелю, в чувствах же и сердцах по-прежнему хранить долг верности своему государю... А произошло вот что. Барклай уже отправил царю донесение о готовящемся бое, как вдруг прискакал адъютант Багратиона поручик Меншиков. Второй' армии не удалось пробиться через Могилев, и соединения можно ожидать лишь под Смоленском — такова весть, которую он принес. Сам поручик был так измучен, что его пришлось снять с лошади. Белые рейтузы стали у него от пыли такого же серого цвета, как и сапоги. Его внесли в дом, и он немедленно уснул. Барклай созвал военный совет. Генерал Ермолов, еще недавно чуть не более всех рвавшийся в бой, теперь угрюмо сказал: — Нас спасет одно обстоятельство: фронт позиций прикрыт рекой Лучосой. Пока французы будут отыскивать броды, мы должны начать отступление. Когда генерал Тучков, страдая от такой необходимости, предложил было задержаться хоть до вечера, Ермолов резко прервал его: — Кто поручится, что до вечера мы не будем уже 107 разбиты? Разве Наполеон обязался оставить нас в покое до ночи?! Барклай постарался утишить спор генералов. Мучаясь мигренной болью, он потирал, крупными сухощавыми пальцами костистый лоб. — В таких обстоятельствах сражаться под Витебском нельзя,— сказал тусклым голосом с сильным акцентом,— сама победа не принесла бы нам пользы. Пожертвовав двадцатью пятью тысячами человек, мы бы даже не смогли преследовать неприятеля,— На не^-сколько секунд он запнулся перед тягостным решением: — Оставление Витебска беру под собственную ответственность. Генералы молча нагнули головы. Они впервые ощутили нечто похожее на признательность к главнокомандующему. Его хладнокровие при отчаянном положении было чрезвычайно уместным. * н? * Не только французские солдаты носили в своих ранцах маршальский жезл. Русская армия тоже знала удивительные возвышения. Алексей Карпов, происхождением из' солдатских сирот, начал службу артиллеристом в 1805 году и через семь лет дослужился до фельдфебеля. Ему еще было невдомек, что это не вершина его карьеры. Что он будет сражаться под Смоленском, под Бородином, под Малым Ярославцем, под Люцином, Кульмом и Лейпцйгом и еще обстреливать десяток или два крепостей, ибо его послужной список — поистине вся история Отечественной войны! Что он вступит в Париж и при этом не будет ни разу ранен, не попадет в плен и ни на один день не отлучится с места службы. За^ кончит же ее подполковником, командиром артиллерийской бригады. 108 Под Витебском Алексей Карпов был еще очень молод; два года назад он впервые почувствовал склонность к девушке Маше, но его часть отвели, и Маша осталась в мечтах. Алексей любил книги и делал из них выписки. А вскоре начал сам вести дневник походной жизни, не только отмечая события, но и размышляя над ними, иногда очень смело. Ему приходилось наблюдать близко царя, великого князя и генералов. Эти встречи оставляли часто чувство горечи, а то пробуждали и еле прикрытую насмешку. . Вот как пересказывал он эпизод, коего был свидетелем в марте 1814 года, уже на подступах к Парижу: «Бесполезную атаку, в которую государь бросился, после льстецы чрезвычайно прославляли, но ни один из них не написал правды, может быть, потому; что в нынешнем веке действительно нельзя сказать правды. Льстецов щедро награждают, а за правду отсылают в Сибирь в вечную работу... Перед моими глазами было так: государь, видя два каре; неприятельской пехоты и сто человек кирасир, приказал своему конвою из ста черноморских и ста донских казаков атаковать. Казаки бросились, и находящиеся при государе более сотни разных офицеров тоже поскакали. И государь поскакал вперед самым маленьким галопом, почти на месте, осматриваясь назад, чтобы кто ни есть его удержал от сей чрезмерной храбрости. Один штаб-офицер, ехавший немного позади, сказал: «Государь, твоя жизнь дорога и нужна». Государь поворотил лошадь и скорей отъехал на прежнее м^сто... Вот вся храбрость». Офицерский чин поручика Алексей Карпов получил несколькими днями позже, в бою за Париж. Переправившись через понтонный мост, он сражался со своею частью в деревне Бовди и, после того как. у его орудий были разбиты лафеты, а дышловые ло- 109 шади пали, попросил разрешения отойти, чтобы переложить пушки. Генерал разрешил и тут же сам получил , рану в спину. («Где я стоял, сражение было подобно аду»,— бегло замечает Карпов.) Едва выйдя из деревни, Карпов наткнулся на Великого князя Константина Павловича, который вел отряд волонтеров и «неприличным образом ругал русского полковника.: Спросил с сердцем, куда я иду; я отвечал — в резерв. И показал на свои орудия, которые шли сзади меня. Увидевши все разбитое, приказал, поправивши лафеты, поскорее воротиться на то же место; спросил, как я прозываюсь... Обступили меня все офицеры и генералы, смотрели на людей и пушки,; и каждый сказал, что досталось как нельзя более. Я постоял с ними не более пяти минут, поехал за запасным лафетом и через три часа вернулся на позицию. Пальба стала утихать, и русские.взошли на Монмартр». Записки показывают Карпова человеком не только отважным, полным чувства долга, но и наблюдательным. Под Витебском был его первый бой. Здесь он увидел воочию, как его ядра убивали людей — это зрелище потрясло его. Когда французы подступили ближе, он опять-таки в первый раз стрелял картечью, и «сие смертоносное изобретение», прыгающее по земле, показалось ему «злейшей змеей». Сначала его рота стояла в крестьянских, избах, где от тесноты и худого продовольствия было много больных. Затем скорым маршем прошла Витебск. В городе Карпов успел только заметить вдоль обоих берегов Двины небогатые дома жителей да за шоссейной заставой по тракту тесно сбитые лачуги еврейской бедноты; покосившиеся, с ободранными крышами. . Кучи мусора валялись вблизи порогов, помои и нечистоты текли в канавах. Через ручей по грязному мосту безбоязненно переходили коровы и свиньи. Несколько лучше выглядело Узгорье. 110 На Смоленской улице стояли двух- и трехэтажные дома с мезонинами. Широкая бугристая площадь уходила под гору. Издали Витебск показался Карпову намного привлекательнее, чем вблизи. Они заняли позицию в одиннадцати верстах. Созревали хлеба, нивы под копытами конницы и колесами орудий оставляли широкие просеки полегших колосьев. — Забудьте все, что вам дорого и мило, и думайте только о славе России! — крикнул командир, видя приближающихся французов. Их высокие гренадерские шапки с желтой перевязью и красным султаном запестрели совсем близко. Рота стояла от дороги по левую сторону на довольно высокой горе. Стрелки лежали во рву, орудия почти не были видны из кустарника. Карпов старался стрелять не торопясь, хорошо целясь. Он видел, как вокруг падали раненые. Поручику Пузыревскому на его глазах оторвало ногу в самом паху, его унесли еще живым, но к вечеру он скончался. Генерал Толстой-0стерман весь день удерживал подступы к Витебску. Бой продолжался до вечера. Когда к нему 'подскакивали командиры и докладывали о страшной убыли в ротах, он столь стремительно поворачивал к ним узкое худое лицо, что волосы падали на бровь. Припухшие веки не могли скрыть быстрых глаз, в которых оставалось еще много энергии и вспыльчивости. — Что делать? — переспрашивал он отрывисто.-^ Ничего. Стоять и умирать. В помощь ему подошла пехотная дивизия Конов-ницына. Она стояла в лощине, слева от того места, где расположилась рота Карпова. Все было так кучно, что Карлов видел и самого генерала в зеленом походном сюртуке со сбитыми набок эполетами. (Вскоре 111 тот стал любимцем Кутузова, который говаривал ему под Малым Ярославцем, где дрался и Карпов: «Ты знаешь, как я тебя берегу и всегда упрашиваю не кидаться в огонь, но теперь прошу очистить город».) Ко-новницыи гарцевал на беспокойной лошади и часто снимал черную треугольную шляпу с плюмажем, чтобы обтереть лоб. Было душно, парило. От беспрерывной стрельбы по земле стлался горячий дым. Собиралась гроза. Светлые волосы с невидной сединой и вздернутый нос придавали сорокашестилетнему лицу Коновницына выражение как бы молодого легкомыслия. И только вблизи можно было рассмотреть в противовес этому твердо сжатые губы и внимательные глаза под сведенными бровями. Когда уже в темноте рота Карпова ух.одила с позиций, чтоб присоединиться к оставляющим Витебск главным силам, они прошли совсем близко от Коновницына. При свете костра тот что-то писал на перевернутом барабане, чтобы отправить с уходящими. Это была записка жене: . • «Я не посрамился перед всеми,— торопливо писал Петр Петрович Коновницын,— был со стрелками впереди, имел против себя два корпуса и самого. Бонапарта, даже его сам видел — на белой маленькой лошадке без хвоста. От восьми часов утра до пяти часов вечера дрался с четырьмя полками и двумя батальонами гренадер против — смею сказать — 60 тысяч человек. Ни ты, ни дети мои за меня не покраснеют. Я целый день держал самого Наполеона, который хотел обедать в Витебске, но не попал и на ночь. Наши дерутся как львы... Мы в худом положении. Авось бог нас. невидимо избавит. Ты не думай, я охотно умру за мое Отечество... О наградах не думаем... Это дело не наше». В последнюю ночь с двадцать пятого на двадцать шестое июля на позициях оставался лишь арьергард .112 Палена да отряды казаков. Около одиннадцати часов звездное небо стало заволакиваться тучами. Пошел дождь. . * ж * С тех пор как герцог Вюртембергский лично представил Юрия Северина генералу Барклаю и тот сказал ему несколько учтивых слов о покойном батюшке, которого знавал, тотчас впрочем и отворотившись,— Юрий чувствовал непроходящую приподнятость духа! Внезапные удивительные события всколыхнули его существование. Вопрос о досрочном зачислении в полк пока отодвигался в сторону за другими спешными делами, но лицо юноши примелькалось среди свитских офицеров, и ему то и дело давали мелкие поручения, которые он исполнял с восторгом, скача на своем кауром в разные концы города. Щеки его загорели и обветрились. Манеры приобрели четкость. Когда стало ясно, что Витебск будет оставлен, и всю ночь, кроме движения войск, совершалось бегство жителей, смекалка Юрия была направлена на то* чтобы не уехать вместе с матерью в уже заложенной карете, а остаться в. городе и сражаться. Особенно его беспокоила судьба Наденьки Лукомской, которая оставалась в отцовской усадьбе, прямо на пути неприятеля. Несмотря на душную ночь генеральша была закутана в дорожные шали. Стоя на крыльце, она повторяла дрожащим голосом: — Жорж, мы все погибнем. Мон энфан, более медлить невозможно. Юрий поневоле занес уже ногу на ступеньку кареты, как вдруг, будто только об этом вспомнив, сказал, что в его спальне оставлен медальон с миниатюрным портретом отца. Генеральша перекрестилась. 113 — Он простит нас, глядя с небес. Голубчик мой, поедем скорее! Я велю Палашке или Кондратию припрятать. Ужели наши люди столь бесчувственны, что утаят?.. — Конечно, утаят!—вскричал Юрий, увидев для себя луч надежды.—- Маменька, заклинаю вас, поезт жайте! НевозмЬжно рисковать вашей жизнью. Я догоню верхом не позже чем спустя несколько мгновений. В это самое время к генеральше скорой рысцой подбежал Кондратий, который разведывал на углу, когда можно будет карете и следующему за ней малому обозу с кладью втиснуться в движение других отъезжающих дормезов, дрожек, кабриолетов и телег. — Ну, бог с тобою, Жорж. Не мешкай, я жду. Трогайте! Колеса застучали по неровному камню, которым была выложена мостовая насупротив дома средствами самой генеральши. Юрий обрел свободу. Поручив себя своему ангелу-хранителю и попросив его замолвить словечко относительно маленькой лжи — отцовский медальон лежал у него в жилетном кармане,— он бросился р распахнутые ворота к конюшне и выехал на кауром в сторону, противоположную общему движению. Ночь уже наступила, но во многих домах светились огни; слышалось торопливое заколачивание ящиков, скрип и стук повозок по улицам. Сворачивая в пустые переулки, Юрий вскоре выбрался из города, оставив позади себя на краю оврага последние темные лачужки. Жители ушли, если не вовсе из города, то к соседям, потому что кучей казалось не так страшно ждать своей участи. Под первыми редкими' каплями дождя он проехал полем, чтоб за ближайшим холмом поворотить на деревню Телятники. Однако стоило ему взобраться на 114 возвышенность, как он увидел множество разбросанных костров, словно расположилась на ночлег огромная армия. Не зная хорошенько, русские это или французы, он все-таки шагом спустился с холма и приблизился к ближайшему биваку. Кругом стояла полная тишина. Костер горел сам собой; дождь не залил его, но мокрые сучья шипели, и глаза Юрия защипал густой едкий дым. Чутко вслушиваясь, не раздастся ли откуда речь и какая именно, он поворотил к следующему. Но лишь возле четвертого костра заметил несколько фигур. Измучившись неизвестностью, он направился прямо к ним, минуя стреноженных лошадей. Бородатые люди в распахнутых красных мундирах, в штанах с лампасами, причудливо освещенные языками пламени, вскочили ему навстречу, оторвавшись от котелка, в котором булькала на огне каша. Прежде чем Юрий успел опомниться, в грудь ему уперлась казацкая пика. — Кто таков человек? — окликнул грубый недоверчивый голос. — Из города,— отозвался Юрий поспешно и обрадованно, понимая,'что плен у неприятеля его миновал.— А где же, братцы, войска? Костры повсюду пустые. Его обступили, разглядывая. — Быстрый какой, про войска ему докладай! — насмешливо отозвался один казак. — Может, он лазутчик? — засомневался другой, — Тащи его, ребятежь, в палатку! Не след выпускать. На ходу застегивая мундиры, трое казаков с сожалением оторвались от поспевающего яства и повели Юрия куда-то в сторону. Дождь припустил пуще. По пути они останавливались у покинутых костров и ше- 115 велили в них дрова, чтобы пламя не глохло. Юрий' смотрел на эти действия с удивлением. Палатку изнутри тускло освещал сальный огарок; Тут тоже только что отужинали: на разостланной бурке стоял медный чайник, железные кружки, блюдо с ломтями хлеба и нарезанной ветчиной, а также початая бутылка рому. Человека, который держал в руках большую серебряную чарку, готовясь осушить ее напоследок, Юрий тотчас узнал. Это был Петр Петрович Пален; хоть и позже других, но и он побывал в их доме, прежде чем направиться на позицию. — Добрый вечер, граф,— бойко сказал Юрий.-— Неч кстати испортилась погода, не правда ли? Пален с удивлением силился его разглядеть в полутьме палатки, пока один из офицеров не догадался поднять повыше пустую бутылку с прилепленным огарком. Увидев против своего носа этот самодельный шандал, Юрий заморгал. — А, это вы,— наконец сказал Пален, видимо с усилием припоминая.— Сын покойного генерала Северина, не так ли? Объясните ваше появление, молодой человек? Разве вы не должны были покинуть город вместе с матушкой? — Машап послала меня за сестрой,— вдохновенно соврал Юрий.— Она в усадьбе Лукомских, у подруги по пансиону. — Не время для гостей. Где же эта усадьба? — Очень близко, граф. В двух верстах от Телятников. Рукой подать! — А вы уверены, что там еще нет французов? — Совершенно уверен. Мы имели от сестры известие нынче поутру. Пален выразил на лице некоторое недоумение: как барышня могла сообщаться с Витебском через поле 116 боя, на котором в тот день в ожесточенном сражении погибло более тысячи человек? Но, видимо, мысли его сосредоточились на иных проблемах, и он не захотел отвлекаться в сторону. — Сколько может занять ваша поездка? — спросил он довольно рассеянно, что-то прикидывая в уме. — Не более двух часов! — воскликнул Юрий, чувствуя, что фортуна опять ему благоприятствует.- — Помните, что это крайний срок! Мои эскадроны уже отошли. Последние посты держат казаки, и им будет приказано. пропустить вас с сестрою. Французы едва ли двинутся раньше рассвета; благодаря обманным бивачным огням они убеждены, что вся наша армия на месте, и готовятся к генеральному сражению. Но мы переиграем Бонапарта! Пален набожно перекрестился, и все офицеры последовали его примеру. — Выпейте на дорогу, вам придется основательно промокнуть. Слышите, какой гром? Вы смелый юно^ ша. Когда воротитесь, пожалуй возьму вас к себе; ведь вы хотели определиться в армию? Ему плеснули в железную кружку остатки рома, и под яркой вспышкой молнии — отчего стенки палатки стали на мгновенье как бы • прозрачными,— Юрий, простившись, вышел наружу. Казаки провели его еще несколько десятков шагов, до узенькой речки с сожженным мостом, и поворотили обратно. Юрий один перешел реку вброд и стал сворачивать влево, как ему велели, чтоб не напороться на французов. Хотя он отлично знал, что для того, чтобы добраться до ■ Наденьки, а тем более вернуться с нею обратно, ему надобно более двух часов, но это не пугало его. Сильные порывы ветра и удаляющийся гром заглушили цокот копыт. Он беспрепятственно въехал в лес. 117 Уже стало развидневаться, когда Юрий понял, что заблудился. Ему казалось, что он едет параллельно дороге, но возможно это было и не так. В полумраке места показались ему совсем незнакомыми. ■ Неожиданно — так, что он даже вскрикнул,— разведя густые ветви> перед ним очутилось двое мужиков. Оба были стрижены под скобу, в лаптях и холщовых рубахах, с топорами, заткнутыми за пояса. Несмотря на жаркие дни на них были накинуты полушубки. — Мужички,— спросил он, оправясь от невольного испуга,— как мне выехать на дорогу? Оба задрали головы и молча его рассматривали. — А ты чего, от своих отстал? — спросил наконец один из них как-то глумливо и неприязненно.—Хран-цуз на дороге. Улепетывай, пока цел. Желаем мы нынче без бар подышать вольным воздушком! — Да ты пьян!—сказал в отчаянии Юрий.“ Добрый человек, объясни хоть ты, как мне проехать в усадьбу Лукомских? Неужели и там французы?! Боже мой, как же Наденька!, Все это он выкрикивал уже в каком-то ребяческом беспамятстве. Сказалось все — выпитый ром, бессонная ночь, таинственная мрачная обстановка леса, дрожь от сырости. В его голосе зазвенели слезы. •— Не езди, барич, пропадешь,— сказал сочувственно второй мужик.— Тропой к озеру, за стогами хоронясь, конечно, проберешься; Верст с пяток осталось. А лучше бы поворотить. Молодёнек еще с хранцузом-вражиной тягаться. Но Юрий уже не слушал. Вскоре чернолесье стало редеть и сменилось молодым сосняком. Копыта каурого застучали по сосновым корневищам гулко, как по паркету. Решив пробраться в усадьбу стороною, Юрий свернул на тропу к дощатому навесу, под которым хранились стога сена, накошенного с лесных 118 полян. Там же валялась старая перевернутая телега без колес, упершись дышлами в землю. Хотя небо посветлело, но утро вставало пасмурным, и в лесу сохранялся|>сумрак. Юрию почудилось какое-то движение возле дощатого балагана. Пожалев, что не попросил у графа Палена никакого оружия, он осторожно приблизился. Шорох тотчас смолк. — Эй,— шепотом окликнул Юрий.— Есть кто живой? Несколько секунд в ответ было лишь молчание. Наконец отозвался старческий дребезжащий голос: , — А ты сам чей будешь? Сонесчастный нам или из французских победоносцев? Голос этот показался Юрию смутно знакомым,, а странные обороты речи уже явно что-то напомнили. — Я еду из Витебска. Хочу разузнать про Луком-ских, живущих поблизости... Сдавленный стон прервал его слова. Звук.был так мимолетен, что Юрий не смог разобрать, кто его издал, но готов был поручиться, что не старик. С беспокойством он вглядывался в бледневшую темноту. Из-за перевернутой телеги отделилась бесформенная тень. Голова была непокрыта, а длинные полы халата мели по мокрой траве. — Не приближайся, незнакомец,— сказал старик.— Имей уважение к единственному пристанищу гонимых, ибо из хором мы удалились в кустарники и леса. — Гаврила Иванович! — воскликнул Юрий с удивлением.— Вы ли это? Как вы сюда попали? И почему вы не на усадьбе Лукомских? Там проводить ночь было бы намного удобнее. — Тсс...— прошептал Добрынин. Ибо это был он, сосед Севериных: их сады смыкались над обрывом к Витьбе.— Всеблагому провидению было угодно про- 119 должить жизнь мою до встречи с вами! Отойдем подальше, я должен поведать горестную повесть. Юрий проворно спешился и отошел, не теряя, между тем, из виду дощатый балаган и>опрокинутую телегу, где, как ему чудилось, скрывался еще кто-то. — Я' охотно вас выслушаю, любезный Гаврила Иванович. Но не скажете ли вы мне. прежде, что у Лукомских? Благополучны ли они? Добрынин посмотрел на него странным взглядом, неопределенно покачивая головой. О застрявшими в волосах соломинками он походил на театрального короля Лира, и речь его была сбивчива и туманна. — Славный, но больше того известный, Жан-Жак Руссо в книге-исповеди показал свою откровенность,— начал он торжественно.— Хоть знаю я, что жалоба моя не произведёт ни в ком жалости, скажу вам, сударь, в виде предисловия, что вся протекшая жизнь похожа на участь пловца, которого бурная погода отбивает в море, лишь только он приближается к желаемому пристанищу. Еще несколько дней назад ходил я по дорожкам в моем саду, не имея ни сна, ни аппетита и рассуждая сам с собою, что человек я устаревший, сражаться мне ни с кем не придется. Поэтому останусь я лучше в Витебске: здесь у меня домик с садом, а за городом огород с постоялым двором. Все это совокупно приносит мне годового дохода до пятисот рублей. Кто ж для меня, в замену этого, что где приготовил? Однако в ночи стучатся ко мне в двери. «Кто там?» — «Бумага от губернатора». Читаю: «В десять часов с получения сего выбраться советнику Добрынину и следовать в город Невель с делами и архивом своего присутственного места». Прихожу в свой департамент и нахожу все разрушенным: на столах нет сукон, на стенах ни портрета, ни часов. Внезапное зрелище поразило меня настолько, что тронуло припадком наподобие паралича. Однако я имел предпи- сание, а посему, собравшись с силами, на четырнадцати подводах повез дела. В Невеле нашел я весь Витебск с подобными транспортами. Некоторые выехали с женами и грудными детьми. Унылый маскарад, на котором танцевать никто не охотился! — Гаврила Иванович, скажите мне, что с Луком-скими?! —прервал его Юрий. Добрынин только взмахнул рукой, отстраняясь. — Имейте терпение, сударь. Дойдем и до них. Услышав это, Юрий решил покориться и слушать далее, одним глазом поминутно косясь на балаган. — ' Добрынин, между тем, продолжал: — По прошествии четырех дней я расчел, что мне можно еще съездить в Витебск, забрать последние вещи. Но уже, не доезжая верст десяти, захватили меня человек с тридцать конных французов и прежде всего потребовали вина и водки. Насандаливши носы, взяли моих лошадей с упряжью, из чемодана побрали белье, столовый серебряный прибор на одну персону и тысячу пятьсот рублей ассигнациями. Один, посмотрев на мой орден, снял его с шеи и уже ладился спрятать, но офицер возвратил мне. Я чуть не пал на колени перед великодушным начальником грабительства. Затем пешком дошел до усадьбы Лукомского и, опасаясь войти в дом, скрылся в темный угол каретного сарая, просидев до самой ночи. Под покровом мглы мы, сам-третей с хозяином и его человеком перетащили облегченную уже бричку версту, до ближайшей повети, где и спрятали до поры. Наутро герои просвещенного народа напали на дом Лукомского, начали все ломать, разбивать, схватили его самого. Юная дочь бросилась защищать несчастного отца, но схватила в объятия уже 'застреленного. Вид ее горя 121 смутил на миг французов, а я, улучив минуту, увлек ее подальше, будучи сам ограблен, без рубашки и панталон, в одном халате... ■— Где же она?! — закричал страшным голосом Юрий, отталкивая Добрынина и готовясь бежать. — Тише!—зашипел старик,—Мы прятались по лесам и болотам, пока не нашли пустой балаган. Здесь же она, здесь! И заплаканная Наденька вышла из-за телеги. * * н< Ночь с двадцать пятого на двадцать шестое июля Наполеон провел в лесу, в своей походной палатке. Сначала ему предложили ночлег в крестьянском доме. Он вошел, повел носом. • Кислый запах кваса и овчин ударил в ноздри, а шуршание вспугнутых тараканов на припечке вызвало легкий приступ тошноты. Струганые лавки вдоль стен тоже, носили следы неопрятности. По сравнению с этим жалким, покинутым хозяевами жильем прекрасный боровой лес, с прямыми стволами сосен, показался ему античным храмом, где краснеющие на закате колонны поддерживали купол небес. Наполеон был доволен проведенным днем. На своей половой англизированной лошадке он следил за боем с небольшого холма и то й дело съезжал на позиции. Он видел, как под огнем русской артиллерии его саперы ставили мостик, и кавалерия Брусье переправлялась по нему, а некоторые наиболее пылкие всадники бросались на конях вплавь. Следил с одобрением за французскими егерями, которые встретили подскакавших казаков и гусар залпами -из карабинов, и хотя были опрокинуты яростным наскоком в овраг, но две роты сумели на ходу перестроиться и отойти в полном порядке. Этот классический маневр восхитил 122 его, и, пренебрегая осторожностью, он поскакал к оврагу. — Какого вы полка? — спросил тем грубо-фамильярным тоном, который, как он знал, вызывал особый восторг ветеранов, напоминая о «маленьком капрале». — Девятого линейного, и все парижане!:— охотно отозвались ему, улыбаясь чумазыми лицами сквозь пороховой дым. — Молодцы, Каждый достоин креста,— произнес отрывисто. И тотчас повернулся спиной, зная, что солдаты вскидывают кивера на штыках, в знак восторга перед императором. Хотя день оказался кровопролитным, и Великая армия потеряла до трех тысяч человек, Наполеон с нетерпением ждал завтрашнего завершающего сражения. Он был невысокого мнения о Барклае, который, на его взгляд, не превышал среднего уровня русских генералов, и победа представлялась ему бесспорной. Ему льстило, что казаки, маленькими кучками и поодиночке, лихо отрывались от своих и подскакивали к подножью холма, чтоб только поглазеть на него. В то же время он ощущал и тайное облегчение от мысли, что завтрашнее генеральное сражение прекратит затягивающее движение в глубь страны; она оказалась против ожиданий пустынной и голодной. Французские войска уже больше двух недель питались одним мясом без соли и хлеба. Последний сносный провиант был в Гродно, где 1сороль Вестфальский, брат Наполеона Жером, человек недалекий и наглый, потребовал у города полмиллиона, порций хлеба, говядины и водки, а что недостало, бесцеремонно забрал в русских складских магазинах и помещичьих имениях. Наполеону приходилось намеренно закрывать глаза на мародерство: чтобы требовать порядка, армию надобно сносно кормить! Проезжая через какую-то дере- 123 вушку, он видел, как из растворенной церкви валил дым: посредине храма солдаты разложили костер и на железном листе пекли картошку, поддерживая пламя осколками икон. На клиросах были навалены ржаные снопы, а на вбитых в иконостас гвоздях висела конская сбруя. Он лишь усмехнулся, увидев, что обозная кляча, покрытая парчовой ризой, ела овес из купели, в которой крестят новорожденных. Наполеон не отличался набожностью; при его армии не было ни одного священника. Однако то, что солдаты вынулсдены питаться конским отваром и немолотым жареным зерном,—потому что русские крестьяне, разбегаясь, разрушали мельницы,— беспокоило его. * Но вот все это должно было окончиться. Витебские колокольни уже стояли перед глазами. До тех пор, пока не стемнело окончательно и не пошел ■ дождь, Наполеон все прогуливался в одиночку с непокрытой головой, между деревьями. Затем вошел в свой пятикомнатный шатер из полосатой бело-зеленой шелковой материи, прошел приемную и укрылся в спальне, кликнув предварительно Бертье, у которого тоже было здесь помещение. Дежурному адъютанту он приказал разбудить себя лишь в случае плохих вестей. Свитские же офицеры, которые расположились поужинать позади шатра, прямо на траве, расстелив зеленую сафьяновую кожу и уставив ее серебряными тарелками и золочеными кубками, должны были поспешно укрыться от дождя в шалаши. Вскоре сквозь еловый лапник засветились огоньки свечей;: где-то стали играть в карты. А в сенном сарае, уединившись в уголке, мечтательный, тоненький, как хлыстик, маркиз Пасторё, скинув мундир и оставшись в белой сорочке, наморщив лоб, сочинял стихи. Ему не сравнялось еще и двадцати лет; поход в Россию был его первым жизненным приключением. 124 Он вел путевой журнал и, будучи добрым сыном, часто писал родителям в Париж, зная, что письма развлекут ироничного отца,— бывшего министра короля Людовика XVI, а ныне профессора в коллеж де Франс,— и успокоят мать, даму сердобольную и деятельную — впоследствии городская ратуша установила ее бюст, как учредительницы первых детских яслей во Франции. Муз^ не давалась ему в тот вечер, и Амедей Пасторе' обратился к прозе. Он достал из дорожной клади изящную тетрадь в атласном переплете с замочком и записал впечатления дня: «Русские, отступая, не переставали нас тревожить: накануне вступления в,Витебск мы;стояли бивуаком на берегу Двины, а казаки ночью перешли реку и увлекли двух человек, спавших возле сарая, в котором мы с Дарю и несколько офицеров свиты ночевали...» Ночной дождь освежил воздух; изнуряющая жара наконец схлынула. Пасмурный рассвет застал французскую армию на ногах, готовой к бою. Слышались уже и ружейные выстрелы и первые пушечные залпы, когда Наполеону, который завтракал во рву в двух верстах от передовой линии, доложили, что сражаться не с кем: окрестности пусты, город открыт. Войска Барклая словно испарились вместе с ночными тенями, оставив лишь головешки костров. Так, ранним утром двадцать шестого июля, передовые беспрепятственно вошли в город, экскадрон егерей и эскадрон мамелюков, разодетых, как елочные солдатики; на лошадях цветные попоны, ветер колыхал у всадников плюмажи высоких шапок. Они подыскивали помещения для императора, штаба и военачальников. Главные силы вступили по улицам Заручевской, Замковой и Смоленской. Выстроившись по обеим сторонам, сложив ружья в козлы и скинув тяжелые ран- цы, солдаты приветствовали императора. Он въехал в Витебск в семь часов утра. На нем был походный сюртук поверх зеленого мундира со звездой и треуголка без пера, чем он сразу выделялся из разряженной свиты. Проехав Смоленскую улицу, он пустил лошадь галопом по Петербургской дороге и проскакал версты три, осматривая местность. Хорошее настроение не покидало Наполеона. По пути к губернаторскому дворцу, откуда, как ему передавали, лишь накануне поспешно бежал герцог Вюртембергский, он весело кивал и кланялся горожанкам, которые, осмелев, выглядывали из. окон. Взбежав по ступеням крыльца, он вошел в первую .комнату и, отстегнув шпагу, бросил ее на стол поверх беспорядочно наваленных карт России. ■—■ Господа,— сказал он громко,— кампания 1812 года окончена. Здесь я остановлюсь, дам отдохнуть армии, устрою Польшу. Будущий год докончит остальное. Затем поднялся на третий этаж и вышел на .балкон* чтоб принять парад. Так как площадка оказалась мала, спешно снесли несколько домишек и разобрали стены начатой церковной постройки. На высоком балконе маленький Наполеон казался еще меньше. Но его видели все, до мельчайших подробностей, стоило ему лишь появиться. Такова магия славы, она подобна увеличительному стеклу. Несмотря на то, что дворец был обширным,— он строился на самом возвышенном месте горы и шел уступами, следуя рельефу берега,—всему окружению императора места там не нашлось. Амедей Пасторе поселился в покинутом домике какого-то чиновника. За домом был тенистый сад и обрыв к реке Витьбе. Это обещало поэту уединение, если б не его новый пост. После того как генерал Коленкур велел -созвать дворянство и избрать депутацию к императору, во ■а. главе витебского самоуправления встала группа людей, которая очень скоро выявила полное свое неумение. Русский комендант Витебска, оставленный за себя .. еще герцогом Вюртембергским, граф Храповицкий, * некогда фаворит Екатерины II, не вынес волнений й первых дней и помешался. Его жена, женщина в обычное время здравомыслящая,. впала в полное отчаяние от мысли, что, кроме того, может лишиться имущества, и сутки стояла у дверей дома, потчуя неприятельских солдат вином, чтоб они только не переступали | порога. Все это породило среди обывателей тревожные слухи. Между тем Витебск оказался процветающим городом, полным неразграбленных запасов, и обещал французам веселую зиму. Требовалось лишь навести порядок. У того самого окна, где так недавно Гаврила Иванович Добрынин с гусиным пером в руке высказывал предположения о скором нашествии «уроженца из Корсики»,— ныне Пасторе, только что назначенный интендантом-губернатором, писал следующую главу витебской истории. В атласной тетради заполнялась страница за страницей. «Император, в интересах которого было отодвинуть как можно далее пределы Польши, притворился считать Белоруссию польской страной и применил слово «освобождение». Он пользовался обаянием громких имен: в витебское самоуправление избраны князь Павел Сапега, князь Радзи-вилл, граф Борг из лифляндского рода, Шадурский и | Вейсенгоф, Шитт — дворянин из уважаемой семьи. | Я был назначен гражданским губернатором провинции, 1 а военным губернатором принц Невштальский посадил | генерала Шарпантье... Поставленный в крае незнако-I мом, среди населения, язык которого мне неизвестен } и обычаи чужды, покинутый членами комиссии, я ис- 127 пытывал затруднения. Одно мое счастье, меня выручало! «Обращайтесь с Белоруссией, как с союзной страной, а не как с подданной,— сказал мне император и прибавил: — В общем, поступайте с ней как можно лучше». Никогда инструкции не заключали такого простора и никогда не было так трудно их выполнение...» В этот момент раздался стук в дверь, и Пасторе с дбсадой оторвался от записей. Вошел ординарец, который доложил, что со вчерашнего дня в дом явились два неизвестных человека: один старик, в халате и босой,. а другой юнец, в кр’естьянском армяке, подпоясанном веревкой, за пазухой он хоронил топор. Ночь оба провели в. саду, в баньке, а теперь слуга Роман утверждает, что это его господин вернулся из бегства и ему надобно одеться и обуться. Пасторе приказал привести обоих. Первым вступил через порог Гаврила Иванович, облаченный в сюртук, взятый напрокат у слуги. Юрий отставал на шаг, изо всех сил стараясь притвориться деревенским увальнем согласно своей новой одежде. А как она ему досталась, мы расскажем в особом месте. Гаврила Иванович был удручен. Его столь склонная к порядку душа возмущалась тем, что решетки, отделяющие сад от подворья, поломаны и разбросаны, везде вокруг дома проломы, а сад превращен в конюшню и пастбище. Слуга Роман перед первым набегом неприятеля схватил в замешательстве несколько пар чайных чашек, банку липцу и других мелочей и зарыл на грядах. Но солдаты тотчас приметили копаное свежее место, чашки разбили, а что поценнее унесли с собою. Пасторе подставил посетителю стул и говорил с ним через переводчика. Добрынин тотчас дал о себе справ- 128 ку,—'КТО он и что с ним при окончании пути случилось. — А этот юноша? — спросил Пасторе, указывая на Юрия.— Почему при нем холодное оружие? Добрынин поспешил уверить, что сие лишь плотничий инструмент, называемый топором, а парень приведен из деревни для починок в доме. Он не образован, но знатный мастер по дереву. Пасторе вполне удовлетворился ответом, угостил обоих вином из стаканов добрынинского буфета и, отпуская, сказал: . — Наш государь вашёму государю друг. Скоро все прояснится. А вы, как служили одному, так можете служить и другому. Язвительный Гаврила Иванович, хоть и нашелся бы что на это. ответить, но, чувствуя, как участь его похожа на Лесажева Жиль Бласа в подземельном жилище у разбойников, встав со стула, лишь поблагодарил немым поклоном. Рюмка вина при предыдущей диете разлилась по внутренностям горячим пламенем. Однако его рекомендация Юрия, как плотника, не была забыта Амедеем Пасторе и сыграла впоследствии странную роль. * * # Бесспорно, что все на земле живет и развивается •по определенным законам; и как бы часто их не нарушали— они остаются законами. Молодость у человека украшена иллюзиями. Индивидуальность каждого сказывается лишь в том, как скоро или сколь медленно движется он по ступеням взрослости. Наполеон распростился с молодыми иллюзиями раньше, чем достиг двадцати трех лет. И не столько ранняя борьба с бедностью состарила его душу. — мало ли мы знаем нищих мечтателей! б Зак. 708 129 Но гораздо более, непереносимая обида, нанесенная его еще чувствительному сердцу Паоли, идолом его первых революционных устремлений, национальным героем Корсики, который не принял ни шпаги, ни верности молоденького французского лейтенанта. А, между, тем, Франция долго оставалась чуждой Бонапарту. Он учился в ее школе, носил ее мундир, но все его честолюбие устремлялось назад, к миру детства, к запутанным счетам родства и вражды кланов, к мизерной по размерам, донельзя провинциальной Корсике. Только там ему хотелось блистать и начальствовать. Признание друзей детства казалось важнее продвижения по службе в полку. Оливковая бледность лица, столь чужеродная среди французов, ничуть не выделяла Наполеона среди земляков-островитян. Он стремился тогда к двум противоположным полюсам: хотел быть, как все, то есть не хуже, не беднее, не некрасивее окружающих , его молодых людей — и в то же время оставить их далеко позади, вырваться вперед, утвердить свою особенность .и непохожесть. Его тщеславие, вынесшее столько ударов с первых самостоятельных шагов, возможно удовлетворилось бы вполне масштабом острова,— но Корсика в лице Паоли закрыла перед ним двери, объявила вне закона и заставила. бежать. «Эта земля не для нас» — переслал он с гор, где прятался, записку матери. ; Сколько горечи в этом признании! Ведь еш;е так недавно он был уверен, что «не для него» только Франция! Наполеон оторвал Корсику, как присохший бинт. Жизнь требовалось начинать сызнова. Что из того, что внешне почти ничего не произошло? Просто нерадивый младший офицер возвращался из затянувшегося отпуска. Внутренне он стал совсем другим. Его расчеты, устремления, даже идеалы повернулись отныне к 130 Франции. Восхождение началось еще не тогда, не сразу, но он не пропускал уже ни одного случая. Когда это кажется ему необходимым, он пишет и издает революционные брошюры. Или стреляет из пушек по контрреволюции в Тулоне. Будучи в близком знакомстве с младшим Робеспьером, после казни обоих братьев и переворота, Бонапарт не только без смущения посещает, но вскоре выдвигается в светском салоне их убийц. Он уже генерал, но еще без армии. Уже не жених добродетельной марсельской барышни, которой долго писал традиционно пылкие письма («Твой на всю жизнь!»), а скоропалительный муж «авантюрьерки» Жозефины Богарне, вдовы гильотинированного революцией генерала. Какая цепь перемен! Но можно. ли считать его двуличным? Едва ли. Скорее всего он поступал вполне искренне. Искренне искал самого себя в. водовороте истории. Чтобы главенствовать на Корсике, ему достаточно было оставаться корсиканцем — обладать ограниченностью ума и преувеличенными страстями. Но, чтобы возвыситься во Франции, надо было встать вровень со всей противоречивой ухабистой эпохой: сначала плыть на волне термидора, а затем, почти не переводя дыхания, нырнуть в гущу вандемьера. Один из этих символических месяцев занес над революцией нож; второй ударил им сзади. Человек редко в состоянии оценивать собственные поступки: жизнь захлестывает, и он не хочет захлебнуться! Куда пловца прибьет, выяснится лишь впоследствии... Лето 1800 года было, может быть, наиболее полным разочарований для Бонапарта за всю его тридцатилетнюю жизнь. Желая разбить Австрию, он повел армию по альпийским ледникам, теряя пушки и людей. В битве 5* 131 при Маренго пережил страшные часы: сначала полное поражение, а потом,— когда подоспела армия Дезе,— столь же полную победу. Благородный и храбрый Дезе заплатил жизнью за блистательный маневр. А Париж между двумя известиями торопился — предавать Бонапарта! Его министры, братья, сестры — все громогласно делили шкуру льва. Весть о разгроме армии и о падении Бонапарта казалась им равнозначной. Он потерял доверие даже к жене. Этот потрясенный человек в который раз начинает строить заново. На этот раз здание большой политики. «Франция может иметь союзницей только Россию»,—■ вот чего страстно добивается Наполеон в 1801 году. Он соглашается на все требования Павла, но и тот взамен выдворяет из Митавы двор претендента Бурбонов — графа Лильского, он же будущий Людовик XVIII. В декабре Павел впервые лично обращается к Бонапарту: «Господин Первый консул! Те, кому бог вручил власть управлять народами, должны думать и заботиться об их благе». Такими надеждами начался 1801 год! Но перемена царствования в России их отодвинула. Александру нужна была некоторая смелость, чтоб вновь сблизиться с Наполеоном: противодействовали в этом и двор и собственная семья, трактовавшие французского императора по старинке, как антихриста и якобинца. По-настоящему же дело заключалось в том, что русским купцам казалось очень не выгодна необходимость примкнуть в блокаде Англии. Англия — самая промышленная страна того времени, и ее машины, то-. вары, изделия были необходимы России. Однако и Наполеону требовалось, чтоб под его контролем находились все побережья, без лазейки через Россию. От многочисленных лазутчиков Напо- 132 леон знал малейшие подробности английских посулов и о военных приготовлениях Александра. Чтоб предупредить русскую армию, Наполеон приказал своим маршалам вступить в ноябре 1806 года в Польшу. Поляки. жаждали получить из его рук самостоятельность, но пока что их страну использовали лишь как буфер. Кровопролитная битва при Эйлау, когда русские потеряли треть армии, заставила обе стороны поторопиться с миром. Только огромным напряжением воли Наполеон заставил выстоять и свои войска: он оставался с пехотинцами на кладбище в самом центре схватки под градом ядер многие часы подряд. Ему опять приходилось подбадривать себя лихой поговоркой, что на той пуле, которая его убьет, будет начертано его имя... Еще несколько труднейших сражений заставили даже невоздержанного солдафона Великого князя Константина Павловича обратиться к брату-царю с отчаянными словами: что не лучше. ли дать каждому солдату по заряженному пистолету и приказать им застрелиться? «Вы получите тот же результат, какой даст вам новая битва, которая неминуемо откроет ворота в вашу империю французским войскам!» Тильзитский мир был воспринят обеими сторонами как огромное облегчение. Уже на острове Святой Елены Наполеон вспоминал, что счастливейшими днями в его жизни были именно эти, июньские, когда он скакал вдоль берега при громких кликах гвардии навстречу Александру. Великий обольститель Наполеон и «шармер» Александр, расточая улыбки, встретились на плоту посреди Немана... * ... Их интересам отныне, казалось, не суждено пересекаться. Но уже спустя пять лет страны снова встали на грань войны. Оба императора обменивались угро- 133 жающими посланиями: «Как только ваше величество откажетесь от заключенного со мною союза и от исполнения тильзитских условий, то будем вести войну, несколькими месяцами ранее или позже»,— писал Наполеон в феврале 1811 года. Александр уклончиво отвечал: «Необыкновенная военная гениальность вашего величества, мною сознаваемая, не позволяет мне сомневаться в затруднениях борьбы с вашими армиями». Наполеон не мог скрыть раздражения: «Решили, что лев задремал. Пусть узнают, дремлет ли он. Через несколько месяцев вы увидите, чего может достичь глубокий замысел, соединенный с силой, приведенной в действие!» Кого он пугал? Кажется, всех. Кому грозил? Возможно своему ближайшему окружению — шатким ко-ролям-братьям, вечно надутым расточительным гер-цогам-маршалам. Он резко отчитывал Жюно, друга юности, бывшего сержанта, а ныне герцога д’Абран-теса: «Я не узнаю человека, прошедшего выучку в моей школе!» Но и он уже давно был не тот. Идеалы и методы изменились, а масштаб России оказался неизмерим с его прежним опытом войны в тесно набитой государствами Европе. За два года до перехода Немана Наполеон обмолвился: «Я не хочу завершения своей судьбы в песках пустыни России». Но потом эти слова как-то забылись, отодвинулись в глубь сознания. В Витебске он чувствовал себя все первую неделю великолепно. * * * В угловой башенке, где имел временное жительство Гаврила Иванович Добрынин, сквозь узкое оконце можно было разглядеть, как из губернаторского дворца появляется его насильный постоялец. «Наполеон каждодневно и почти всегда в седьмом 134 часу пополудни выезжает за город в разные стороны верхом,— писал витебский летописец своим старомодным кудрявым почерком.— За ним следует конница да семисот человек разных наций. Шествие замыкают поляки с значками, трепещущими от слабого дуновения ветра. Я7 смотря на это, рассуждаю сам с собою, ибо с другими рассуждать опасно: ежели ему такое количество потребно для показания величия и славы, то для Витебска слишком много чести, потому что в нем, знатнее меня и доктора Свароцкого, никого нет; ежели ж оно нужно для охранения его жизни, то участь его незавидна». Гаврила Иванович усмехнулся, но тотчас с проворностью прикрыл мемуары высохшей рукой, усеянной старческими родимыми пятнами. На скрипучей лестнице послышались чьи-то шаги. «Как жаль,. что нет более моего пса Дельфина,— вздохнув, подумал Добрынин.— Поневоле приходится остерегать себя каждым шорохом». Но когда дверь не распахнулась грубо, а послышался легкий, как бы потаенный стук, Гаврила Иванович понял, что его посетил молодой Северин, к которому он привязался за добрый нрав и терпеливость в превратных обстоятельствах. Очутившись на добрынинском подворье в крестьянском платье, Юрий должен был и впредь не выходить из роли сиволапого деревенщины. Целый день он постукивал на заднем дворе топориком, делая вид, что поправляет забор из стоячих досок, вырезанных наподобие крепостных зубцов и подбеленных мелом на клею. Сквозь этот забор отлично был виден утопавший в вишневом саду его собственный дом, для него теперь недостижимый. Но мы были бы не справедливы, если б заподозрили Юрия хоть в малейшем сожалении, что он в свое время не покинул Витебск в матушкиной карете и не 135 избежал тем последующих тягот. Одно сознанье, что он смог стать полезным Наденьке Лукомской, делало его счастливым. В то бедственное утро возле дощатого сеновала, поплакав и погоревав, они втроем принялись обсуждать положение. Если Добрынин и Юрий могли • вернуться в. Витебск и там переждать лихое время, то барышне никак невозможно было им сопутствовать! Не осталось поблизости и знакомых семей, которые согласились бы ее приютить. — О, Жорж,— умоляюще проговорила сквозь еле-, зы бедная сирота,— если б мне нашлась верховая лошадь и мужское платье, клянусь, я не стала бы вам обузой. — А что! — подхватил многоумный старик Добрынин.— КасИп говорит от сердца, а сердце имеет свою математику, которая также верна, как и классическая! Ни в коем разе не можем мы ее покинуть здесь, на французов. Юрий задумался. — Лошадь есть, это каурый. Платье можно подо^ гнать мое. Но ехать вы должны совсем в другую сторону: пробраться боковыми тропками на смоленскую дорогу, обогнав движение французской армии, разыскать мою матушку и возле нее найти защиту и пристанище. Наденька, зардевшись, опустила глаза. — Кто я, чтобы ее превосходительство стали оказывать мне покровительство? Юрий нащупал что-то в жилетном кармане. — Эта вещица распахнет перед вами матушкино сердце,— проговорил он, доставая старинный медальон слоновой кости. — Если б возможно было отыскать клочок бумаги и перо с чернилами, я подкрепил бы сие свидетельство письмом. : Добрынин хлопнул себя по-карману халата и тотчас 136 с удовлетворением осклабился: медный пузырек с привинченной крышкой и гусиное перо в матерчатом футлярчике оказалось при нем. Но сколько ни рылся он в складках одежды, бумаги не находилось. — Может быть, обождем, пока с усадьбы придет кто-нибудь из людей? — нерешительно предложила Наденька.— Стряпуха Ульяна знает,, где я. скрываюсь и, наверняка, пошлет съестного,.. — Нет, вы не можете ждать! —воскликнул с жаром Юрий.— Заря уже занялась. Не позже чем через час французы обнаружат, что поле битвы покинуто, и пустятся преследовать русские арьергарды. Необходимо воспользоваться этим единственным дарованным судьбою часом! За стеной дощатого балагана Юрий скинул свою одежду, а Наденька, хоронясь за другую стену, приняла ее из рук Добрынина и спустя пять минут показалась в новом виде. Ее растрепанную косу затолкали под фуражку. Юрий стыдился выйти перед ней раздетым. Зарывшись в сено, он протянул навстречу девушке лишь обе руки. Не сдерживая себя больше, она обхватила его за шею. На секунду они слились в прощальном поцелуе. — Моя жизнь принадлежит отныне вам, Жорж! —* горячо воскликнула Наденька. — А я взамен отдаю свою верность! Что бы с нами ни случилось. Обменявшись этими целомудренными клятвами, они вынуждены были все-таки расстаться. Надолго или навсегда? Кто знает! Когда звук подков каурого потерялся за стволами, Добрынин, смахнув слезу, принялся уговаривать молодого человека. — Утешьтесь! Уверяю, что быстрокрылое время пролетит скоро. Хотя лучше сказать: время-то не по- 137 шевелится, но жизнь наша скользнет по нему мгновен- % но... — Когда, когда я увижу ее вновь?! —повторял свое Жорж. — Думаю, что не позже, нежели солнце протечет • Деву, Весы и Скорпиона,— витиевато отозвался Гаври- л а Иванович, называя вместо месяцев знаки зодиака.— ? Ибо, что не успеют русские штыки и пули, то докон- -чит генерал-мороз. Лишь бы наша барышня доскакала поздорову. — Храни ее бог! — от всего сердца подхватил Юрий, щ Посланный с припасами дворовый парень Игнашка, 1 к своему удивлению, получил предложение продать (• посконную одежонку, состоящую из лаптей, портков и холщовой рубахи по довольно дорогой цене — десять рублей ассигнациями. Так совершилось преображение Юрия Северина. Тут же в лесу, сварив в чугунке кашицу из крупы и молока, путники двинулись к Витебску. По дороге | они видели, как, покидая село, толпа во главе со свя- 1: щенником несла образа. Все пели и плакали. Бабы — хоть многие босиком, но в плотных полосатых юбках, с отороченными овчиной кацавейками, в ковровых полушалках,— гнали уцелевшую скотину. Тут же с лаем бегали дворовые собаки. Блеяли овцы, ржали лошади. Скарб грузили в деревянные сундуки, коробы й узлы, перевязанные-веревками и поясами. На некоторых окнах уже висели полу сорванные ставни. Все стало вдруг сиротливо, неуютно — словно и не жили здесь люди! А в другом месте‘г-в деревне, принадлежавшей, видимо, владельцу безжалостному,— напротив, была / полна улица пьяных мужиков и женщин, торжествующих день расхищения господского погреба с напитка-ми. Путникам тоже поднесли старого венгерского вина в замаранной рюмке. «Наполеон даст нам свобо- ■ боду!» — горланили вокруг. Добывши у женщин кув- У шин молока и несколько ломтей хлеба, Добрынин шепнул: «Уйдем поскорее». Для Юрия все эти картины были новы. Он не мог над ними не задумываться: в его отчизне оказалось все порабощено! Правительство деспотично, а дворяне похожи на жадных паразитов. Они смотрят на народ свысока, обманывают его, а несчастных просителей велят отгонять палками. Крестьянин любую минуту ждет смерти. Да жизнь для него и не настолько привлекательна, чтобы он ею дорожил. — Это его единственное мщение жестокому помещику,— сказал Гаврила Иванович, грустно покачивая головой.— Все, что ставили в упрек колонистам под небом Америки, встречается и в ледяном климате нашей Белоруссии! Конечно, люди нужного вкуса, называющие и собачку «мон шер» и «мон ами», имеют свои причины сказать — «как это низко назвать другом человека, который крепостной!». Но вы, сударь, не ожесточайте сердца смолоду. Напоследок, измучившись по лесам и болотам, они шли, уже не таясь, большой дорогой. Беженцев из окрестностей пристало душ около тридцати; женщины несли детей или вели их за руки; мужчины брели рядом, и почти все были босиком. Французские конные разъезды пропускали их, как людей, у которых взять уже нечего... При самом входе в город они увидали, что лавки и винные корчмы пусты, двери везде отперты, стекла побиты, затворы окон порасколоты. И Витебск показался беглецам уже не тот, каким они его знавали!.. Впрочем, в угловой башенке, под покровительством Пасторе, их никто не тревожил. * * * В., конце первой недели августа погода круто сломалась: задули, сильные ветры, похолодало. 139 Юрий едва взошел к Добрынину, как заревел сухопутный ураган, с треском захлопнулась рама, и по двору понесло оторвавшуюся доску, словно легкое перо. Не минуло и нескольких минут после улегшегося бурного порыва, как к башенке бежал уже против ветра, придерживая на голове шапку, а на боку саблю, посланный от Пасторе: в губернаторском доме произведены разрушения и немедля требуется плотник, живущий при господине Добрынине. . Юрий бросил растерянный взгляд на Гаврилу Ивановича; тот ничем не мог ему помочь! Посланец нетерпеливо похлопывал ладонью по эфесу сабли. Свои дальнейшие шаги Юрий вспоминал после как бы сквозь фантасмагорический сон. Его втащили почти бегом на высокое губернаторское крыльцо, втолкнули в. парадную дверь между колоннами и провели по анфиладе комнат, которые он так хорошо знал. На втором этаже, в полукруглом зальце с широким окном, выходящим на. Двину, он увидел сдвинутые в беспорядке кресла вокруг большого стола с ворохом военных карт. Они свешивались почти до полу, будто крылья подбитых птиц. Наполеон сидел поодаль на двух жестких стульях: на втором покоилась его поднятая левая нога в высоком ботфорте со шпорой; Он сидел, скрестив руки, в треугольной шляпе, словно только что возвратился с прогулки, и смотрел прямо перед собой; чело его было нахмурено. Маршалы и генералы понурившись стояли за его спиной. А у дверей, в которые ввели Юрия, неподвижно застыли два гвардейца в высоченных медвежьих шапках с плюмажами. В последние дни настроение Наполеона изменилось столь же резко, как и погода. Окрестности Витебска уже не казались ему обильными и удобно приспособленными для зимовья большой армии. Отставшими /и боль- ными числилось в ней более двухсот тысяч. Если медлить и далее, думалось императору, то казармы превратятся в сплошной госпиталь! Впрочем, госпитали, как и казармы, требовалось прежде построить. А также создать и наполнить продовольственные склады, наладить постоянную связь с далекой Францией — отсюда она казалась особенно далека! — навести жесткий порядок в разболтавшихся разноязычных частях, которые не понимали, зачем их увели так далеко. (Ему доложили, что шесть тысяч солдат перешли обратно Неман с оружием и ранцами за спиной. «Куда вы?» — спросили их. «Мы идем в Баварию».— «Значит, вы дезертиры?» — «Нет,—-простодушно ответили они,— мы идем в Баварию!») Заботила и надвигающаяся зима. Среди способностей Наполеона одной из главных была та легкость, с которой он мог отрешиться от множества проблем, чтобы в течение нескольких часов держать свою мысль лишь на одной, пока не являлось для нее решение. Но последние два дня он никак не мог сосредоточиться. От письменного стола, где он много и усидчиво работал, он вдруг срывался и вихрем проносился по апартаментам, из комнаты в комнату, не смущаясь тем, за каким занятием заставал свою свиту. Или безостановочно маршировал по круглому зальцу. Вставал, ходил и снова садился. Оставлял необходимую работу, чтоб посмотреть в окно на вздувшуюся от дождя Двину и унылые, как ему казалось, пространства правобережья с россыпью мелких, похожих на грибы, понурых домишек. Многие из них были покинуты, ; — Что за страна, что за люди!—иногда сдавленно бормотал он, отвечая собственным глубоко спрятанным мыслям. Губернаторский дом наводил на него тоску. Темный паркет отражал отяжелевшую маленькую фигуру с 141 обтянутыми ляжками. Случайные встречные видели сжатый рот и хмурое непроницаемое лицо. Его раздражало, что между ним и маршалами ^не. было прежнего единомыслия. Они оставались вечно чем-то не довольны, брюзжали и чванились; осыпанные золотом и титулами, все-таки считали себя обделенными. Красавец Мюрат вызывающе щеголял в желтых польских полусапожках, как бы намекая, что ему. пришлась по вкусу Варшава и он не прочь получить ее во владенье. Брату Жозефу не нравилась его второстепенная роль: может быть, он считал, что поскольку он старше, то именно ему и надлежит стать императором Франции?! Трясина мелких тщеславий засасывала даже честного Дюрока, который имел обыкновение во всем поддерживать Наполеона, повторяя: «Император понимает лучше нас!» Однако за полчаса перед тем Дюрок впервые промолчал: перспектива оставить Витебск и двигаться к Москве,— что высокопарно предлагал Мюрат,—никому не улыбалась. Налетевший вихрь так надсадно заскрежетал рамой, что Наполеон схватился за щеку. — Неужели нельзя привести в порядок эту конюшню?!— заорал он на Пасторе, который не участвовал в совете, но был вызван для какой-то справки. Пасторе, привыкший к подобным взрывам бешенства, нагнул голову и отступил на шаг к двери. — Сир, я велю тотчас привести мастерового. Это ничтожное происшествие прервало совет. Вокруг Наполеона на несколько минут воцарилось молчание. Опустив голову, так что густые волнистые волосы прикрыли ему лоб до бровей, стоял принц Евгений, пасынок Наполеона по первому браку с Жозефиной Бо-гарне. Его молодое преданное лицо было сейчас омрачено сомнением. У Нея оттопыренные уши, курносый нос и упрямый подбородок выдавали характер энергичный и раздражительный. Ему труднее других было сдерживать свои возражения. Хилый с виду, сутулый, в полинялом мундире, Да-ву, собиравшийся также перечить Наполеону, использовал паузу, чтоб обдумать свои слова. Остроносый, узкогрудый Бертье, прозванный «тенью Наполеона», ибо сопровождал его во всех походах в одной карете и запоминал каждое слово, сейчас кутал простуженное горло шарфом и учтиво ожидал императорского решения. Тягостная тишина разрядилась возвращением Пасторе. Подталкивая вперед Юрия, он почтительно просил его величество, если ему это будет угодно, перейти в другое помещение. Наполеон скользнул по обоим взглядом. Девятнадцатилетний Амедей и шестнадцатилетний Жорж были одного роста, с одинаковыми темно-русыми волосами и юношески свежими лицами. «Боже, как они молоды!» — пронеслось в уме императора. Привыкнув бестрепетно распоряжаться людскими массами, он оставался чувствителен и к самому мимолетному взгляду — русский же смотрел на него во все глаза. — Этот простак нам не помешает,— сказал он, смягчившись,— пусть делает свое дело, а мы будем делать свое. Стараясь как можно бесшумнее укреплять затвор рамы, Юрий слышал и понимал каждое слово. Иногда привлеченный повышенным тоном Наполеона и тем, что он говорил, он невольно бросал быстрый косой взгляд через плечо. Один раз его глаза столкнулись с глазами Пасторе. — Война похожа на шахматную партию,— говорил Наполеон, встав со стула и расхаживая по комна- 143 те.— Рядом с расчетом в ней существует импровизация. Перейдя Неман, нам пришлось столкнуться с новыми обстоятельствами: крестьяне оказались беднее, чем мы предполагали; местный провиант существует лишь в воображении интендантских чиновников. Мне негде разместить армию на зимних квартирах! Или вы считаете, что я способен предложить моим ветеранам мерзнуть в грязных избах посреди сугробов?! Спросим-ка этого честного малого, каковы здесь зимы? — круто поворачиваясь к окну, неожиданно заключил Наполеон. Пасторе привел переводчика. Пока тот, запинаясь, подыскивал слова, Юрием овладело безудержное вдохновение. — Чтоб уцелеть от тутошних морозов, добрые господа,— сказал он, стараясь подражать деревенской речи,— у народа одно спасенье: сидим у горячей ,печи с утра до ночи и с ночи до утра! Маршалы свирепо насупились, а для императора такой ответ пришелся как нельзя более кстати. ■—- Если я займу Киев, я возьму Россию за ноги, если овладею Петербургом,— за голову. И, лишь заняв Москву, я поражу ее' в самое сердце,— сказал Наполеон напоследок.— Решено! Мы выступаем по дороге к Смоленску! ., * * * Глубокой ночью дверь баньки, где на лавке спал, не раздеваясь, Юрий, тихо приоткрылась. Кто-то осторожно потряс его за плечо. — Следуй за мнойЦ—произнес голос в темноте. С трудом освобождаясь от сонного оцепенения, Юрий вышел в сад и здесь при свете ущербной луны узнал в ночном посетителе... Пасторе. Он сильно вздрогнул, потому что понял, что выдал 144 себя; ведь Пасторе заговорил с ним по-французски! Свесив голову, он покорно проследовал в дом. В добрынинском кабинете при плотно сдвинутых шторах на столе ярко горели свечи. Несколько секунд Пасторе молча рассматривал своего гостя — или пленника? Этого Юрий не знал. — Вы не тот, за кого себя выдаете. Кто вы? — Да, месье,— без колебаний ответил Юрий, прямо глядя в приятное задумчивое лицо с маленьким ртом и изогнутыми бровями.— Я сын русского генерала. — Вас послали сюда как лазутчика? В таком случае я обязан вас расстрелять, месье. — Нет, месье. Я слишком молод, чтобы служить в армии. Вся моя вина заключается лишь в том, что я не уехал с шашап, когда она покидала город. — Вы, конечно, сожалеете об этом? — О, нет, месье! Я задержался намеренно. Пасторе вопросительно поднял брови. — И что было тому причиной? — в голосе его звучал холодок. Юрий понял, что спасти его может лишь полная откровенность. — Я хотел облегчить участь дорогого мне существа,— прошептал он, опуская голову. Воспоминание о Наденьке вызвало на его глазах слезы. Поощряемый молодым французом, он без утайки рассказал свою историю. — Превратности войны ужасны! — в волнении воскликнул Пасторе.— Будем надеяться, что вояж мадемуазель прошел благополучно. Она, видимо, разыскала уже вашу матушку, а та полюбила ее настолько, чтобы не препятствовать вашему браку. Но, мой друг, хотя я вам полностью верю, боюсь, что другие не будут столь доброжелательны. В Витебске вам оставаться опасно. Необходимо покинуть город. — На это я и намеревался просить вашего позволения, дорогой месье! Всего через полчаса, снабженный малой толикой денег из собственного кошелька Пасторе, тайно простившись с Гаврилой Ивановичем, Юрий уже перелезал штакетник, чтобы обрывистым берегом Витьбы незаметно миновать сторожевых. Луна зашла. Наступали предрассветные часы — самое темное время суток. Воздух стал холоден и лист после пронесшейся бури. Немного поразмыслив, Юрий выбрал направление, противоположное смоленской дороге: Витебск находился на равном расстоянии от Москвы и Петербурга, и больше шансов на успех его ожидало, как ему думалось, именно движение в сторону Петербурга. Там он надеялся вскоре наткнуться на отряды армии Витгенштейна и передать генералу сведения, которые узнал таким необыкновенным путем. * * * ...А спустя три месяца Витебск покидал с остатками французского гарнизона и Амедей Пасторе. Несколько месяцев, проведенных под чужими небесами, сделали легковерного юношу взрослее. Он научился, даже не зная языка, различать людей стойких, полных внутреннего огня и мужества, от тех бар, которые вели по усадьбам почти травоядный образ жизни. Такт не позволял молодому коменданту порицать чужие обычаи вслух, но ему оставался чужд ленивый дворянский быт, когда по утрам хозяина одевали лакеи, он завтракал, курил, а, между тем, у порога на коленях часами стояли крестьяне, обутые в лапти из древесной коры, туго перепоясанные веревками, не смея обеспокоить его какими-нибудь просьбами, от которых порою зависела вся их жизнь, и лишь смиренно протягивали жалкие подношения. Но вот что изумляло Пасторе: эти же мужики, ухо- дя в леса, действовали дерзко, отважно, предприимчиво! Как не тщился он успокоить умы, убеждая жителей, что при отходе совершается маневр, аванпосты приближались к городу вплотную. Забытые «великой армией», не получая от нее никаких известий, французы все с меньшим успехом отбивались от летучих отрядов русских. Долгая неподвижность армии Витгенштейна, которую неприятель, самоуспокоившись, принимал за страх,— а на самом деле она была лишь умной предосторожностью — сменилась предприимчивым наступлением. Витгенштейн взял Полоцк и форсированно шел к Витебску. Пасторе с печалью наблюдал, как соперничество и зависть наполеоновских генералов мешали их слитным действиям. Он давно уже освободил домик Добрынина, и Гаврила Иванович вновь писал мемуары за своим собственным столом. Едва скрывая ликование, он наблюдал, как после слуха об оставлении Москвы французы в течение трех недель трикратно нагружали свои повозки и трикратно выгружали их, находясь в смятении. Некоторые даже взбирались на крыши, оглядываясь в разные стороны и не зная, откуда ожидать им русских? «Двадцать шестое число, по утру рано, был спасительный день изгнания их из Витебска,— гласила запись в добрынинских мемуарах. — Неприятель разделился на три неравные части: одна выпалила из двух рушек и из мелкого ружья по нескольку зарядов с левой на правую сторону Двины против наступавших наших. Другая докапывала спокойно на огородах картофель и бураки. В этот год и октябрь был столь же хорош, как август. Третья же часть бросилась в бегство из города во все стороны. Известно уже и без моей повести, что из всех мест России, начиная от Москвы, прыгали неприятели балет... 147 ..Витебск! В этом слове мне всегда слышится звон распахнутого в апреле окна. Город прожил тысячу весен и тысячу зим — и только две зимы и две весны были и моими тоже. Но как ни коротко мое время, оно совпало с той порой ранней юности, с начальной порой ледолома, когда над челювеком, словно второе солнце, встает все сразу — бовь, поэзия, мысль... ■Может быть, поэтому я вновь возвращаюсь в Витебск. Мне доставляет неизъяснимое удовольствие хо-^ть по его улицам, которые давно уже не те, что во времена моего отрочества! — следить за бесконечным "^неизменным током реки. В Витебске мне все интересно: в одинаковой мере хочется знать, и как он меняется ;.в чем остается прежним? Такой уж это город. С ним е расстаются. Его не забывают. Правда, кроме мостов, Старого и Нового, построенного в тридцатых годах, с которого мы, бывало, следили а ледоставом на Западной Двине, беззаботно размахивая школьными портфелями; кроме переулков и набережных, где отпечатались наши следы, в Витебске жи-ет один очень дорогой для меня человек. Да и не для еня одной! Это Анна Григорьевна Блау, бывшая учительница математики в Десятой средней школе, женщина с жизнью по-своему не менее замечательной, чем у самых знаменитых людей. 1 Но мне хочется рассказать обо всем по порядку. В. Витебске я жила и училась до войны в интернате для етей пограничников. Это был небольшой бодрый мирок. По утрам до завтрака мы строились на линейку тесном коридоре. Дежурный отдавал рапорт начальнику— плотному здоровяку в гимнастерке, человеку, как я сейчас понимаю, еще очень молодому, которого и Самого вся эта игра радовала не меньше, чем нас. Каждый день мы шли по Старому мосту, через весь город к.школе; там проходила половина нашего дня... 315 А потом была война. Может, кто-нибудь еще помнит: г,!> Пал город Витебск. С болью горькой. ***, Шли: мы по берегам Двины. Пал город Витебск... Его махорку ■ Курили мы и до войны!.. " — ' ’! До сих пор эта незамысловатая песенка сжимает:| горло. ‘ !,1 ...Но интернат оказался цел! В 1957 году я зашла,’ нё!. доверяя собственным глазам, в соседний деревянный домишко, где жила какая-то старуха, сухая, ростом ■ | | в клюку, здешняя сторо.жилка, и она сказала, не поки- * дая порога, насупленно выглядывая из темноты сенейГ-ч! — Интернат пограничников? Дальше по набережт- г . ной. Белый дом. Помню. ?;|щ’ Я пошла по узкой обледенелой тропе — прежней ^||1Ь улице — и вдруг увидала свой дом. Он стоял особняком] ;? ! лбом к ветру, а у ног — белое покрывало Двины. ДешГ:;{ был солнечный, пахло недалекой весной; облачка, как мелкие льдины, плыли по небу. Расположение входных дверей, лестница — все было то же. Только вход, который, вел прежде в столовую, теперь украшался табличкой «Модельная лаборатория». Спальня же, разделенная нынче коридором, открывала два ряда дверей: здесь помещался местный Морской клуб. Никто не взял меня за руку и не провел по этим ступеням. Я сама брела .спотыкающимися ногами по пустому двору и только у забора увидала тонкое с зе~.: леноватым стволом деревце — единственное, которое | выросло на месте нашего сада! Того самого сада, чтои| был свидетелем первых опытов моего сочинительства ; | («Это в пене теснились у серого мола неуклюжие лодкиг. | причаливших строк...»), где валялся на траве, незави-^;| симо задрав ноги, Сашка Здорный, и когда мимо про- 316 В ходила Люба Макарова, он их смущенно и поспешно опускал, а когда я, то продолжал лежать не. шевелясь, равнодушно поплевывая в сторону, У него было смуглое лицо и яркие, то бешеные, то веселые, глаза, горевшие избытком мальчишеской энергии. Он погиб в первые месяцы 1941 года. Я ходила по городу, захлебываясь от слез, редкоредко узнавала старые дома, покрытые шрамами, и тогда трогала их руками, не в силах сдвинуться с места. Школа наша тоже уцелела. На самом юру, на высоком берегу Двины, она стояла по-прежнему. Десятая школа. Случаются же такие чудеса! Я спросила техничку тетю Фрузу, единственную, кто работал здесь с «довойны», заранее пугаясь ответа: — А Анна Григорьевна? Тетя Фруза ответила: — Ее нет.— И, помедлив секунду, за которую я успела пережить всю гамму отчаяния и печали, добавила: — Она дома. — Значит, жива?! В школе?! — закричала я. — Завуч, как и раньше,— строго ответила техничка. Первые годы, вернувшиеся на погорелище витебля- не во что бы то ни стало хотели, чтобы все было «как прежде». Видя в этом окончание лихолетья.., Анна Григорьевна прожила в Витебске больше полувека. Теперь, взрослой, я могла присмотреться к ней повнимательней. Ее сдержанность, которая казалась нам в детстве сухостью, обернулась доверием и уважением к каждому самому маленькому человеку. Несколько раз в письмах , она обмолвилась мне с шутливой горечью: ; «Моя болезнь — старость, от этого не поправляются». А я ведь в самом деле приготовилась увидеть согбенную старушку с той старческой покорностью, которая настигает даже самых гордых и независимых..., Помню, я долго искала ее дом. Витебск бурно стро- 317 ился, нумерация передвигалась, и. поэтому, блуждая по дворам, стучась в чужие двери, я постепенно теряла в этих досадных помехах свое невольное сердцебиение при мысли, что увижу сейчас Анну Григорьевну, Аннушку, Дуньку-пилу, как мы ее тоже иногда называли (совершенно неизвестно, кстати, почему? Она не злоупотребляла нотациями), И вот я почти спокойно вошла в ее дверь. Лохматый подросток отомкнул, ни о чем не спрашивая, и крикнул в глубину узкого коридора,' заставленного скарбом, мимо которого можно было протискиваться только .боком. —■ К вам пришли, Анна Григорьевна! —- Ученица? — спросил ее голос. — Не-ет. ; Я прошла, цепляясь полами шубы за ящики, приоткрыла из темноты дверь и невольно чуть не захлопнула ее вновь. Комната была маленькая, квадратная, с одним окном,. плотно заставленная шкафами,. с круглым столом посредине, с двумя самодельными кушетками из матрацев и тюфяков и с письменным столиком у окна. Книжная этажерка стояла уже под самыми дверями. В этой комнатке, в которой нельзя, казалось, повернуться двоим, было втиснуто сейчас по меньшей ме-. ре человек пятнадцать. .Мальчишки, сопевшие в ват-; ных пальто, девушки-десятиклассницы, обмотанные платками, плотно сидели вокруг, стола или стояли у стен. — Я, кажется, помешала? — пробормотала я, пятясь. Анна Григорьевна узнала меня тотчас. Уже никого не стесняясь, я уткнулась в ее щеку холодным от мороза лицом. Она болела, и ее пришли навестить ребята, Честное слово! Это была совсем прежняя Анна Григорьевна, и меня взяла оторопь. Я сидела перед ней смирно, сложив руки на коленях, отвечала на вопросы,— и какое это было удивительное счастливое чувство, что, вот какими бы мы ни стали взрослыми,- всегда 318 обязаны держать ответ перед этой женщиной, нашей учительницей. Пусть весь мир перевернется — Анна Григорьевна остается прежней! Чем дольше я приглядывалась к ней, тем больше .убеждалась, что она сохранила все обаяние и превосходство над нами. Я очень скоро перестала замечать, как она постарела. Мы ходили по школьному коридору, когда за всеми классными д'Берями шли уроки, и из окна она показывала на окрестности. ■—■ Вот эту старую коробку вы узнаете? Восстановили. А тот дом совсем новый. Здесь были склады, теперь пустырь. А наш школьный сад, разве вы ничего не замечаете? Это же все насадили после войны. Один только куст можжевельника прежний. Я часто прохожу мимо него и здороваюсь. Под тихим снежком мы подошли к можжевельнику. Сучья у него были черные, корявые, железной крепости. А рядом стояли березы — высокие настоящие деревья, которые успели вырасти с тех пор. Анна Григорьевна вернулась тотчас, как освободили Витебск. — Куда вы спешите? — урезонивали ее.— В развалины! — А вы думаете, что я должна вернуться, когда Витебск построят без меня? С обоими сыновьями (старший Владимир давно уже инженер, работает на витебском заводе «Коминтерн», младший Юрий медик, известен в области хирургии сердца) она вышла из поезда и не знала, куда идти: города не было. И все-таки в блиндажах, в землянках, среди руин возобновлялась жизнь. Оказалось даже, что Десятая школа уже укомплектована кадрами, и Анну Григорьевну послали в другую. — Я вышла из гороно и не понимала, как смогу жить без своей школы. Словно второй раз должна была уходить из Витебска... 319 Но скоро она, конечно, вернулась туда. Была директором, потом, как и прежде, завучем. Для меня наша школа оставалась, в общем, такой, как я ее помнила с детства. Разве только коридоры кажутся поуже да стены потемнее. А для Анны Григорьевны она стала изумительна и прекрасна! Ведь она-то знала ее, когда окна были заложены кирпичами, с крошечными отверстиями для воздуха, а те, что застеклены, представляли из себя сплошную мозаику из осколков. Когда в каждом классе ставили печки-времянки и ребята, приходя часов в шесть утра, пока печи еще топились, при их красном меркнущем свете готовили уроки. Лампы не оказалось ни одной на все три этажа. — Что было здесь при немцах? — спросила я. В кочевом детстве у меня не было определенного дома. Домом стала эта школа, где я проучилась два года подряд, и я содрогнулась при внезапном остром ощущении гнева и боли, когда представила, кто ходил по ее полам и лестницам, чьи плевки остались на стенах. — Казармы какие-то,— ответила Анна Григорьевна несколько рассеянно.— А из нижнего этажа они устроили конюшню. — Конюшню? Господи, как в дешевых агитках! — Но это было на самом деле, девочка. — Да... было. Не знаю, или мы так добродушны по натуре, или просто забывчивы, но ведь многое уже стало стираться из сердца, словно и не мы все это переживали. А разве мы имеем право забывать? Ах, Родина! Горячей кровью ' Напоен каждый лист цветка. И что сравнить с такой любовью? Она ль к тебе не велика?! И сколько ярких глаз потухло, И сколько выела слеза, Чтоб были радостны и сухи Прекрасные твои глаза! 320 Стихи эти писались' за проволокой фашистского концлагеря, а Витебск еще не был. вовсе освобожден. 1; ...Не знаю, много ли учеников Анны Григорьевны ;; стали математиками? Я .им не стала. Фира Систрина : тоже: она юрист. Борис Мёльцйн был офицером, теперь ; гидростроитель, укрепляет берега Крыма, Толя Павли-' нов техник-рентгенолог в Донбассе. Вера Наместнико-г ва врач, живет, как и прежде, в Витебске. Надежда Че-: чина доктор наук, профессор Ленинградского универ-I ситета. Когда в былые времена Анна Григорьевна отчитыва-^ лась перед избирателями как депутат областного Совета, то в любом зале — на фабрике или в школе — сиде-, ли • те, кого она учила; Что-то она нам переложила | такое в душу, кроме алгебраических формул, что не за-бывается до сих пор. Вся ее жизнь была перед нашими ;' глазами. В детстве мы еще не очень вдумывались в то, : кто она и что. Нам казалось естественным, что Анна | { Григорьевна постоянный член и председатель всяческих комиссий, делегат, депутат... Что к ней приходят взрослые, советуются, ищут помощи. Она была нашей учительницей, а следовательно, в нашем понимании — са-мым полномочным представителем Советской власти! | И лишь потом, уже повзрослев, потеряв ее на долгие а годы, разметанные войной по дальним дорогам, мы ста-ли понимать, что дело не в том, какие звания она носи-Ь ла, а в том, чем она наполняла свою работу. После войны она жила в школе со своими сыновья-| ми в двух смежных комнатах. Не таких уж и больших, и не таких и удобных. Но когда сыновья на время разъехались, даже и это короткое время она не сочла себя вправе занимать «лишнюю площадь». Пошла в горсо-вет, сказала: ’—• Обменяйте. — Вы делаете глупость,— предупредили доброжелатели. 11 Зак. 708 321 Она обиделась, удивилась, вспыхнула, но решения не изменила. Так в 1957 году я ее. и застала в единственной комнатке вместе с семьей: женатым Владимиром с двумя дочками (обе сейчас кончают институты;, старшая собирается работать на том же-заводе «Коминтерн», что и ее родители). Писатель оставляет после себя книги. Изобретатель и конструктор — машины. Колхозник.— засеянные поля. У школьного учителя есть лишь его ученики. Его богатство преходяще и... нетленно! Он вносит в мир еще одну каплю добра. Бывший ученик написал Анне Григорьевне с фронта чудесное и совсем мальчишеское письмо. Он рассказал о споре с другими солдатами на тему: чей город лучше?; «Мне удалось доказать, что наш. Во-первых, у нас было много театров. Во-вторых, Двина, которой нет ни у кого. А в-третьих, математику нам преподавали Вы», # # Я хожу по улицам с чувством странной раздвоенно-; сти: живу сейчас как бы двумя жизнями—своей собственной и жизнью города, пока она протекала без меня. Секретарь горкома партии Валентин Васильевич Михельсон — местный ; уроженец, сорокалетний подвижной человек с ястребиным лицом и седой шевелюрой— сказал мне,.что в боях за Витебск погибло двести пятьдесят тысяч человек. И я тотчас вижу — воочию вижу}—все. население теперешнего города бездыханным, с кровавыми ранами на груди, упавшим кто где стоял, неловко подогнув ноги и откинув головы. Потому что эта цифра приблизительно и равна , соврет.-менному количеству жителей. Каждого из нас кто-то заслонил своим телом,„за — каждого погиб другой человек. Вот цена этому городу! Она высока. 322 Когда Витебск освободили, в нем оставалось сто ;. восемнадцать жителей и тридцать два дерева,— продол- . ;! жает Михельсон: ;; Мы сидим с ним в его кабинете; за окнами пышная Я листва, повсюду многоэтажные дома. А я переношусь Г в далекий август сорок пятого года, когда в Витебск це-V; ремониальным маршем вошла на постой, проявившая себя в многочисленных боях за Родину, награжденная 3' орденами Суворова и Кутузова часть, где служил ; майор Ойстрах. Его глазами я снова вижу груды камня, ^ обрушенные стены, заросшие дикой травой пустыри и ^ жителей, стоявших по обочинам... — Сто? Не знаю. Даже спустя год их, казалось, мож-; но было пересчитать по пальцам! ||/ Исаак Семенович Ойстрах, прошагав от Сталинград | да до Эльбы, навсегда остался в Витебске. Он один из I тех, кто восстанавливал и строил Витебск. Со временем | его Пятое строительное управление превратилось в бо-| лее крупное объединение. Это он выбросил лозунг: [ «Каждый мужчина в Витебске должен овладеть топо-| ром и лопатой!» Увы, никакой другой механизации то-| гда не было. Завалы разбирали по кирпичику — жен-' скими руками. Погнутые балки распрямляли и снова укладывали в перекрытия. Пока сумели смонтировать ;= первые две бетономешалки, даже бетон готовили в яме лопатой, а щебень дробили вручную. I Так восстанавливался ковровый комбинат, трико-. тажная фабрика, шелкоткацкая, станкостроительные заводы «Коминтерн» и имени Кирова... ?.;■ — Иногда казалось, что легче было бы выстроить • город на новом месте... Знаете, какая была тогда самая ценная премия? Банка концентрата. У меня существо-. ' вал особый фонд помимо карточек, и я выдавал время ^ от времени то одному, то другому, чтоб поддержать. Откуда брали стройматериалы? Какой был транспорт? ; Транспорт — лошади и трофейные автомашины с ма- лым количеством бензина и без запчастей. А за матей риалами отправлялись сами в. лес, валили деревья^ сплавляли-.: их,по Двине и даже на доски пилили понача^. щИ лу прадедовским -способом: вручную, длинной пилой. Что только не повидал на своем веку Ойстрах!.' Мне рассказали про него случай почти анекдотиче| Я ский, но тем не менее подлинный,, относящийся, правйЙИ да, уже к более поздним временам. За какие-то упу?у1И щения рассерженный: заместитель министра’ хотеЛ||Н чуть ли не уволить его. Тогда поднялся взволнованный^Мщ витеблянин, который присутствовал ; на <<разносе>>, | Я и сказал: «Как же можно увольнять Ойстраха! Он ведь | в живая история восстановления Витебска!» Аргумент^Я был неожиданный, хотя и не л;ише.нный особой лощкиГ’Я Заместитель министра, задумался и вынес решение: Ойстрах остается на месте, а выговор получает..; его за^ щитник.. Не могу сказать, что я мысленно спешила перевер^ Я нуть давние страницы:; они дороги не только, как часть^И витебской исторической хроники, но и как куски нашей собственной жизни. Это тогда, пешком из деревни за. восемьдесят-; килот:;щ метров, шел к городу упрямый подросток Толя Анихи- |1 мовский. Ему нужно было учиться, начинать свою судь- , Ш бу. А Витебску нужно было восстать из боли и пепла, Я задышать заводскими трубами, на. месте обугленных Я пней поднять зеленые ладошки саженцев. Они нужда- : Я лись друг в друге — город и человек. Чему же тут удивг яяться, что их дружба оказалась столь крепкой, длиною в целую человеческую жизнь? Не все, кто населяют сейчас. город, урожденные Я витьбичи. Многие пришельцы из далеких мест попали в разное время и по несхожим причинам. Но затем наг чинал уже, видимо, действовать закон, открытый Мая-^|И ^овским, что «землю, которую отвоевал и полуживую -Я вынянчил», бросить нельзя. !Ь., (Кстати, Маяковский бывал в Витебске, и говорят, | что именно к витебскому достославному пивному заво-| ду относится его сатира на. «пиво и раки имени Бе-I беля».) Супруги Даниловы, архитекторы, о которых мне |.сказали, что они ^вдвоем сделали для города больше, I'чем целое учреждение, к моменту витебского тысячелетия прожили здесь уже двадцать три года. Виталий 1[ Александрович по рождению ивановский, а Александра .ра Юрьевна полтавчанка. С дипломами в руках они || появились в один прекрасный день посреди пустырей ри каменных развалин, именовавшихся тогда Витеб-|1 ском, и не струсили, не ретировались, а впряглись в р'а-I боту, оказывая поистине скорую помощь страждущему I городу. р; Сознаюсь, во времена оспенного поветрия «пятиэта-||жек», которыми в тяжелой форме переболели все наши р грады и веси от Архангельска до Владивостока, занятие р архитектора представлялось мне туманным, если не р никчемным. В самом деле! Раз существует не только I однообразный набор кубиков-панелей, но и одинаковое | для всех предписание, как их громоздить друг на дру-I га — к чему зодчие? Их роль становится сродни пере-| • писчику бумаг, а не летописцу каменной истории. | Следы оспинок видны и в Витебске. Проспект Фрун-зе, который продолжает за мостом выпрямленную по-р. слевоенной застройки вокзальную магистраль, откры-!Г вается именно таким рядом довременно обветшавших и $ унылых зданий. Ь Витебск расположен как бы по крестовине: вдоль ^ Двины и поперек нее, через оба близко расположенных 1 моста. Нигде диаметр не превышает пятнадцати ки-г лометров, хотя для среднего города, каким он пока является, в этом есть, вероятно, уже некоторая растя-нутость. Я обмолвилась словом «пока» не случайно: Ц Витебск богат разнообразной расширяющейся про- 32$ мышленностью; он не может не расти и, скорее всего,] перекроет тот двойной объем населения (против тепё-) решнего), который предрекает ему генплан к двухты-} сячному году. . г Еще Лажечников сетовал на «плоскость» общего ви-, тебского вида. Сейчас, когда город лишился памятников; старого зодчества, .когда колокольни разрушены, а на-их . местах либо площади, либо' коробочные здания-Ч эта плоскость усугубилась. Единственными силуэтами: остались башенка бывшей ратуши да серые громадьг элеваторов. Глаз ищет на чем остановиться.и не нахо-; дит. А, между тем, рельеф с прихотливой петлей Дви-; ны, с высокими прекрасными берегами, со взгорьями и спусками очень благодарен для градостроительства!-, Это мне сказала и Александра Юрьевна Данилова,г после того, как, поколесив по незастроенным проспектам и боковым улочкам, где через заборы перевеши-; ваются отягощенные плодами яблони, мы взобрались; на Юрьеву горку. Половина города открылась перед нами! Мы зачат; рованно стояли на упругом ветру под покровом широ-ченного расцвеченного облаками неба, среди бурьяна* который по обочине тропы принимал гигантские размеры, а дома под ногами, напротив, становились маленькими и будто рисованными. Цвет и силуэт отсюда были особенно важны, зрительно определяя город. — Вон то здание, в красном цвете, было намного красивее. Кирпич оштукатурили, и оно потерялось среди остальных! — Но кто, кто та последняя инстанция, которая определяет эстетику? Строительное управление? Инженер? Заказчик? — Нет, архитектор. Просто он не осмелился настоять на своем. Мы продолжаем стоять у крутого склона, нам как-то трудно уйти отсюда. Взгляд еще не насытился про- 326 стором, уши — звоном ветра, ноздри — пронзительными запахами вольно растущих трав. — Жилые — здания мы здесь не проектируем, слишком ветрено*— говорит Александра Юрьевна. Глаза ее с азартной жадностью блуждают по сторонам.— Но ах, какое богатое место! Мне тоже кажется, что здесь прямо-таки просится круглый павильон со стеклянными стенами на все стороны, балюстрада вдоль смотровой площадки. Даже какой-нибудь величественный памятник; бронзовая фигура древнего зиждителя Витебска или Доватор- на коне. Помнится, я видела в архитектурных мастерских проект трех летящих коней, как бы возносящихся друг над другом. — А по склону можно создать ансамбль ступенчатых домов! —; продолжает она.— Поставить их или традиционно вдоль террас или же поперек, с оригинальным решением, лестниц, переходов, крыш, двориков. Ее темные, глаза разгораются все ярче. — Человек любит реку, небо. Ему хочется видеть все это перед собою постоянно! И вдруг спохватывается. — Но пока у нас нет даже заказа на Юрьеву горку. Мы* нехотя спускаемся. Навстречу в гору плетется старик с коромыслом — вода сюда не проведена. Витебск все еще сохраняет облик большой строительной площадки, многое в нем намечено пунктиром. Завод радиодеталей, например, расположен по той, пока еще пустынной, магистрали, которая продолжает проспект Фрунзе. Здание веселое, нарядное, ка холме. От входа сбегает широкими ступенями инкрустированная цветной плиткой лестница. Но ведет она... в болотце, через которое наспех переброшены к трамваю деревянные мостки. Улицы нет, она «не оформлена», как выражаются архитекторы. Строительство в городе идет по всем четырем сто- ронам света (мы проезжали маг&здевьг-ф ■ .сим]?ол1Ш«сщ^ ми названиями: «Восток», «Северный», «Южный».;;!)!; Но любимым микрорайоном, как мне показалось, стал: именно южный.. Это г- городок в городе. С лужайк&Ш* между поставленными под разным углом домами, •с а'с/ фальтовыми проездами и даже каменными вазами.-н ( перекрестках, из которых низвергается поток цветущих]; розовых петуний. В этом микрорайоне йостроена прё4:! красная школа с актовым залом и плавательный;: бассейном (последний — детище неуемной энергии и ' настырного упорства секретаря горкома. Воздвигало^. бассейн чуть ли не методом народной стройки, как мне.; рассказывали). — Мы с вами по-разному смотрим на город,— до* 'Г; садливо сказала Данилова.— Вы видите то, что есть сеч*;’: годня, а я знаю, что будет после, что должно стать. Про-спект Черняховского строился двадцать лет назад, и. др д сих пор до него не доходят руки, а все эти типовые, до*'; ма можно украсить, придать им индивидуальный офлик. при некоторых затратах. На этом вот пустыре мне, ви% дится многоэтажная гостиница, она отлично» впишете* ’ в береговой рельеф! Или район реки Лучесы; Там нуж на плотина, оборудованный зеленый островок отдыха; :' с рестораном. Каждый район должен иметь свое лицо, :: этим и создается стиль города. —А пока? — Пока от последней трамвайной остановки ; надо / идти до луческого леса четыре километра. И все-таки , на наших буквально глазах трамвайные линии подпол-, зают все ближе и ближе. — Вы не считаете трамвай старомодным? — Вовсе нет! Троллейбус, по-моему, просто большой, сарай, который сам постоянно запинается на останов-% ках и другим мешает. А трамвай подвижный,, дешевый и вместительный вид транспорта. Я открыла было рот, но промолчала, 328 Г-...Г.....—„ — .............. 3:' -- ; ’ 1ч'-' к; . . • Мы въехали в; десятикилометровый тупик улицы ...Горького, _ ; . | Кстати, почему именно Горького? Это заводской 'район; иногда даже представляется, что корпусов здесь ' больше, чем жилых домов. Любое название — Индустриальная, Фабричная — гораздо больше по смыслу подходило бы этой улице. Так и Гончарную переименовали в Герцена. Правда, гончары здесь больше не проживают, но ведь и-Александр Иванович Герцен никогда не жил! В названиях следует хранить либо намеки на историю города, либо приурочивать переименование к какому-то памятному событию, которое также становится вехой. В именах, мне кажется, лучше отдавать предпочтение памяти лиц, так или — иначе связанных с местной жизнью. Тогда и Иван Иванович Лажечников мог бы претендовать на свой переулок! А уж Семен Крылов, самый активный из героев октябрьских дней в Витебске, не нанеся тем обиды прославленному однофамильцу, вполне мог бы украсить своим именем дощечку на угловом доме! Тем более что в записках композитора Юдина прямо указано, что в двадцатых годах улица носила имя Семена Крылова, а не баснописца — Крылова... Вообще, узнавание в новом старого — момент не только познавательный, но и эмоциональный. Я помню, как долго и безуспешно разыскивали мы по всему городу с Михаилом Степановичем Рыбкиным — энтузиастом-краеведом и моим неизменным консультантом — гарнизонную гауптвахту, на которой сидел заключенный накануне Октябрьского переворота Семен Крылов. Начальник архива высказал предположение, не лаходилась ли она при городской тюрьме? Или в задних помещениях у коменданта города? После размышлений оба варианта были нами отвергнуты. А, между тем, мне просто необходимо было узнать, по каким ули-г цам спешил Крылов, после своего освобождения, в Ла- 329 тышский клуб? И ч'го он видел: йз окон в долгие недели ]’ тюремного заточения? Разный пейзаж навевает разные ^ МЫСЛИ.-. • ‘ ' • • Г Однажды поутру в . гостиницу позвонил Рыбкин. ^ Я нашел! — раздался из мембраны его взволно-п ванно-восторженный голос.— Нашел человека, кото-Г* рый знает,где была эта чертова гауптвахта. Он в дет-;;', стве жил рядом. И когда благообразный, розоволицый, чрезвычайно : моложавый Валентин Карлович Зейлерт в надвинутом ■ на лоб берете привел нас со стороны Нового моста на набережную в Задвинье и начал обстоятельно описы-. вать дом за домом •— как существующие, так и исчез- • нувшие,— я ощутила нарастающее сердцебиение: мы приближались к Моему интернату. — Погодите! Не говорите больше ничего. Это он?—'"' и обеими раскинутыми руками обхватила обшарпанный кирпичный угол. — Разумеется,— сказал несколько шокированный Зейлерт.— Этот дом по традиции всегда связан с армией. Сейчас здесь Морской клуб... Но я его не слушала. Вся витебская история вдруг озарилась для меня как бы сильнейшей внутренней вспышкой. Тот самый дом. Значит, значит... что же именно значит? О, очень многое! И то, что мы с Крыловым, хоть и в разное время, смотрели из одних' и тех же окон, засыпали под одной и той же крышей. Й то, что между мною и им,:— а также между мною и Лажечниковым, мною и неудачливым Барклаем, мною и хму-' рым Ольгердом, мною и победоносным Невским и так далее, и так далее, вплоть до безвестного витьбича Братилы,— что между ними и мною протянулась живая ниточка. Моя собственная биография малой песчинкой тоже легла в историю этого города. И меня, как и их, нельзя из нее вычеркнуть. Я приобщилась к глубинному ощущению прошедшего тысячелетия, 380 ■ Но вернемся к- сегодняшнему дню. Итак, мы. проехали взад и вперед улицу Горького, плетясь в пыльном хвосте фабричных грузовиков, которые развозили свою продукцию кружным неудобным путем, и еще раз мысленно поторопили строителей — мост необходим району, как воздух! — А вот эту улицу,'сказала вдруг Александра Юрьевна,—я, конечно, сама не заасфальтировала, но, как депутат областного Совета, приложила к тому немало усилий. Скромная гордость прозвучала в ее тоне. Однако, когда я переспросила название улицы, потому что не разглядела табличку, она не захотела ее назвать, видимо, смутившись. Сейчас Даниловы увлекаются так называемой структурной архитектурой: зданиями без строгой симметрии. — Здание должно формироваться, как живой организм, пластично,— говорил Виталий Александрович, когда мы втроем поздно вечером шли через Старый мост.— Вам понятен наш специфический язык? Я с готовностью смотрела в его мягкое, слегка ироническое лицо. Во мне до сих пор жива наивная вера, что поймешь, когда потрогаешь. — Нет,— виновато отозвалась.— Не очень. Тогда они напомнили мне проект большого зрелищного комплекса с несколькими залами, который готовятся возвести в городском саду над Витьбой, взамен жалкого летнего кинотеатрика. Много каких-то пологих переходов, уступчатых крыш,, распахнутых лестниц — по крайней мере мне так вспоминалось это теперь. Нечто от неровностей зубцов леса и кустарников или от живого сообщества коралловых ветвей. — Поняла! — воскликнула я радостно.— Кажется, в самом деле что-то поняла! Кубики остаются те же, но расставляем мы их по-разному? Данилов кивнул. 331 ____.. . . ... . . ....... — ---- ■ ■ -мДЕЬдд ; ' — ' [ \ . '■ ; .. ' ' Щ " — '■ ' ". — Нужен излом, -всплеск. Без этого нет современно-.;: ■; то зодчества,— сказала Александра Юрьевна' поясняя;•' слова.жестом: -вскинула и уронила ладонь, — 1Г* Мы перешли мост над дегтярной Двиной, в которой!' отражались прищуренное глаза фонарей, и вступили на<Ц улицу Кирова, ведущую к вокзалу. Как жаль, что ныне ^ вывелось- обыкновение прибивать табличку с фамилией | | зодчих: ведь эта улица целиком создана Даниловыми!% Мысль, взволновавшая меня. : — Вы любите Витебск? — неожиданно спросила > ■; я их. Они ответили: — Очень! * * * В Витебске настала пора юбилеев! Городу тысяча [" лет, а городскому трамваю — семьдесят пять. Это не так мало; он- проложен одним из первых в России, по-' л еле Киева и Нижнего Новгорода, в том- же году, что' ч. курский и екатеринославский. Сейчас трудно установить, почему именно в Витебск слетелись, как шмели на "лакомый плод, бельгийские концессионеры? Чем привлек их обычный губернский город, его извилистые улицы, мощенные булыжником? Трамвайные бельгийские мессии вовсе не помнили, конечно, о том, что за пятнадцать еще лет до их коммерческой инициативы первую модель движущегося электрического вагона создал русский военный инженер Федор Апполонович -Пироцкий. Как и многие другие изобретения в царской России, оно не пробило себе дороги и осталось лишь ;в архиве опечаленного изобретателя. Зато удачливый чужестранец Фернандо Гильон подписал в феврале 1896 года официальный договоров котором говорилось, что он. «обязуется на свой страхи-риск устроить в городе Витебске электрическую желез- 3.32 Г". У лую с верхними- проводами дорогу с подвижным составом и всеми к ней; принадлежностями, причем,им должны быть приняты меры к. обеспечению безопасности 'публики». Не вина Гильона, что взятая им сорока летняя; концессия просуществовала едва половинный срок: революции никогда не входят в расчет капиталистов! Но в 1896 году небо над Россией, хотя и пасмурное, не предвещало столь сокрушительной грозы, и бельгиец проявлял энергию беспрепятственно. У вдовы Веревкиной был куплен земельный участок в конце За-дуновской улицы и возведены мастерские, а также; несколько поодаль, небольшая электростанция — та самая, где спустя четверть века, в мае 1923 года, Владимир Ильич Ленин будет зачислен в штат почетным машинистом!, Пока же, в июне 1898 года, под звуки специально заказанного «трамвай-марша» бельгиец с декоративным радушием, пожимал руку только что закончившему трамвайные курсы Кузьме Цимлякову и вручил , ему десятицелковик. А затем цветной открытый вагончик, с навесом, под отчаянный аккомпанемент звонков и дребезжания,, ;пустился в свой первый пятикилометровый рейс. Эра трамвайного движения в Витебске началась. Дальнейшие отношения бельгийского предпринимателя и витебских трамвайщиков складывались не столь идиллически: в 1905 году возник профсоюз, который уже пытался защищать работников от безудержной эксплуатации Гильона и кампании. А что эксплуатировали безжалостно, достаточно одного-единств енного факта в подтверждение: профсоюз требовал, чтоб рабочий день ограничивался.., шестнадцатью часами в сутки! По скольку же работали витебские трамвайщики до этого?! ..., Раннее холодное ноябрьское утро 1917 года, когда по 333 темным улицам, к депо стекались торопящиеся мужчй| ны и женщины, чтобы начать однообразно-изнуряю-щую смену, вдруг повернуло всю их дальнейшую жизнь; по-новому. Чей-то голос ломко и радостно прокричал: «Временное правительство свергнуто! Власть перешла ; в руки большевиков,. в руки народа!» Ошеломленное 5 молчание прервали звуки «Интернационала», запела; кондуктор Сергеева. Все подхватили... Так вспоминает;; теперь те далекие времена Иоганна Ивановна' Кейв, ве- ■ теран витебского трамвая. Не помню, имела ли я уже случай сказать, что ви^ тебляне очень любят свой город? Слово «очень» не носит поверхностного всеобщего характера, оно выражает! превосходную степень в первоначальном и буквальном ? смысле. Витьбичи неохотно расстаются с берегами Витьбы и спешат вернуться к ним при первой возможности, а разлученные с городом надолго тоскуют по нему. Художник Шагал, проживший всю жизнь в Париже, решил навестить родину уже в очень преклонных годах, но в Витебск он не приехал: и через пятьдесят лет маэстро боялся, что волнение убьет его! Его муза все эти годы оставалась витеблянкой; он изображал ее в виде фигуры, летящей плашмя над городом, с волшебной флейтой у губ и одним разверстым на поллица вещим оком... Этот образ трубача, то ли с пастушеской дудкой, то ли с сигнальным горном, рано возникает в его полотнах, и поначалу более всего был похож на конного, красногвардейца, трубящего сбор в алой рубахе и под алым флагом, тучей занавесившим полнеба-. А' исполинская лошадь ставит копыта между кривыми витебскими домишками... Художник дышал тогда воздухом революционной Родины, впитывал всеми порами ее грядущее, и-на его полотнах играло разливанное море цвета! Даже увлекаясь кубизмом, перекашивая из-? ломами глиняный кувшин и зажженную керосиновую лампу, он обливает эти предметы радостным багрянцем, словно смотрит на сказочный в своей убогости на- ; тюрморт через красное стеклышко. Стихия лубка, сти-Ь хия уличных вывесок сильна в любой его вещи. Шагал : уехал, но глаза его оставались в Витебске. Он продол-^ жал видеть все то же — окраинные переулки, снежную ; Двину, мосты, соборы. Только живой образ трубача все ■: больше трансформировался в бесплотного ангела, а му-| жичок-раскоряка с дремучей бородой, квадратно вски-нувший руки с поднятым кверху барским особняком — ! словно пнем, вырванным из пашни! — и надписью «Вой-^ на дворцам» между луговыми цветами, из реального белорусского крестьянина превращался в нечто отстра-р ненно-библийское. Город двигался вперед; художник оставался в прошлом. Вся энергия его таланта уходила ; на битву призрачных образов, а ведь силен он был именно земным ощущением мира, пониманием его трагедии и его юмора! «Сегодня, когда я изображаю распя-тие в окружении религиозных сцен, я испытываю почти то же ощущение, как при драке кричащих людей»,— [ говорил он сам. ! Человеческой жизни суждено тускцеть и теряться в движении времен, Но как хорошо, если,' подобно лесу, рядом со старыми корнями поднимаются побеги!.. Я думала обо всем этом, рассматривая стеклянные витринки в небольшом музее при Управлении витебского трамвая. Это-было 27 июля, день юбилея, и хранитель музея словно от сердца отрывал бархатное почетное знамя, которое должно было сегодня фигурировать на торжественном заседании. Его временное изъятие разрушало, по словам растроенного энтузиаста, всю экспозицию. Было.ясно, что он может растянуть экскурсию по. од-ной-единственной и не такой уж обширной комнате с двух часов до двух суток и я- просто лично обижаю его, не согласившись.., 235 Люди, скачущие верхом на любимом коньке, всегда [I; вызывают у меня глубокое восхищение. Несмотря'нй|| неуживчивость и колючесть характеров, они трогатель-!' ны и бескорыстны. От них' исходят флюиды счастья;; Потому что, разве это не счастье, отдавать жизнь тому-что любишь? Но еще большим счастьем, более; полным и неизменным, одарит тебя судьба, если дело, которое и ты делаешь, нужно твоей родине, сообществу единомышленников, тем, с кем, подобно слабому ростку, ты одновременно поднялся к жизни, пробудился к бытию, И вот вы все уже стоите густой порослью, а затем и мощным лесом. Ты живешь не один; ты исповедуешь общие, с другими идеи — и признаешь их настолько справедливыми, чтобы посвятить им всю жизнь! Человек счастлив потому, что нужен родине, а она нужна ему. Этого, главного счастья лишил себя удачливый художник Марк Шагал, по рождению вйтеблянин. И нам его жалко. Исконная привязанность -витьбичей к городу, их верность, их однолюбство распространяются и на выбранные профессии. Начиная с конца прошлого века в списках витебских трамвайщиков повторяются те же самые фамилии: Нестеровичи, Цимляковы, Саковичи... Смена отцов, детей и внуков происходит с мудрой неизменностью движения времен года. Помню, как на юбилейном заседании в президиуме сидел крошечный тщедушный старичок со слезящимися глазами по фамилии Китаевский. Когда в докладе мелькнули слова: «колея была узенькая, вагоны маленькие» — он быстро закивал головой: Да, да. Узенькие, маленькие... Помню, помню... Его выцветший взгляд в эти минуты устремлялся в глубь минувшего. — Ты- сколько работаешь на трамвае? — спрашивает он свою соседку Марию Даньченко* • которой- только что газ вручили почетную грамоту, и ее впалые щеки еще ярко пламенели от волнения. — Двадцать шесть лет,— отвечает она рассеянно. — Так, так. И не понять: одобряет или сетует, что маловато? С высоты его возраста, его памяти — памяти рабочих узловатых рук — это и впрямь немного. — Когда первый трамвай после войны пустили, ехал и я в нем. Ночью вышли. И молоты с собою везли: заметим вывороченный булыжник, останавливаемся, бьем молотами, вбиваем в мостовую. Так всю ночь проработали. Утром люди из домов выходят, видят: трамвай идет! Первый! Кто плачет, кто крестится... А ты не знаешь, ты молода. Даньченко не возражает, хотя она пришла на трамвай еще в 1948 году. С Марией Генриховной Даньченко я была немного знакома: нынче днем проехала с нею весь маршрут по Марковщине и даже постояла за ее спиною в водительской кабине. Это удивительно, но город из стеклянной будки вагоновожатого предстает совсем другим! Просторным, стремительным. Ни толчеи, ни лишних остановок. Ритм размерен и графически строг. Рельсы весело змеятся. В лужах отражаются, как любопытные глаза, бегущие окна домов. Иногда чувствуешь себя, будто в самолете: много неба, •много ветра, быстрое движение. Да и сама Мария под стать этой легкости: она нервно-подвижная сухощавая женщина в цветастой кофточке. Только руки ее на рычагах неожиданно спокойны и крепки. Я не перестаю удивляться этому контрасту. — Наша работа требует внимания,— просто объясняет она.— Вошел в трамвай и забудь все, что осталось за плечами. Будто и нет у тебя никакой другой жизни, кроме него. Некоторые за один год хотят стать царями, а так нельзя! Я вот работаю двадцать шесть 12 За к. 708 337 ■—1РТ~1—I*—Г*> лет, премии получаю, вижу внимание от своей органи-; зации. А иногда и не получаю премий. Так что? Работа я тоже сама по себе награда. Если все ладится, люди] мною довольны — что мне еще надо? ' ■'* О муже она говорит удивленно-весело; был всю; жизнь мастером на трикотажной фабрике, а теперь вдруг захотел учиться, кончил курсы газосварщиков («И, представьте, все на пятерки! Он у меня такой: седой, а... молодой!»). Как каждая мать, Мария беспокоится и о выпускнице-дочери: та собралась поступать в юридический институт в Ленинграде, сдаст или нет? Я чувствую, что вопреки логике ей хочется,. чтоб дочь вернулась обратно и работала рядом с нею. Институт это хорошо, но она не считает и свой трамвай занятием ; второго сорта. Витебские трамвайщики гордые люди, я это уже заметила. За ними стоит многолетняя традиция... Город просто невозможно представить без трамвая! В желтокрасных торопящихся вагонах есть что-то неизменно надежное, работящее, даже поэтическое. Недаром и я сама, пытаясь воскресить во время войны образ далекого Витебска, видела, как Над невидимой водой Бегают трамваи. Электрической звездой Подмигнут и тают. Образ реки и образ бегущего над нею по мосту вагона сливался в моем представлении в общую мирную пленительную картину... Не хочется обижать витебский автобусный парк, но он плохая подмога трамваю: автобусы ходят редко, набиты битком и выматывают душу, как малое суденышко в морскую зыбь. Младший брат троллейбус ожидается витьбичана-ми, напротив, с любопытством. Все, конечно, многократ- •ззз |но пользовались им в других городах, но — славны бубоны за горами! — как-то поведет он себя в Витебске? Каткие маршруты заменит, какие дополнит? И, прежде чем распроститься с этой темой, я хочу "упомянуть добрым словом еще одного человека, имею-щего прямое отношение к витебскому трамваю, ибо гон его начальник — Григория Александровича Карна-чова. Своей низкорослой щуплой фигурой он чем-то схож с тем старцем, который восседал в юбилейном президиуме, хотя у него в его шестьдесят лет в густой шевелюре седины вовсе не видно, а многочисленные мор- ■ щинки на лбу и щеках так подвижны, так энергичны, — что и не старят вовсе, а скорее молодят — бывают же такие лица! И он ветеран витебского трамвая, и он прошел мно-; го должностей, пока стал начальником, но я не о био-:■ графии — я о доброй славе, которую он снискал среди : людей. Ведь не так просто среди вороха ежедневных , служебных дрязг и неизбежных производственных не-; поладок сохранить всю открытость души, всю прыт-, кую неутомимость двадцатилетних! И неспроста, нет, неспроста награждается человек такими чистосердечными, словно обрадованными рукоплесканиями, едва называют его фамилию, чтобы вручить почетный знак. А уж он-то сам как- был непритворно рад! Как крепко обнял за шею, слегка подпрыгнув, секретаря горкома; как заблистали растроганными слезами его глаза! И весь зал — сослуживцы, товарищи — потянулись к нему с такими же счастливо улыбающимися лицами, устремили на сцену растроганные взгляды. Знаете, что мне рассказывали о Карначове? Что он с пяти часов утра уже в парке. Что зимою, после снегопада, первый хватает лопату, чтобы разгребать пути. А если где затор, то бежит к вагону и сам берется за рычаги. «Человек моторной силы!» — сказал о нем с ве- 12” 339 Т селым изумлением один трамвайщик. И, пожалуй, ни-чего больше и не надо прибавлять к этим уважительно^ лестным словам! . ..л * * * ’-Н». — :-!! _ ’?! Все мои здешние маршруты невольно начинаются от детства. Тут уж ничего не поделать. Дравда, не только моего, но и детства самого города. Во времена княгини Ольги на правом берегу Двины был лишь «бор велик». В одиннадцатом веке при отважном ведуне Всеславе в Задвиньи уже существовала слобода Русь. Скорее всего так именовали поселение } торговых киевских гостей, историки не пришли к опре- . ; деленному выводу. По соседству с Русью начали обосновываться лодейные мастера, тогдашнце судостроители. От Видбеска, города на холме, их отделяла широкая река, через которую существовал лодочный ." перевоз, и слабожане переправлялись, наверно, не так уж часто, больше по рыночным или производственным делам. К девятнадцатому веку правобережье застроилось не менее тесно, чем левый берег. А в начале двадцатого, с первых месяцев империалистической войны, между улицами Госпитальной и Канатной — совсем близко от моего интерната, тогда еще гарнизонной гауптвахты,— возникла небольшая артиллерийская мастерская, предназначенная для нужд Северного фронта. «Рабочие в серых шинелях», как их называл Крылов, отличались боевым революционным настроением; они организовали первые Советы солдатских депутатов и активно участвовали в октябрьских событиях в Витебске. В 1918 году, после демобилизации старой армии, губернский комитет по борьбе с безработицей преобразовал мастерские в небольшой заводик сельскохозяйственных орудий: в шести цехах тогда насчитывалось 340 .1 11 еле-еле сорок рабочих. И все-таки к осени «Красный металлист», как он стал называться, выпустил полтораста молотилок «Ланца», триста двадцать пять веялок, две тысячи плугов. Одновременно для фронтов гражданской войны. изготовлялось обозное снаряжение. В 1920 году по важности своей продукции ра.бочие «Красного металлиста» получали «боевой паек». Тогда все заводы были разделены на три группы: ударную, вспомогательную и подлежащую закрытию. На первую — куда был включен и витебский завод,— как наиболее жизнеспособную и производительную, «обращено все внимание, все надежды республики», писали в резолюциях. Спустя год завод расширился, на нем работало уже более семисот человек, и не пришлых, а своих, витебских. Появились первые герои труда, герои первой пятилетки. Свое теперешнее наименование завод получил в 1934 году после гибели Сергея Мироновича Кирова. Изменился профиль; постепенно кировцы стали специализироваться на выпуске металлообрабатывающих станков — обдирочных, полировальных, сверлильных и гайконарезных. . Грянул гром сорок первого года. . Мы. уже помним, как поспешно вывозили из горящего Витебска фабричное оборудование, как близкие теряли друг друга в .тяжелом пути, как оставшиеся уходили в леса и держали в партизанском краю «Витебские ворота». Нужна была бы отдельная книга, чтоб рассказать обо всех тех, кто небольшим коллективом в далеком Оренбурге за короткий срок перестроил завод на военное производство; о бойцах —> живых и павших — на фронтах Отечественной войны; о молодом витебском слесаре Борисе Чеблакове, который стал летчиком, и чтобы дать прорваться от Ленинграда звену советских 341 самолетов, дерзко и бесстрашно кружил над вражески-ми зенитными батареями, пока не загорелся сам. Но и на пылающем самолете Борис не помыслил о собственном спасении. Последним усилием воли отважный витьбич бросил гибнущий самолет в гущу позиций врага... А потом было возвращение к развалинам. В смертельно раненный город, который предстояло воскресить. Открывалась новая страница: завод начинал жить. Учёник-ремесленник Анихимовский рядом со взрослыми рабочими восстанавливал литейку (первой ее продукцией были ложки и чугунки). Лихорадочно-убыстренными темпами превращал пустырь в те ряды корпусов, которыми предстал моим глазам нынешний завод имени Кирова! Это здесь в 1945 году его, совсем еще зеленого паренька, но уже старательного и безотказного рабочего, принимали в партию (о тогдашнем секретаре парткома Татьяне Давыдовне Пескиной Анатолий Александрович Анихимовский проронил с благовейной печалью: «Вечная ей слава и память!»). Переступив порог проходной, я ничего еще не знала об Анихимовском, кроме фамилии и официальных данных: орденоносец, делегат партийных съездов, член ЦК Коммунистической; партии Белоруссии. По цеху он промелькнул не задерживаясь, в памяти остались смородинно-черные глаза да беретик, надвинутый на смуглый лоб с залысинами. Профессия .слесаря применительно к такому количеству машин тоже мало что объяснила мне. Вообще, завод, как каждое чужое рабочее место, вызвал во мне робость и смутное ощущение собственного невежества. Если б это ощущение проявилось более зримо, например, от чьей-то насмешки,- то у меня нашлось бы чем на нее ответить. Как оборонительный щит, можно было бы выставить свой письменный стол с грудой исписанных вдоль и поперек рукописей; 342 ; артиллерию памятных книжек с полными снарядными ■. ящиками набросков, пулеметной скорописью лейза-жей, афоризмов и портретов: «а вам это понятно?!» Но никто , не сказал мне ни слова. Напротив, дели-; катно предполагалось, что у меня большой опыт в со-зерцании станков плоскошлифовальных и бесцентрово-шлифовальных (модель ЗВ182), что я знаю толк в про- 1 граммном управлении и имею свое мнение о совершен-Ь .ствовании литейного конвейера. Р На самом же деле, единственное роднящее меня |: с высокомудрым заводским людом — это твердое убеждение, что все мы начинаем с общего исходного инструмента: с человеческой руки. А уж держит ли она болт, передвигает рычаги или водит пером по бумаге — это вопрос специализации! От пяти пальцев и натруженной ладони ведут родословную простейшие орудия, которые усложнялись, совершенствовались, и так шло из века в век, пока не поднялся этот завод с его подъемными ■ кранами, штабелями труб, блоками, рельсами, самокатными тележками, болванками литья, двигающимися V.- поршнями, алмазными резцами, охлаждающей эмуль-] сией, которая сочится на зеркально-гладкую деталь, будто млечный сок из стебля одуванчика, и всем тем [■: гулом, уханьем, скрежетом и стрекотаньем механизмов, которые плотно входят в уши и погружают в осо~ бую радостную стихию — стихию работы! Выло увлекательно говорить с патриотами завода. И быстро седеющий, мягко растягивающий слова от легкого заикания директор Павел Павлович Соболевский, и подвижной, с рассыпающимися в артистиче-ском беспорядке волосами и мускулистыми руками, об- ■ наженными по локоть, начальник термоконстантного цеха—цеха особо точной обработки!'—Анатолий Васильевич Гирман связаны с заводом много лет; здесь проходит их самая насыщенная, самая протяженная половина жизни,.То, что мне кажется громоздким, за- путанным многими переходами, усложненным для восг {] приятия —для них дом родной. В том, что для меня | носит всеобщий, повторяющийся характер (как и на ! других заводах!) — их глаз видит индивидуальное, поч- ’ ти одухотворенное... Производственный термин «гамма станков» (от ма-, ленького до большого) произносился Павлом Павлови- $■ чем с такой теплотой; я бы даже рискнула сказать — | трепетностью, что можно подумать: он ймеет дело и. | впрямь не с металлом, а с музыкой! Чувствуется, что 1 для него привычка — ежеминутно держать в голове,; весь завод. От литейного цеха, который, как и повсюду, ■: полон чадом и резким запахом железа,— а на медленно ; движущемся конвейере сырые глиняные опоки тлеют огненной начинкой,— до маленькой комнаты четвертого участка механического цеха, где возле станков с про-граммным управлением, напротив, очень тихо и подчеркнуто опрятно. Двое рабочих (один юнец с волосами до плеч) поглядывают на высокие столы с вращающимся толстым диском и на шкафы с разноцветными кнопками. Их труд заключается во внимательности. Они следят за формирующейся на их глазах деталью, спрыснутой белой эмульсией, как учителя во время контрольной: не останавливаясь в мерной бесшумной прогулке между рядами парт, они ненавязчиво заглядывают через плечо в тетради... Подумать только, что из этой небольшой комнаты и начинается будущее завода! В самые ближайшие годы на территории, прилегающей к Двине (а также к моему бывшему дому), должен быть возведен большой цех станков с программным управлением. Приборист станет такой же обычной заводской фигурой, как и сборщик, слесарь или кузнец. — Современное станкостроение идет по пути все большей точности,— говорит Соболевский.— Когда-то было вполне достаточно нескольких долей миллиметра. Кстати, мы единственный завод в стране, который делает станки для обработки шариков и роликов (наши рабочие говорят: «начинка для подшипников»). На перовом таком станке с шарика снимается «сатурново коль-цо», затем идет шлифовка и доводка между чугунными дисками со специальной пастой... Так вот, когда мы до-^ бились точности в микрон (шутили, что в Витебске . «ресщепили микрон»), это было большое достижение: ведь микрон всего лишь одна девяностая часть толщины человеческого волоса! А теперь за такую точность лишаем премии. Подшипниковцы требуют от нас станки для «нулевой точности». Это, я скажу вам, уже не-: что умопомрачительное! А Анатолий Васильевич Гирман,. который вдохновенно водит меня от станка к станку по всему цеху, добавляет, что его суперфинишные дают детали с такой точностью, что если дотронуться, то тепло кожи уже расширит металл на десятые доли микрона! Рабочие специально проверяются на потливость рук, и два часа деталь, перед которой принцесса на горошине просто бесчувственная тумба, должна еще акклиматизироваться в температуре цеха. Термоконстантный потому так и называется, что в нем от ровного дыхания кондиционеров царит вечная весенняя прохлада. Во всю ширину крыши тянется неглубокий охлаждающий водяной бассейн. А сам цех — это закрытое со всех сторон помещение, упакованное в толстые стены, с созвездиями мощных ламп в круглых гнездах потолка, В цеху работает сто человек, заработок ни у кого не опускается ниже двухсот рублей. Здесь собраны самые квалифицированные рабочие завода, обладатели «золотых рук». Я не удержалась, дружески пожала одну из таких «золотых рук» — в лаборатории проверки точности у Шуры Хапкиной, молодой женщины в белом халате и вишневых лакированных туфельках. Пока дол- 345 г жен был прийти Анихимовский, мы потолковали с ней о детях, о погоде, о ее занятии...' ■ . Не скрою, против человека, о котором все говорят только хорошее, возникает помимо воли легкое пред^ р; убеждение. К нему относишься более придирчиво, чем к остальным, следишь за каждым его мимолетным ду~ I шевным движением зорче. Добрая слава — тяжкая но^ ша! Похвала не столькр дает, сколько требует обратно. Позтому меня не удивило, что Анатолий Александрович Анихимовский держался несколько насторожен- | но. Моей задачей стало, чтоб он отрешился от ощущения рентгеновского аппарата между ним и мною, да и самой хотелось побороть скованность от излишнего. внимания, с которым я воззрилась на него. Определения {■ «рубаха-парень» или «душа нараспашку» не подходили к моему новому знакомцу. Он был ненавязчив, точен, предупредителен. Ни тени неудовольствия не промелькнуло на его собранном смуглом лице, Припорошенном легкой металлической пылью, хотя шло его рабочее время. Он вызывал острый интерес, который невозможно было утолить мимоходным получасом. Мы договорились о новой встрече. Сейчас могу сказать, что устоявшееся впечатление о нем лучше всего выразить словом «собеседник». Он обладает проницательностью и чутьем на людей, не уклончив даже при острых поворотах разговора, а словоохотлив как раз настолько, чтобы не только высказаться самому, но и послушать другого. Наше общение облегчило, видимо, то, что мы с ним почти сверстники. Одни и те же беды обрушивались на нас, одинаковые иллюзии питали душу. Наша юность была богата идеалами, и теперь, многое оставив за плечами, мы оба согласились, что суровое время не обделило своих детей! Рассматривая его фотографии, которые не собраны в альбом, а засунуты в комод небрежным ворохом, 346 я пришла к выводу, что его внешность менялась с годами скорее психологически: тяжелая челюсть, широкие скулы —что-то от деревенского парня-увальня — исчезли сами собою. Лицо становилось выразительнее и тоньше: острозаточенный нос с горбинкой, круглый обширный лоб, низко надвинутые на глаза брови — облик человека с быстрым умом и самообладанием. Однако, как бы мы ни варослели, наивный неогляд-чивый подросток все еще живет в каждом из нас. В Анихимовском он пробудился, когда, поворотив свою ; «Волгу» в закатном свете на площадь Свободы (буду-?" щую площадь! Пока она разрыта по всем радиусам и I купается в облаках пыли), он вдруг сказал с поспеш-г костью — и голос его сразу стал моложе и звонче: — Стоп! Теперь смотрите. Вот отсюда, от Лучесы, я пришел в августе 1944 года в Витебск. Город дымился, его освободили чуть больше месяца назад. Помню, как обжигало босые ноги головешками, как в пятку врезался осколок стекла... Там, где сейчас «Бульбяная», : работала моя старшая сестра в ремстройконторе. А жила она по Столярной улице, в полуподвале уцелевшего деревянного дома. В том же помещении теснились кроме нас еще две семьи. Около единственного окна стоял стол, по стенкам три широких топчана — на каждую семью по одному. Я через несколько дней ушел оттуда, поступил в ФЗО. Вот этот дом, он цел, в нем и теперь училище металлистов. В нашей группе слесарей было тогда тридцать пять человек. Сами для себя отремонтировали дом, выложили стены, вместо окон оставили только отдушины — дело двигалось к зиме. Собрали для общежития лом железных кроватей и тоже починили. На завод пришли в первый же день. Что там со-, хранилось? Ничего. Груда развалин, как и повсюду. У одного лишь складского помещения не обрушилась кркша да на полу валялся проржавевший ручной станок — это и стал наш цех. Поначалу мы выполняли за- 347 казы для госпиталя: из гильз снарядов делали кружки;; кастрюли. И собирали по частям кровати, их тогда много валялось вокруг. Обедать нас водили строем в столовую на Задуновской улице. Хлеб когда был, когда нет; пекарня работала плохо. На первое и второе готовили зеленые стручья фасоли. Потом наловчились выковыривать из золы слитки горелого сахара на месте немецкого склада. Выкапывали картошку: кое-где куст прорастал из развалин. Первую получку принес сестре в шапке, выложил на стол: «На!» Она очень обрадовалась. Моя зарплата равнялась рыночной стоимости пуда картошки и одной буханки хлеба. — Ну тебя,— сказала, пригорюнясь, его жена Майя.— Зачем вспоминать! У Майи Ивановны чисто белорусская внешность: конопляные волосы, удлиненное лицо с ямочкой на кругт лом подбородке, светлоглазая, прямоносая. Год витебского юбилея и для их семьи полон знаменательных дат: двадцатилетие супружества и тридцать лет, как Анатолий Александрович стал работать на заводе имени Кирова. — Много ли вас осталось с той поры? — Нет. Человек пятнадцать, не- больше. Витебск пополнялся медленно. Куда было ехать? Даже вместо вокзала стояла дощатая будка... В конце сорок пятого стало прибывать к нам на завод трофейное оборудование. Тут-то мы и стали по-настоящему учиться!, В училище нам лишь на словах объясняли, что такое металл. А здесь я сам запустил станок! Это была такая гордость.,. Я собирал тогда первые обдирочные станки и достиг пятого разряда, стал слесарем-сборщиком. Это уже настоящая профессия. — Как вы считаете, кому больше повезло: тем ребятам, которые приходят сейчас на новую технику? Или вам, ветерану? Он думал не больше секунды. 348 *— Наверно, им. Хотя завод их поначалу пугает.— И непоследовательно: — Но я бы с ними не менялся! Мы росли вместе с заводом и не боялись новых станков. В них все было наше, все до последнего винтика... Забыл вам еще сказать, что с сорок седьмого года я занимался в аэроклубе, и очень хотел стать летчиком, да меня призвали в войска наземной обороны. — В сорок седьмом году в разоренном Витебске был аэроклуб? — А что? Жизнь начиналась с ходу. Жизнь начиналась с ходу... Все, как до войны... Удивительный город Витебск! Анихимовский прослужил в Ленинграде несколько лет, был в армии, на отличном счету (среди кипы почетных грамот есть несколько, с обтрепавшимися краями, старшему сержанту), но когда ему предложили остаться и стать кадровым, он ответил своему командиру, что хотел бы вернуться к металлу. Тот внимательно посмотрел на бравого солдата. — Добро, старший сержант. Возвращайся к металлу. Ленинград воспитал вкус Анихимовскому: потом, когда ему пришлось со своими станками участвовать во многих промышленных международных выставках, ему было с чем сравнивать чужеземные города. — И какой же город за границей понравился вам больше всего? Он размышлял. — Вена. Это, надо вам сказать, нечто удивительное. А какой там Дунай! — Недаром Штраус сочинял про него вальсы? — Недаром! В Ленинграде началась дружба Анатолия и Майи, хотя увидались они впервые раньше, на деревенской свадьбе. Анатолий приехал на побывку, а у Майи были студенческие каникулы. Их посадили за пиршественным столом друг против друга, и он показался ей мол- 349 чаливым и застенчивым, а она ему береженой родительской дочкой... — Ну, и вы тогда же объяснились? — Что вы! Только года через два.— Обернувшись к жене, протянул с шутливым испугом: — И что бы я*, без тебя на свете делал?! ' Супруги окончательно признали меня за свою. Жил-был более полувека назад в Витебской губернии в деревеньке Губица, что в пяти верстах от станции Ловша, крестьянин Устин Смоляков. Предки его были смолокурами, на это указывает фамилия, образовавшаяся, как и все фамилии на Руси, от прозвища: смолой промышляет, смоляк, смоляков сын. А уж лесов; чтобы курить смолу, было вокруг Тубицы предостаточно!. Да и ее название, несмотря на нежную уменьшительность, таит в своей основе глагол «губить» — то ли деревья, то ли людей... кто их, пращуров, знает? Но Устин слыл мужиком смирным, имел четырех дочерей и сына Петра. Пётр родился в самый разброд: германцы, белополяки, банды зеленых, которых вышибала из пущ и болот Красная гвардия,— в общем, гражданская война, разорение, бескормица. Терпеливый белорус все превозмог. Пахал и сеял свою полоску, а когда Советская власть полностью утвердилась, отвел коровенку и рабочую сивку на артельный двор, и дети его — хоть и не шибко богато, но зажили уже иной жизнью: учились и мечтали о лучшем. Сын рос парнишкой долговязым, губастым, нос картофелиной, а глаза что твои незабудки. Рано начал он их щурить, вглядываясь с безотчетной пытливостью в окружающий мир. В Губице всего хватало для детского счастья — и лес, и луг, даже водяные ямы-сажалки (в них мочили лен) заменяли речку и озеро; так что 350 : окунуться, побарахтаться в туче брызг тоже было где. Петру долго казалось, что из своего земного рая он никуда не уедет; его жадность к впечатлениям бытия и { позже шла не как глотанье пространства, а через же-; лание проникнуть за невидимый контур вещей, в их ; цвет, за их осязаемость. Первые учителя рисования, которых он помнит до сих пор поименно, хвалили его за рисунки. Он старательно выполнял все, о чем просили: и лозунги писал, и стенгазету оформлял. Потом страсть к живописи неожиданно сникла и : как бы притупилась. Может быть, по контрасту небойкому юноше захотелось стать машинистом паровоза (с каким залихватским свистом, с каким шипеньем проходили они через Ловшу!). Им овладела та самая мальчишеская мечта о недосягаемом, которую десятилетие спустя у подростков следующего поколения сменила тяга к самолетам, а еще через тридцать лет — к космическим ракетам. Но в отличие от многих других пятнадцатилетиях фантазеров Петр Смоляков оказался так удачлив в своей судьбе, что добился и первого — стать художником, и второго — быть машинистом. Только в обратном порядке. А в промежутках между двумя главными пристрастиями успел за свою пятидесятипятилетнюю жизнь побывать землекопом, шахтером и-солдатом. Он видел и запомнил очень многое. Знал генерала Черняховского, чьим именем в Витебске сейчас названа улица, еще подполковником и служил под его началом. В горькие дни отступления из Прибалтики, под городом Опочкой, был назначен командиром орудия и —■ созерцатель, любитель лесного молчания — провел годы в грохоте, артиллерийской стрельбы, дослужившись до' командира батареи. Под Сталинградом ему не хватало снарядов. Орудия вынуждены были безмолвствовать до тех пор, пока не 351 начиналась прямая атака. Тогда он командовал своим несколько шепелявым голосом, вкладывая в него всю ярость, которую накопил за время вынужденного молчания; «Впер-ед!» Зато под Курском снаряжение поступало бесперебойно, и батарея сполна добавила свою честную долю к огненной дуге. Даже окончание войны — словно закругляя этот цикл своей жизни — он встретил в той же Прибалтике, в единоборстве с отчаянно и безнадежно сопротивлявшейся либавской группировкой. И именно оттуда был послан, одним из немногих,, на парад Победы; несколько месяцев отрабатывал в сводном полку церемониальный шаг и прошел-таки правофланговым — потому что высок ростом ■— мимо Мавзолея! Во время торжественного марша к нему словно возвратились глаза художника. Он увидел Сталина несколько в другом аспекте, чем все остальные в этот поистине исторический момент крайнего душевного напряжения. Верховный Главнокомандующий предстал перед ним не в символическом значении, а как бы в живописно-объемном: он увидел его плечи, едва поднимавшиеся над мраморным барьером, и всю лепку черт, окаменевшее выражение лица при неожиданно ярких глазах то гаснущих, то загоравшихся снова. Видение промелькнуло мгновенно, и было даже не главным для него, потому что прежде всего правофланговому надлежало держать равнение строя. Но он все запомнил. Возвратившись в Витебск, молодой артиллерийский капитан, в шинели, в сдвинутой на бровь пилотке, в крепких армейских сапогах, заявился в депо, где и высказал с обезоруживающим простодушием свою давнюю мечту водить паровозы. Как будто мало он еще намерил пространства и колесами и сапогами. И опять надолго, на десятилетие, отошла на задний 352 план его тяга к искусству, чтобы вспыхнуть уже в зрелые годы. Не он сам, а начальник Витебского отделения железной дороги Николай Лукич Ковша сказал мне, что возвращаясь из утомительного рейса Смоляков часто шел не домой, а тотчас брался за лепку. Мастерскую ему устроили тут же между путями, в глубоком подземелье блиндажа, оставшемся от военных времен. Когда я спустилась по крутой бетонной лесенке, в лицо пахнуло холодом, несмотря на знойный день, и запахом сырой глины. Смоляков при свете сильной электрической лампочки кончал бюст Константина За-слонова. Почему-то меня очень тронуло это переплетение многих начал. Рядом, в длинном корпусе депо, похожем на целый завод, ремонтники чинили тепловозы, паяли, клепали, монтировали; здесь их товарищ в затворнической тишине воскрешал историю легендарного витебского машиниста Заслонова. Сам Петр Устинович Смоляков, показавшийся мне в первые минуты мешковатым и неречистым, разительно изменился на следующий же день, когда мы бродили по Летчанскому лесу, уже как добрые знакомые, как коллеги, которым важно и совершенно необходимо проводить драгоценные часы в беседе, перескакивая с предмета на предмет, но не отдаляясь от главной темы — от искусства. Как у каждого самоучки, суждения Петра Устиновича отличались клочкова-тостью. — Я талант отрицаю,— утверждал он.— Мне кажется, человек может все, если только постарается вложить силы и душу. — А могли бы.вы писать стихи? Я знала, что он очень любит Лермонтова; дома у него эскиз сидящего Демона. Обожает Есенина, которого мечтает вылепить выступающим кудрявой головой из 353 путаницы ветвей или стога сена, словом, из чего-то мягкого, живого. А перед Твардовским — почти земляком: ведь смоляне и витьбичи связаны и соседством и историей,— благоговеет. Простое, но такое наполненное лицо поэта тоже не дает ему покоя, ожидая воплощения. — Мог бы и стихи,— упрямо сказал он. Но тотчас улыбнулся виноватой улыбкой: —Попробовал бы. К чему он нетерпим, так это к копированию. Даже работы очень знаменитых мастеров в его глазах обесцениваются тем, что подобную расстановку фигур!, особенность жеста он видел, скажем, у Родена. Его знания почерпнуты из прочитанных книг: афоризмы Шопенгауэра переплетаются с советами англичанина Лантери из лекций по лепке. —. Скульптор тот же портной,— повторяет он.— Роден без циркуля не работал. Надо измерять и измерять! Андреев, который первым лепил Ленина, думаю, сделал уже сто бюстов до того, как Ленин стал ему позировать. Он знал все его объемы и ловил лишь выражение... Посреди разговора мы вдруг остановились около поваленной березки. Она была очень высокой, но худосочной, стволик, как ножки у заморенного ребенка, В темноте елового бора ей приходилось безостановочно тянуться за глотком солнца — и вот она не выдержала собственной тяжести. Я только тут в полной мере оценила, до чего высок Смоляков: он поднял дерево обеими руками и поднял высоко вверх, где больную березу должны были поддержать широко раскинутые еловые лапы. И хотя мы знали, что это равновесие до первой бури, на душе стало легче; не бросили дерево без помощи. — Главное для человека не образование, а знаете что? — непоследовательно, но по-своему логично сказал он.— Семья и природа. Если человек здесь хорош, то он и в остальном в жизни не оплошает. От них начало нравственности. 354 Расставшись со Смоляковым, я все время думала: что бы мне хотелось, чтоб он вылепил? Перед депо стоит и его фонтан с двумя дельфинами (кстати, окрашенный почему-то в отвратительный охряной цвет!), и бюст Ленина посреди цветника, и героическая фигура, рванувшаяся в крике,— память о железнодорожниках-подпольщиках, и лепная ваза с барельефом. Дома уже почти готовый эскиз Калинина, очень живо наклонившегося вперед и жестикулирующего руками. (Калинин выступал в Витебском депо в девятнадцатом году, приехав на агитационном поезде «Октябрьская революция».) Но что бы я хотела еще? То, что сможет именно этот художник, а не другие. Следующее утро принесло ответ. ^ ^ Когда он вошел, слегка придыхая от лестничного подъема, ничто не предвещало мне, что этот человек — живая, легенда. Он был не грузен, но плотен и в то же время изящен в лаковых ботинках и праздничном сером костюме, с серебряными густо падающими назад волосами. В его чертах проступало что-то африканское: не только тем-нолицесть, но и широкий сильный нос, косо прорезанный энергичный рот, лоб с живыми складками, ярко взблескивающие рубиновой искрой глаза, похожие на глубоко сидящие глаза носорога. Чтобы подобраться к настоящему разговору, нужно время. Поначалу между двумя людьми происходит психологическая адаптация, и в этот промежуток одинаково хороша любая тема. Мы заговорили о старом Витебске. — Я уникум,— сказал он.— Родился и собираюсь умереть в Витебске. Покидал его лишь на время войны, 355 но и то нигде не жил оседло, а странствовал на колесах. Так что можно считать, что и это время было моим приближением к Витебску. У него редкое ощущение истории: не умозрительное, а идущее как бы из глубины собственного существа. — Родился? Здесь, на Руси. И даже я не сразу сообразила, что имеется в виду слободка, которую срубили в Задвиньи еще при Брячи-славе, отце воителя Всеслава. Мы немного поспорили, где она, та Русь, располагается в современном городе? Сошлись на том, что в районе завода Кирова и моего бывшего интерната. Значит, и я жила в Руси? Любопытно. А Керосиновый переулок, где стоял отчий дом Макаровых, после войны исчез. Из этого переулка в течение многих лет на работу в железнодорожное депо ходил и сам Аким Макаров и его сыновья, рано оставшиеся сиротами, из которых младший — а именно наш Николай Акимович — достиг к концу службы главного поста: начальника. Витебского отделения дороги. А в юности, начинал с технического конторщика. " На его глазах все вокруг менялось. Четырнадцатилетним он видел, как приезжал в Витебск Калинин (передал просьбу Ленина о сосредоточии всех сил для отпора врагу). На митинге выступали тогда и местные ак-.тивисты, комиссар Куйцевич и -бригадир-большевик Братков. Надо было налаживать транспорт, восстанавливать хозяйство. В 1920 году по путям ходил уже паровоз серии «Щ», который тогда был наиболее мощным («а потом пошел на гвозди!» — уточнил Николай Акимович). Вагончики брали по тысяче килограммов, и состав, который вез едва тысячу тонн груза, обслуживала бригада из шестерых человек. — Слышите, идет поезд? — прервал он самого себя.— ‘ Это к Витебску, под уклон полотна, угадываю по звуку. Издалека нарастал мерный перестук колес, словно некое травоядное перебирало железными копытцами. Потом окрестное пространство накрыл тяжкий гул, и бот уже грохот стал спадать, таять и, уносясь по нагруженным рельсам дальше, терять децибелы шума. — Этот тепловоз обслуживают теперь только двое, а тянет он вчетверо больше. Из одного довоенного паровоза «ФД» сейчас можно было бы построить два гораз-до более мощных «Л», так были громоздки и шло так много на них лишнего металла!.. Правда, в предвоенные пятилетки станция Витебск весьма основательно оснащалась техникой, была введена электрическая и автоматическая система стрелок и сигналов, а на всех направлениях двухпутные участки. Я работал тогда уже старшим диспетчером. Был один забавный у нас случай. Ведь граница располагалась близко: в пятнадцати километрах за Полоцком уже начиналась панская Польша. В Ригу поезда шли тоже через наш пограничный пункт Бигосово. Обыкновенно паровозы менялись, но однажды латыши попросили, чтоб и дальше следовала советская бригада, у них что-то стряслось с подменой. А1 это был комсомольский локомотив, весь в лозунгах и эмблемах. То-то поднялся переполох на рижском перроне, когда подошел на всех парах такой состав. Газеты закричали: «Красная агитация! Пропаганда большевиков!..» Это была пора стахановского, а у нас на транспорте кривоносовского движения. Я тоже шел по работе ускоренным темпом: и время само толкало вперед и приказ. Дремать не приходилось. В начале сорокового года уже стал заместителем начальника отделения дороги. Могу сознаться, что мне предлагали и более ответственное положение, но надо было бы переезжать в Минск, а я уже вам говорил, что никуда не хочу трогаться. Так и дожил здесь до начала Отечественной войны. Да... надо сказать, что никаких планов, указывающих на возможность эвакуации, у нас не было. Первые 357 дни с западных дорог шел сплошной поток. Начальники эшелонов вбегали в кабинет и спрашивали: какие указания? Мы отправляли их дальше — там уж разберетесь!.. И все-таки из Витебска мы вывезли все, да.и люди, кто хотел, выехали почти полностью. Сначала, правда, эвакуировали семьи лишь в ближние деревни, чтобы уберечь от воздушных налетов противника. А приказ о настоящей эвакуации железнодорожного узла получили ночью. Тотчас позвонили в обком и облисполком, а утром я уже отправил первые семьдесят вагонов на Смоленск, кое-как поспешно сбив в них из досок нары. И так пошло день за днем! Последний состав отправил накануне собственного отъезда, девятого июля. Открытые платформы; они попали под сильный обстрел возле Рудни. На витебском вокзале оставалась тогда лишь одна смена, да стояли под парами два мощных паровоза «ИС». Наши бойцы отходили мимо вокзала группами и в одиночку. «Что вы делаете, ребята?!» Они отвечали, что у них осталось лишь по паре гранат и винтовки с расстрелянными патронами, а по пятам движутся танки. Перелетом через Юрьеву горку обстрел шрапнелью стал накрывать и нас. В девять утра я отправил последний поезд, а спустя несколько часов тремя машинами мы проехали по Вокзальной. У моста наперерез кинулся часовой: «Стойте! Сейчас мост будем рвать!» Но мы дали газу и проскочили: выбора-то не было! Подъехали к обкому. Там уже находился госпиталь; санитары сновали с носилками,'на полу лежали раненые. Я достал часы и сказал своим спутникам: , «Запомните, товарищи: девятого июля в четырнадцать, часов мы последними оставляем Витебск. Вспомним этот день, когда вернемся». На следующей станции Лиозно я первым долгом спросил: «Где мой «хвост», из Витебска?» Оказывается, прошел благополучно. Ну, ладно. На душе немного полегчало. Хотя потом узнал, что от бомбежки половину 358 наших железнодорожных командиров мы потеряли в этом пути, особенно под Вязьмой. На 591-м километре в маленьком домике блок-поста поздно вечером встретилось несколько начальников отделений дороги, которые остались без дорог, как мы тогда невесело шутили. Из пятнадцати машин целыми проскочили лишь девять. По сохранившемуся селектору нашел я начальника Западной дороги; он от меня находился по прямой в сорока километрах. «Витебск горит, как факел,— сказал Виктор Антонович Гарнык.— Твой «хвост» тоже попал под обстрел. Поезжай туда. Паровозы лежат на откосе». Я знал, что Гарнык человек флегматичный и не трус. Значит, положение создалось отчаянное. Приезжаю: рельсы взорваны, разбиты и состав с ранеными, и эшелон с маршевыми ротами. Дал распоряжение столкнуть паровозы дальше под откос, чтобы могли подцепиться другие, а рельсы мы снимали со станции и укладывали впереди — лишь бы вывезти людей! Не успел их отправить, срочно вызывают в Смоленск:, под Невелем артиллерийские склады, к утру их надо вывезти. Что ж, товарняк мы вывели, когда немецкие танки прошли уже переезд, но последним эшелоном надо было прорваться самим. Отправляю вперед дрезину с пулеметом и пятью стрелками. Говорю: «Узнайте, где наш состав и прошли ли уже немцы?» Дрезина эта, кстати, так и не вернулась; напоролась на немцев, ее обстреляли. А время не ждет. Смотрю в бинокль, вижу, что по улицам Невеля идут два танка. А последний вагон все никак не загрузят! Да тут еще начальник станции на платформу со снарядами впихивает свое пианино. Вокруг все рушится, а ему, видите ли, музыка нужна!.. Уйти-то мы ушли, но досыта накланялись в пути немецким самолетам... А Вязьму пришлось эвакуировать дважды: люди все не верили, что неприятель рядом, и самовольно возвращались в город. Рано утром, после очередной бомбежки, двинулся наконец сплошной поток по обоим путям в одну сто- 359 рону, на восток. Под Ярцевым видим, что немцы выбрасывают десант; небо бело от парашютов. Что делать? Был еще путь на Рославль. Может быть, думаем, туда можно протащить составы? Гарнык велел послать группу разведки. Я назначил старшим Майорова, начальника Оршанского отделения дороги. Они было двинулись, но не прошли. Поехал сам посмотреть, что же стряслось под Дорогобужем? Страшное зрелище! Переправа из костей и машин! Взяли мы стороной, на Борок. Здесь пока было тихо, никого нет. С трудом разыскали: при-таившуюся в лесу воинскую часть. Они говорят, что едва стукнешь топором, уже летит фашистская авиация. Мы бросили машины и пошли пешком. Лес был расположен подковкой. Совсем уже добрались до него, как вдруг сбоку мотоциклисты открыли огонь. Однако, за пеньки, за осинки и почти было ушли, да Заслонов, который был с нами, вдруг оборачивается, выпрямляется и грозит кулаком: что, мол, не идете за нами? Боитесь русского леса, фрицы?! А тут на голос и ударь с другого боку пулемет. Брызнула наша группа в разные стороны. Собралось потом всего девять человек. Отдышались и сосчитали, что сухарей у нас на всех... восемь. Ну, надо ему было кричать?! Очень уж Константин Заслонов был человек горячий, бедовый. Конечно, обидно так вот, на своей-то земле впригибку ходить. А может, и к лучшему, что закричал. Могли мы на этот же пулемет, не зная, напороться и все бы тогда полегли. А тут уцелели. Покружили по деревням,^вышли к станции. Говорю За-слонову: «Бери.паровозик и езжай в сторону Смоленска. Что там? Но ни в какие драки не ввязываться». Уже темнело, когда тихо, без огней, паровоз подходит. Оказывается, они спрятались в кустах и дождались прохожего из Смоленска. Вот какая была тогда информация! В общем добрались мы до Гжатска. Оттуда успели вывезти все: от снарядов до печенья! Был по пути еще такой случай. Стали у меня в Гжатске требовать выплаты жалованья: война не война, а зарплату выдай. Я бы выдал, да откуда взять деньги? Уже ни банка, ни сберкасс нет. И вдруг сообразил — а станционные ларьки! Это ведь мое хозяйство, и едва ли они всю выручку сдали. Моментально образовал комиссию, принял деньги по акту, пересчитал и раздал. Из Гжатска к Москве мы двигались по старому Екатерининскому тракту. Он был заполнен до отказа, не пробиться: пароконные повозки с орудиями, колонны пехотинцев, вереницы машин. Пошли мы ночью напрямик по мерзлому полю. Потеряли было ориентир, ни зги не видать, да вдруг вдали засветился семафор. Подбежали и видим свой собственный состав, который отправили из Гжатска. Уже вопреки всем правилам отправляли составы друг за другом, впритык, без интервалов, лишь бы выпихнуть. А этот стоит неподвижно. Влезли к машинисту, оказывается, он спит. Чуть я его не застрелил тогда! «Чего стоишь?!»^—«Семафор закрыт».— «Давно открыт, тетеря! » . Этот последний перегон от Вязьмы я ехал уже в звании начальника участка движения Западного фронта. Когда добрался до Москвы, шинель обгорела, ватник в глине, сапоги стоптаны... Поставили нас с Гарныком на Савеловскую дорогу, и взорвали мы тогда двадцать восемь мостов на подступах к столице. Бывало, выскочим на своем бронепоезде, расстреляем весь боевой запас по немцам и обратно... Когда наметилось наступление на Витебск в начале сорок второго года, мы хотели тоже туда поближе двинуть, и к утру в нашем поезде набралось полно народу: и партработники, и редакция фронтовая, и даже писатели Танк и Бровка. Добрались до штаба Четвертой ударной армии на станции Кувшино-во, но нам велели отойти во второй эшелон. Еще не тогда было суждено вернуться в Витебск. В феврале того же года я получил приказ: формировать паровозную колонну особого резерва. Это была ди- 361 визия на колесах. Обслуживали колонну две бригады паровозников по тринадцать человек: одна смена работает, другая спит. Возили на передовую людей и вооружение. В августе Гарнык, который стал уже заместителем наркома путей сообщения, взял меня в Астрахань. Добирались и дрезинами, и автомашиной, изучали путь. Всю Сталинградскую эпопею я со своей колонной работал здесь, держал связь. Могу вам сказать: железная дорога это ноги Красной Армии! Да-а, и горюшка там нахлебались и товарищей потеряли. Но зато дождались, что и пленных эсэсовцев вывозили. А остальных просто пешком отправляли, колоннами по сто человек. Выберешь, бывало, наугад старшего, нацарапаешь на клочке бумажки ближайшие деревни — и ступайте, голубчики. Некогда с вами хороводиться. Ведь мы уже к Курску спешили. Вот где было страшно! Двадцать дней, как в аду, работали. Выехал тоже последним паровозом, да еще в котле заклинилась самолетная бомба. Так до Москвы ее и довез, отцепил паровоз только на окружной дороге.. По пути выручил еще одного своего машиниста. Ему лицо паром обварило, разорвало паровоз. А я знал, что Щигры, где мы его оставили, бомбят. Послал двоих. «Украдите,— говорю,— его из госпиталя». Так всего забинтованного довезли до Москвы. В сентябре сорок третьего отзывают меня из колонны. Она была вся из витеблян, жаль стало расставаться’ Но, оказывается, уже был приказ формировать Витебское отделение дороги. Значит, дело к освобождению движется! Дали мне комнату в московской гостинице. Я раскрыл свой планшет и стал искать прежние кадры. К вечеру передо мною сидели уже начальник станции Рудня Махов и старший диспетчер из Витебска Алексеев. «Ну, ребята, шлите телеграммы всем своим. Пора.,.» А утром, радио сообщает: освободили Рудню.., 362 •—• Слава богу! — вскричала вдруг я, прерывая его рассказ.— Наконец-то дождались! Мы оба прослезились от радости, словно время повернуло вспять, и мы оказались не в этом дне, а тридцать лет назад. Тревоги, надежды, горечь потерь —■ все ожило снова. Несколько минут в комнате было очень тихо. Мы с трудом перебарывали волненье. — Ну, вот,— продолжал Николай Акимович, прокашлявшись.— Так оно и пошло с тех пор! Через несколько дней я въехал на паровозе в Рудню, Пути взорваны, все разбито. Махов и Алексеев ждут меня на пустой площадке, где была когда-то станция. Побрели к единственному уцелевшему дому, а там в три этажа полати: старики, дети. Сбежались со всех окрестностей, из лесов вернулись. Но все рады, прямо счастливы. На огромной сковородке нажарили нам. из тертой картошки белорусских драников, а запивали кипятком из глиняного гляка с юмористической надписью «Привет ярым самогонщикам». Так уж случается: все пропадает, а пустяковина уцелеет... Началась наша работа. Ночами по железной дороге к фронту безостановочно шли орудия, снаряды, замаскированные ветвями (это была операция «Багратион), а днем все небо гудело от немецких самолетов. Так привыкли, что, когда однажды услышали перерыв в зенитном огне, удивились: в чем дело? А это, оказывается, стволы у зениток раскалились... И все-таки день за днем мы приближались к Витебску,— голос снова изменил Макарову. Мы помолчали, моргая мокрыми ресницами.— Я родился в нем, вырос и вдруг заблудился на Канатной, где был театр Тихантовского. Там рожь да бурьян растут. К вокзалу вышел — ничего, ни одного здания. В Полоцком парке даже пути сняты и земля раскатана под аэродром. Тот город и не тот: Созвал своих помощников: «Вот вам приказ: Идите пешком по линии, вывешивайте объявления, чтоб всем железнодорожникам вернуться к исполнению 363 л -утяшапгатав* своих обязанностей. Пусть хоть один придет, но сразу начинайте рубить лес, строить станцию, ставить стрелки». И что ж вы думаете? Пошли мои посланцы, и ожил путь! Откуда-то притащили весь припрятанный инвентарь — рожки, гайки, костыли,—семафоры поставили. А ночевали в классных вагонах. Даже им завидовали вокруг: жилья-то нет... Да,.. Спрашиваете, как Золотую звездочку получил? Это еще в. сентябре сорок третьего прибегают ко мне рано утром с регулировочного пункта (а у них у первых свежие газеты) и говорят: «Николай Акимович, вам Героя присвоили!»— «Не дурите головы»,— отвечаю. Но все-таки одеваюсь, иду к ним. Читаю газету: начальнику третьей колонны... Вроде, я. А все думаю: может, ошибка? Может, однофамилец? Утром попозже получил поздравительную телеграмму. Пришлось поверить... На Звезде моей номер 110. Столько тогда было Героев Социалистического Труда на весь Советский Союз..., И тут меня осенило. Вот кого должен вылепить железнодорожный скульптор! Макарова и его товарищей, ветеранов грозовых лет. Чтоб и мы и после нас, проходя по аллее где-нибудь в саду, люди приостанавливались и на секунду встречались с твердыми взглядами своих сограждан, овеянных еще при жизни благодарной легендой. # # ^ решила устроить себе праздник: поехала на ковровый комбинат. Еще занимаясь материалами к главе «Красные были», я постоянно сталкивалась с льнопрядильной фабрикой «Двина», ровесницей века. Там возникали и первые стачки (паковщики отказались работать, требуя 364 увеличения поденной платы уже в первый месяц открытия фабрики), и разгневанные работницы вывозили за ворота мастеров-«гоняйлов» на тачке, и дружно голосовали в городскую думу за большевистский список в самый разгар корниловского мятежа. В труднейшем 1918 году льнопрядильщики вместо зарплаты получали фунт соли, но не допустили, чтобы разруха погубила производство. Тогда же на «Двине» возникла первая в Белоруссии комсомольская производственная ячейка. Ее секретарем стал Семен Ивановский. А старейшая работница фабрики, впоследствии член ЦИК СССР, Фекла Цыганкова стояла в почетном карауле у гроба Ленина. В 1925 году при фабрике открылась школа ФЗУ; еще недавно неграмотные ткачихи знакомились теперь за партой с технологией. Так год за годом пустырь на бывшей земле помещицы Карташовой, в версте за городской чертой — Маркова слобода — становился самым боевым пролетарским районом Витебска. Мне показалась очень уютной маленькая четырехугольная площадь перед входом в комбинат, который уже тридцать лет, как изменил производственный профиль: теперь это центр белорусского ковроткачества. Случилось так не столько по доброй воле, сколько из-за того, что после освобождения в едва поднятые цеха привезли трофейные станки именно такого уклона. Тогда же молодой Петр Климков, инвалид Отечественной войны, едва оправившийся после госпиталя, тяжело опираясь на палку, подошел к жалкому автобусику, скорее похожему на наспех переоборудованный грузовик, и спросил, как ему добраться до Марков-щины? Никто не думал тогда, что старательный чернорабочий, которого, снисходя к его ранам, послали на трехмесячные курсы помощников мастеров, станет со временем почетным гражданином города и Героем труда. Слава его занималась исподволь. То, что бригада, или «комплект», как здесь называют, работает хорошо, без простоев, еще не привлекало особенного внимания. Многие работали не хуже; и Звание бригады коммунистического труда присвоили первым не им, а комплекту Шалаева. Петр Дмитриевич человек не только скромный, но и справедливый, отзывчивый. Когда ткачихи на соседних станках просили его помочь в наладке, ругательски ругая собственного бригадира, который только для вида покопается, а починить не починит, он охотно откликался на просьбы. Он-то знал, что будь у ткачихи даже не золотые, а прямо-таки бриллиантовые руки, как она ни старайся экономить пряжу, как ни борись за высокую сортность, все равно споткнется о плохо налаженный станок. Следовательно, производительность начинается от наладчика. Почин Валентины Гагановой был уже известен На комбинате, но охотников следовать вышневолоцкой прядильщице пока не находилось. Петр Дмитриевич Клим-ков первым пренебрег и неизбежным ущемлением в заработке (что совсем не пустяк для семейного человека), и тем, что занятое работой и вечерней учебой время уплотнится теперь до максимума. Он перешел в отстающий комплект. Мне он сказал, что кроме всего прочего его тогда разбирало рабочее любопытство: почему хорошие машины не работают? В чем загвоздка? Он долго с ними возился, разбирал, отлаживал, пока дела не пошли нормально, то есть очень хорошо. Но на этот результат уходили не„ только рабочие часы Климкова, даже ночь приходилось прихватывать. В пустом цеху, который без обычного шума и мелькания нитей становился неузнаваемым, один Петр Дмитриевич нарушал тишину сосредоточенным постукиванием да позвякиванием слесарных инструмен- тов. Подобно врачу, он ощупывал каждую гайку, смазывал и лечил винтик за винтиком... Ковровщицы платили своему бригадиру почти родственной привязанностью и огромным уважением. Куда девались их постоянные слезы, нервные выкрики! Теперь ритм работы не нарушался, и комплект вышел в передовые; ему присвоили почетное звание коммунистического. А Климков уже тайно советуется с женой, просит ее отнестись к очередному снижению домашнего бюджета с пониманием: он опять задумал поменять комплект передовой на менее благополучный. Но теперь ему хочется научить семерых ткачих не только отлично работать на станке, но и изучить его устройство, чтобы самим устранять мелкие неполадки, не теряя драгоценных минут в ожидании бригадира (на профессиональном языке это называется налаживать левую кромку, заменять рапиру, регулировать .электроблокировку обрыва нити верхнего челнока и утка). Когда женщины научились со всем этим справляться самостоятельно, и результат не замедлил сказаться: в каждый час их ковровая лента удлинялась на двадцать сантиметров. А Климков по-прежнему не оставлял бригаду в покое: ему хотелось довести уровень технических знаний ткачих до квалификации поммастера. Он-то знал, что путь к совершенству бесконечен; каждая свежая газета может принести весть о полезных новшествах. Например, совет открыть лицевой счет в честь 50-летия Советской власти... И вот уже : прошло десять лет с тех пор, как Петр Дмитриевич избирался депутатом в Верховный Совет СССР, и пять, как ему присвоено звание Героя Социалистического Труда... Когда в горкоме партии зашел разговор о наиболее достойных, заслуженных людях Витебска, первым назвали его. У него еще свежее моложавое лицо, волосы едва присолены сединой, синие невыцветшие глаза ярко блестят, а уже его имя стало 267 '«а^ыаюшмшвм «ьгг. клоним I \ жхаягкю ивянся I» ж-»г^ад и-й| ^— чу. частью истории. Удивительная судьба человека, едва достигшего пятидесяти лет! О трудах и днях комбината выпущены две брошюры — в 1963 ив 1969 годах. Ни в одной из них не упомянута Раиса Хирувимова, а, между тем, она сейчас наиболее популярна на комбинате. Труд ткача — тяжелый труд. И для Раисы ее успехи оборачиваются не праздничной стороной, а дополнительной ответственностью.. О себе она говорит чрезвычайно скупо; о других чуть охотнее — Раиса вообще не из говорливых! Хотя о ней отзываются как об активной общественнице, думаю, что эта активность тоже деловая и молчаливая, больше рук, чем языка. Ее собственную сноровку можно приравнять к ювелирной. Только, если ювелир имеет дело с долями карата (карат весит две десятых грамма — такова мера веса -драгоценных камней,— и этот-то крошечный камушек покрывают еще множеством граней!), то у Раисы натренированные пальцы шлифуют как бы само время. Ее счет экономии операций идет на секунды: смену челнока она производит не за двадцать пять, а за двадцать три секунды; на ликвидации обрыва коренной нити выигрывает три секунды против нормы, ворсовой нити—• две, настилочной — пять секунд. Секунды прямо-таки волшебным образом сбегаются в месяцы и даже годы: так в середине 1973 года Раиса работала уже в счет октября семьдесят пятого! Очень емко и просто она высказалась о соревновании, что оно «придает задор труду». Хирувимова осанистая черноволосая молодая женщина с крупным волевым ртом и светлыми глазами переливчатого цвета. Чаще всего они скрыты под опущенными веками, но, когда она их поднимает, видно, что взгляд у нее прям и безбоязнен. Мне очень хочется надеяться, что дальнейший жизненный путь Раисы будет удачлив во всем. Она этого заслуживает. Ковры... ковры... Не знаю, как кого, а меня букваль- 368 но завораживает; переплетение цветных завитушек и ажурная вязь орнаментов. Голубые ковры похожи на болотные травы, желто-охряные на ржаное поле, тем-но-красные, «печеночные», напоминают о беспощадном солнце туркменских пустынь. Ковер на стене или на полу :— непроходящйй праздник в вашем доме! Ковроткачество одно из древнейших восточных ремесел,,и вот теперь оно стало также белорусским. Понадобилось порядочно времени, чтобы пересмотреть альбомы и эскизы в художественной мастерской комбината. Бесконечные наброски деталей на прозрачной бумаге, фрагменты вышивок, узоров, резьбы — элементы будущего орнамента,— и огромные листы ватмана, расстеленные на полу, где все собрано воедино и прорисовано уже в цвете, К некоторым эскизам глаз возвращался почти бессознательно, будто притянутый магнитом. Мастерскую можно было сравнить с колыбелью новорожденных ковров. Но для некоторых колыбель становилась чем-то вроде довременных гробиков; ведь они остались лишь на бумаге. Разумеется, не всякую фантазию возможно воплотить в шерстяных нитях, как не все архитектурные проекты становятся зданиями. У предприятия вырабатывается свой стиль; и к определенным творческим задачам стремятся уже вполне сознательно. Так витебские художники каждый год разъезжаются в командировки по стране. Они изучают классические орнаменты мастеров Армении, Дагестана, Грузии, Туркмении, там, где каноны ковроткаческого искусства складывались веками и тысячелетиями. Право, витебляне не зря получают похвалы и завоевывают почетные дипломы на всесоюзных и международных выставках! Они прекрасно копируют. Накладывая эскизы, лист на лист, заведующий мастерской Николай Петрович Демин так и аттестует;, это армянский орнамент, это типичный молдавский ковер, 13 Зак. 708 369 это классический туркменский. Иногда он добавляет, правда, что в ковре применен белорусский народный орнамент. И если вглядеться, то, в. самом деле, начинаешь различать, что восточная спираль составлена из верени-’ цы.беличьих силуэтов. Кропотливый труд, но в чем-то внутренне -уступчивый, словно белорусские и русские мотивы могут проникнуть- в рисунок ковра лишь, вот таким, обходным путем. . Художникам комбината нельзя отказать в смелости исканий. Колорист Евгения Нестеркова пытается разрабатывать новую гамму, хотя часто наталкивается на традиционность вкуса и непонимание; Кое-что зависит и от окраски пряжи: . шерстяные нити окрашивает сам комбинат, но штапельную пряжу присылают готовой, и, как правило, грубых аляповатых оттенков.- Художники же знают, что изменение колорита дает ковру как бы волшебное обновление. И все-таки необычную гамму —' желтую, — голубую, лиловую— часто меняют уже в ковре, на Традиционно-красную, отчего изделие приобретает безликость. — Почему так происходит? —спросила я у главного инженера. ' . Тот пожал плечами. • — Этого хочет- покупатель. — Какой? Я тоже покупатель, и я не-хочу. Он сослался на торговые базы. Молдавия однажды вернула «Дождичек»—ковер в серебристой гамме, где на гладком фоне прорисованы цветные струи. Случайный вкус, возможно, одного лишь человека наложил вето на целое направление. .Справедливо ли?. И разве надо идти на поводу устарелого вкуса, а .не воспитывать его? . . Я видела эскизы совершенно, обворожительные: зеленый «Малахит» Соленниковой; спокойно-квадратный в. желто-горчичной-гамме под номером 65-7 ковер; Гусевой; «Латышский» с лиловыми вкраплениями Зои Лу-дане • (кстати, получивщий наивысшую оценку), • под но- 3.70; мером 1001-—серо-палевая вязь на темном фоне Нестер-ковой; «Ромашки» Ивана Шурупов а. Особенно ^ привлекают внимание работы молодого художника, родом из Слуцка, Владимира Федоровича. Это он смело вводит в орнамент «звериные» темы, он автор злополучного «Дождичка», который вполне отвечает современным линиям. По сравнению со странами древнего ковроткачества витебский комбинат еще очень молод. Однако наше время— время убыстренных темпов! Качество витебских ковров прекрасно, люди комбината полны энтузиазма и трудолюбия, но как бы мне хотелось поскорее дождаться рождения ковра, полностью оригинального по рисунку и колориту! Чтобы где-нибудь, за тридевять земель, продавец сказал как о чем-то само собою разумеющемся: — Могу предложить классический белорусский ковер работы знаменитых витебских мастеров. Купите, не пожалеете! * * % Витебск уже снискал однажды всемирное признание. Принесли его городу две упорные голенастые девочки, Лариса и Тамара. Школьницы Петрик и Лазакович. Ах, сколько Ларочек и Томочек с льняными волосами и сегодня спешат по витебским тротуарам, бегло любуясь собственным отражением в витринном стекле, или рассеянно листают страницы учебников под старой яблоней в бабушкином саду, где их ничуть не отвлекает звук падунцев, привычный, будто тиканье ходиков на' бревенчатой стене, потому что Витебск до сих пор город наполовину деревянный, и девочки дышат чаще не выхлопными газами центральной магистрали, а здоровым полудеревенским воздухом Песковатика и Елаги. Увлечение художественной гимнастикой, как и фи- 13* 371' гурным катаньем, носится по миру неким поветрием, по крайней мере уже последние десять лет. Но задумываемся ли мы, что должно испытывать пятнадцатилетнее существо, увидев на экране телевизора сверстницу, которой рукоплещут тысячные толпы? Какие противоречивые эмоции терзают взбаломученное, не закаленное еще жизнью сердце? Восторг? Мечта о соперничестве? Скрытая ‘досада? Зависть? А о чем думают сами чемпионки, вознесенные на пьедесталы олимпиад и мировых первенств, когда покорно обращают к объективам потное счастливое лицо?.. Сознаюсь, это занимает меня подчас больше, чем само зрелище. Ходячие слова, что в спорте путь к победе долог и труден, остаются где-то «за кадром». Мы ведь видим только результат, только славу, видим победительниц, а не тружениц... В Витебске три детских спортивных школы. Естественно, захотелось побывать именно в той, откуда вышли в разное время обе чемпионки, познакомиться с их тренером Веньямином Дмитриевым. Плоское кирпичное здание на одной из боковых улиц, сбегающих к Двине. Большой зал, двухсветный, с двенадцатью верхними окнами, с зеркальной стеной, зеленым ковром во всю ширь пола и зелеными же квадратиками потолка. Мне повезло: сегодня здесь соревнования. Пусть не громкие, всего лишь местного масштаба, да и посторонних зрителей, кроме нас с Михаилом Степановичем Рыбкиным (который болеет не столько за спорт, сколько за весь Витебск в целом!), не видать, но ритуал соблюдается полностью. Звучит гимн. Нина Зеленкова, девятиклассница, мастер спорта, витебская восходящая звездочка, медленно поднимает динамовский флаг; с голубой окантовкой. Мы мгновенно переносимся в особый мир! Попадаем в атмосферу не столько азарта, сколько предельной собранности. Когда мимо нас бежит девочка, чтобы выполнить опорный прыжок, видно, как сжимаются ее гу- 372 бы — упрямство, самоотданность, какой-то внезапный мощный всплеск воли! Такие же лица, полные сосредоточенности, и у тех крошечных гимнасток, которые под слабый звук пианино выбрасывают вперед тонкие загорелые ножки, грациозно и отработанно округляют руки. Роль греческого хора, комментатора событий, выполняют малыши в разноцветных трусиках. Они подпрыгивают . на батуте, изнемогая от избытка энергии (скамеек для зрителей здесь нет), визжат при удачном выполнении и рукоплещут вовсю. Гонг. Гонг. Топанье ног. Перемена снарядов, разминка. Лица горят возбуждением; глаза, не видя ничего во-круг, устремлены лишь к тому снаряду, на котором предстоит выступить. Матерчатые тапочки утопают в зеленом ковре. Мы не сразу замечаем Тамару Лазакович. В. красных шерстяных носках, в небрежно сидящем тренировочном костюме, она как-то даже тяжеловесно, вразвалочку шлепает по деревянному настилу, неся в руках список. Во время прошлогодней поездки по Америке, когда советских гимнасток принял президент Соединенных Штатов, а каждое их выступление проходило с не меньшим триумфом, чем гастроли балета Большого театра, она неудачно прыгнула, повредила колено, и нынешний год из тренировок у нее выпал. Сейчас Тамара несет обязанности ассистента. Она присаживается за пустой судейский столик и, по-ученически грызя мизинец, проставляет баллы. Ей девятнадцать лет, она студентка физкультурного техникума. Выпадает несколько минут и для разговора с Венья-мином Дмитриевым.. С любопытством исподтишка разглядываю его. Это плотный коренастый блондин, который донашивает синюю олимпийскую форму с золотыми пуговицами, отчего и показался мне час назад, в своем кабинете, похожим на морского капитана. 373 Он и в самом деле когда-то служил на флоте. А рос в Ленинграде, возле Витебского вокзала,— название этого города у него на слуху с детства! Как почти у всех тренеров, за спиной Дмитриева довольно значительные собственные спортивные достижения: в свое время он был чемпионом Ленинграда среди юношей по гимнастике. На вопрос, как влияет акселерация — фактор новый для спорта,— Дмитриев ответил, что по его наблюдениям ничего из ряда вон выходящего пока не происходит: — Процесс этот, видимо, не бурный, и мы не спешим менять методику. Если где-то начинает греметь двенадцатилетний вундеркинд, наша школа еще думает, следовать ли этому примеру? Вот женская гимнастика, действительно, быстро помолодела! Взять хотя'бы Ларису Петрик: в 1965 году она выиграла первенство Союза, а спустя три года стала чемпионкой в вольных упражнениях на мексиканской олимпиаде, и все это не достигнув двадцати лет! Чем объясняются наши успехи? Какова система? Нет, не только тщательные тренировки. Подготовка гимнаста зависит и от разнообразия элементов, которыми он овладеет. Мы даем девочкам как можно больше нагрузок, не требующих силы: например, прыжки на батуте. Они привыкают ощущать послушность тела, его легкость, отвыкают от боязни падения и высоты. Вообще в девочках есть что-то от мгновенной вспышки! Они легче усваивают элементы, но быстрее покидают спорт. Мальчики же набирают мастерство постепенно, но и отдача у них долговременна. Очень важно, по мнению Дмитриева, отношение, родителей к спортивным тренировкам. Для Петрик были созданы дома самые благоприятные условия. — А вот нашу надежду, Игоря Б., мать увезла на все лето, и он будет лишен тренировок в специальном лагере.— Дмитриев вдруг усмехается,— Да что толко- 374 «и- вать. Мои собственные' родители лишь недавно примирились с моей профессией. Мне интересно узнать, можно ли говорить об особом спортивном таланте, с которым человек будто бы рождается, как со способностями к живописи или музыке? Да, Веньямин Дмитриев убежден, что талантливость существует и не так уж часто встречается. К ним в школу приводят своих лучших учеников преподаватели физкультуры, и от них очень многое зависит: разглядят вовремя одаренность ребенка или нет? Ларису Петрик -привел физрук 9-й школы Олег Войцешко; у него гимнастика была поставлена отлично, и это сыграло определенную роль. А из учеников 31-й школы создалась даже целая группа мальчиков, воспитанников Валентины Федоровны Лаврененковой... Но, правда, отсев тоже большой. Три года назад Николай Ильич Бабкин, заведующий спортшколой, выступил по городскому телевидению,— пришло около тысячи ребят! И что же? Через год из них осталось двести шестьдесят, еще через год — всего семьдесят. Не у каждого хватает упорства, способностей или даже простой дисциплинированности. Так мы незаметно подошли к вопросу, который меня больше всего занимал: какова взаимосвязь между занятиями спортом и нравственным воспитанием подростка? Какие черты характера пробуждает и углубляет спорт? —- В вашей работе существует, как мне кажется, противоречие! С одной стороны, вам необходимо прививать своим воспитанникам напористость, злость, стремление к первенству во что бы то ни стало. А в то же время — зачем нам, советскому обществу, чрезмерные честолюбцы и эгоисты? Дмитриев задумывается. У него нет готовых формулировок. • — По моему мнению, и плохие и хорошие -черты 375 характера зависят от самого человека, а не от того, чем он увлекается. Есть у меня одна девочка, которая болезненно самолюбива: если что-то не ладится и она не идет впереди всех, то готова скорее совсем отказаться от борьбы, отойти в сторону... Нас прерывает Михаил Степанович Рыбкин. Как он ни старался держаться в тени, чтоб «не мешать работе», но коль скоро речь зашла о человеческой психологии — а это как раз смежный предмет тому, который он ведет в Витебском педагогическом институте и по которому защитил кандидатскую диссертацию,— ретивое не выдерживает. — Вы неправильно ставите вопрос,— произносит он со всею деликатностью, близко заглядывая нам в лица сильно увеличенными в толстых окулярах синими зрачками.— Вопрос лишь в том, где теряется грань здорового соперничества, присущего людям в любой сфере и более явного в спорте? Только там, где первенства достигают не собственными возможностями, а чем-то другим. Нет, спорт нравственен! Он воспитывает трезвое понимание того, что не все, чего ты хочешь, достижимо. Но зато уж то, чего добился, заработано честным трудом и честной борьбой. В этот момент на зеленый ковер вышли воспитанницы Дмитриева, и он целиком ушел во внимание. Разговор прекратился сам собою. Одна из девочек — черненькая — делала упражнения с милой угловатостью полуребенка. Другая — высокая, с кокетливыми завитками на висках — готовилась вступить на порот девичества; ее движения отличались уже некоторой женственностью, плавностью. У третьей откровенную некрасивость переходного возраста сполна искупал заключенный во всем ее существе искрометный задор: она казалась смелее и напористее подруг. Именно ей готовы были мы невольно отдать свое зрительское предпочтение... 376 * * ** ...И вот на этом рассказе о трех юных витебских грациях мы и закончим, пожалуй, наше повествование. По восходящим ступеням тысячелетия, рука об руку, мы прошли с вами, терпеливые читатели, долгий путь, начиная от тех, еще повитых предрассветным туманом, времен, когда только-только возникало национальное самосознание и — неотделимое от него — содружество всех племен Белой, Малой, Великой, Черной и Червонной Руси! Трудный путь в бранном звоне битв и под вспышками навальниц, Через все ухабы витебской истории, которая привела наконец в сегодняшний советский день. Остановимся и переведем дух. Благодарю всех. Спасибо городу, который позволил быть его летописцем, Спасибо Витебску, ставшему родиной моей души. Мир молод. Эстафета продолжается. Дай что такое, в сущности, тысяча лет?! Просто человеческая жизнь, повторенная двадцать раз... Август 1972 года — август 1978 год* Москва — Витебск — Летцы ышщтшШ КОММЕНТАРИИ * ДО ЛЕТОПИСИ Новелла посвящена эпизоду из жизни маленького укрепленного поселка на реке Витьбе- в IX в., когда славянское племя кривичей жило еще родо-племенным строем. Следы такого поселения найдены белорусским археологом А. Н. Левданским на витебской Замковой горе в 20-х годах нашего Столетия во дворе пединститута. Этот поселок на Витьбе и стал прародителем Витебска. Возник он в выгодно расположенном месте на скрещивании водного пути «из варяг в греки» с западнодвинским водным путем. Свое название город получил от р. Витьбы — Витбеск. Велес или Волос — бог скота в славянском языческом пантеоне, культ которого известен на Руси с X в. С в а р о г — бог неба и огня небесного, главный бог русско-славянской мифологии. Д и р г е м — арабская средневековая серебряная монета. Кривичи — крупнейшее восточнославянское племенное объединение (VI—IX вв.), населявшее, по летописи, верховье Волги, Двины и Днепра и доходившее до Пскова на западе и Ярославля на востоке. Варяжское море — Балтийское море. Елёктрон (электрон) — янтарь. Даждьбог — в славянской мифологии бог солнца, сын бога неба Сварога. Вора, ворь, вора — здесь огороженное или окопанное место. Расселение славян правильнее представлять себе не в виде «бродячей кочевой громады», а в виде постепенного из поколения в поколение переселения славянских племен на восток, * Комментарии к новеллам «До летописи», «Всеславлева ночь», «Набатное утро», «Две свадьбы», «Шаг к Ватерлоо», «Скучный год» составлены кандидатом исторических наук Л. В. Алексеевым, к новеллам «Красные были», «Выстрел в Кленнике», Ш мы и после нас...» — кандидатом исторических наук М. С, Рыбкиным, 378 осуществлявшегося медленным завоеванием лесных массивов Восточной Европы. «Кривичи»—происходит от слова «кровный», «кривичи» — «близкие по крови». Т о р о к — ремешок от седла. Хитон — вид древней одежды, типа длинной рубахи, перетянутой пояском. ВСЕСЛАВ ЛЕВА НОЧЬ Новелла посвящена князю Всеславу Брячиславичу Полоцкому (1044—1101) ~ одному из самых интересных и загадочных русских деятелей XI века, при котором Полоцкая земля достигла максимальной самостоятельности и расцвета, Тмутар.акань — древний русский город на Таманском полуострове. Глеб Всеславич (ок. 1070—13.1Х.1119) —• сын Всеслава Полоцкого, первый минский князь. Как и отец, боролся с киевскими князьями за независимость. Ярослав Владимирович Мудрый (978—1054) — великий князь киевский (1019—1054), сын Владимира Святославича. Брячислав Изяславич (1003—1044) — князь полоцкий, отец Всеслава Полоцкого, племянник Ярослава Мудрого. Путь «из варязей (варяг) в греки» — название водного торгового пути, связывавшего Северную Руоь с Южной, Прибалтику и Скандинавские страны с Византией. Проходил через Витебское княжество. Куны серебряные и малые веверицы: куна — денежная единица древней Руси. Происходит от общеславянского «куны» — деньги (первоначальное значение'— шкурка куницы), (веверице — шкурка белки) — самая мелкая, неделимая денежная единица древней Руси. В ы м о л — сады, пристани. «Брячиславов двор» — торговое подворье полоцких князей, отстроенное Врячиславом Изяславичем в Киеве, очевидно в 20—40-х гг. XI в. София Полотская — Софийский собор в Полоцке (1044—1066 гг.), третий крупнейший каменный собор на Руси (после Софии Киевской и Новгородской). Борис Всеславич — по-видимому, второй по старшинству сын Всеслава. Упомянут в летописи в 1120 г. как князь полоцкий. Его фамильным уделом был Друцк (современный Толо-чинский район Витебской области). 379 Алексий, император т— очевидно, имеется в виду византийский император Алексей I Комнин (1048—1118). Хам — вид полотна. От старорусского — хамовник — ткач,' полотнянщик, скатерник. Половцы и торки — тюркоязычные племена, кочевавшие в XI—XIII вв. в южнорусских степях. Язвлен о, язвено — кожа, но есть и другое толкование. По И. И. Срезневскому — пленка, кожица. Глаголица (наряду с кириллицей) — одна из двух древнейших славянских азбук. «Не крещеным именем, а по-старинному» — в Древней Руси в первые века после принятия христианства человеку давали два имени: одно — языческое, второе — христианское. «III естоднев» — популярные в византийской и славянской письменности произведения философско-богословного характера, объяснявшие мироздание с точки зрения христианского учения и состоящие обыкновенно из шести отдельных трактатов по числу шести дней творения. Давыд Всеславич — старший сын Всеслава, получивший после смерти отца Полоцкий удел. Свергнут полочанами в 1128 г. Святослав Игоревич (ум. в 872 или 873' г.) — великий князь киевский, прославившийся многочисленными и успешными походами, в том числе и в Болгарию. Давид — царь Израильско-иудейского государства (конец IX в.— ок. 950 гг. н. э.). Предеслава Святославовна — по-видимому, имеется в виду внучка Всеслава Полоцкого, знаменитая впоследствии просветительница Евфросиния Полоцкая (ум. в 1173 г.). Афанасий Александрийский (ок. 295—2.У.373)— церковный деятель, с 328 г. епископ Александрии. Георгий Амартол — византийский хронист IX в. Троянская война — война древних греков с Троей (древний город на северо-западе Малой Азии), по данным археологических раскопок, война с Троей происходила в конце 13-го или в начале 12-го веков до н. э. «Хождение грека Зосимы» — здесь имеется в виду Зосима — палестинский отшельник VI в, н. э. К ы й — один из трех легендарных племенных князей полян, основавших три поселения, впоследствии составивших г. Киев. Оскольд (Аскольд) и Д и р — полулегендарные киевские князья (2'Я половина 9 в.). Рюрик (ум. в 879 г.) — легендарный новгородский князь. 3&0 Рогволод — полоцкий князь второй половины X в., варяжского происхождения. Рогнеда (Рогнеда Рогволодовяа, ум. в 1000 г.) — дочь полоцкого князя Рогволода, взятая насильно в жены великим князем киевским Владимиром Святославичем (в конце 70-х гг. X в.) под именем Гориславы. М а л у ш а— ключница княгини Ольги, мать Владимира Святославича (X в.). Ярополк Святославич — старший сын Святослава Игоревича. Киевский князь после смерти отца. Убит Владимиром Святославичем в 980 г. Владимир Святославич (после крещения Василий, ум. в 1015 г.) — сын Святослава Игоревича и ключницы Малуши. Князь новгородский. Около 980 г., убив Ярополка Святославича, занял Киев и стал князем киевским. Ольга (ум. в 969 г.) — великая княгиня киевская, жена Игоря, мать Святослава Игоревича. Добрыня — воевода Владимира Святославича, брат его матери Малуши. Изяслав Владимирович (980—1101) — старший сын Владимира Святославича от Рогнеды. Изяславский, а потом полоцкий князь. Остромир — государственный деятель и полководец Древней Руси середины XI в., новгородский посадник. Изяслав Ярославич (1024—1078), старший сын Ярослава Мудрого, князь туровский, с 1054 г. великий князь киевский. В 1068 г., после грандиозного поражения в битве на р. Альте от половецких орд Шарукана, был свергнут восставшими киевлянами, требовавшими оружия для продолжения битвы. Сурожское море — Азовское море. Святое л а в Ярославич (1027—1076) — сын Ярослаг ва Мудрого, князь черниговский (1054—1073), великий князь киевский (1073—1076). Вскоре после битвы на р. Альте сумел со своей дружиной нанести поражение половцам у Сновека. В 1073 г. при поддержке Всеволода Ярославича отнял у Изяслава великокняжеский стол. Всеволод Ярославич (1030—1093) — четвертый сын Ярослава Мудрого, получивший после смерти отца Переяславль Южный, земли по Волге, Ростов, Суздаль и Белоозеро. С 1078 г.— великий князь киевский. Ростислав Владимирович (ум. в 1067 г,)— сын Владимира Ярославича. В 1064 г. стал князем тмутараканским, изгнав оттуда своего двоюродного брата Глеба Святославича. На борьбу с ним Ярославичи потратили более двух лет. Смерть Рос- 381 тислава от руки подосланного убийцы развязала им руки для борьбы с Всеславом Полоцким. Мстислав Изяславич (ум. в 1069 г.) — один из руководителей подавления Киевского восстания в 1069 г. В том же году принял участие в войне против полоцкого князя Всеслава. После победы был посажен отцом на княжеский стол в Полоцке, где вскоре умер. . Глеб Святославич — князь тмутараканский, позднее — новгородский. Владимир Мономах (1053—1125) — сын Всеволода Ярославича, великий князь киевский (1113—1125). Всеслав Полоцкий-^- умер 14 апреля 1101 г., по сведениям В. Н. Татищева, в Полоцке и, по-видимому, погребен в Бельчицком монастыре. НАБАТНОЕ. УТРО Новелла посвящена истории Витебска в трудную эпоху середины ХШ в., когда, по Руси прокатилась страшная волна татаро-монгольского нашествия, а воинственные отряды литовцев все глубже проникали на территорию Белоруссии. Одновременно началось энергичное движение германских сил в западные окраины русских земель. 5' апреля 1242 г. на льду Чудского озера немцы были разбиты и уже не' притязали на русские земли. Александр Невский был женат на дочери витебского князя Брячислава и посетил Витебск в 1238.г. • В XIII в. Полоцк, Витебск и Смоленск были тесно связаны торговлей с Ригой, о. Готландом и западноевропейскими землями. Сарацины — так в эпоху раннего средневековья именовали арабов. Духовский кругляк — деревянная наугольная башня Нижнего Замка в Витебске, рисунок которой дошел до нас. Была рублена в 8 стен и имела «трйпило брусяноё.для караулу». Ярослав Всеволодович (1191—1246) — князь Пе-реяславля-Залесского, отец Александра Невского. В 1243 г. получил от Батыя ярлык на — княжение во Владимире и в 'Киеве. В 1-246 г. был вызван в ханскую ставку и там отравлен. Врячислав — князь витебский. В 1239 г. выдал свою дочь за Александра Невского. Вило — доска, в которую били для созывания в церковь или ка трапезу.. Кощей —: отрок, 'мальчик. Е м ь, . с у м ь>—' финские -племена. ДВЕ СВАДЬБЫ Новелла посвящена переходу Витебска под власть Литвы, Во втором' десятилетии XIV в. почти все земли Белоруссии’ были освоены литовскими феодалами и лишь Витебское княжество, оставалось последним русским островком. В 1318 г. литовский князь Гедимин (ум. в 1341 г.) женил сына Ольгерда (1345—1377) на дочери Ярослава Васильевича Витебского; и так как он сыновей не имел, по его смерти (1320) в Витебске сел Ольгерд. Замковая гора в Витебске. Этим названием в Витебске в древности именовалось небольшое городище кривичей, расположенное на берегу -Витьбы. Однако здесь, видимо, автор имеет в виду т. н. Верхний и Нижний замки — позднейшие укреп-ления между 3. Двиной, рекой Витьбой и ручьем. Ярослав Васильевич (ум. в 1320 г.) — последний витебский князь. В 1318 г. выдал свою дочь Марию замуж за Ольгерда— сына великого князя Гедимина. После смерти Ярослава Витебское княжество перешло к Ольгерду, великому князю литовскому, было присоединено к Литве и отдано позже в удел Андрею, сыну Ольгерда от Марии. Поять жену — сосватать, жениться. Церковь архангела Михаила — располагалась, судя по «чертежу 1664 г,», на княжеском дворе, в районе современного пединститута. Я т в я г и — одно из литовских племен, жившее между средним течением рек Немана и Западного Буга. Л а л — драгоценный камень, рубин, яхонт. Е в к л а з — довольно редкий и ценный камень, похожий на аквамарин или берилл. П о л ь т — полтуши мяса, чаще свинины. Ногата — древняя монета. Ульяна Тверская (ум. в 1393 г.) — дочь тверского князя Александра Михайловича, вторая жена Ольгерда, была пожизненной владетельницей Витебского княжества. Андрей Ольгердович (1325—1399) — сын Ольгерда, князь полоцкий и псковский. Получил от отца Витебское княжество. Участвовал в борьбе с Ливонским орденом. В 1377 г. возглавляет борьбу местных феодалов против своего сводного брата великого князя литовского Ягайло. Потерпев поражение, бежит в Псков, потом в Москву. Участвует в 1380 г. в Куликовской битве, где командует правым крылом русских. В 1386 г. стал во главе белорусских князей против Кревской унии, объединившей Литву и Польшу под властью Ягайло, но потерпел поражение. Погиб в битве с татар!ами на р. Ворскле. Ядвига (1371—1399) — королева Польши с 1382 г., дочь 383 короля Венгрии и Польши Людовика Венгерского. По настоянию польских феодалов в 1386 г. вступила в брак с великим князем литовским Ягайло. : Яков, Ягайло (род. ок. 1348 — ум. в 1434 г.) — великий князь литовский с 1377 г. и польский король с 1386 г., сын Оль-герда и тверской княжны Ульяны. Женившись на польской королеве Ядвиге и приняв католичество, становится польским королем под именем Владислава II. Д л у г о ш, Ян (1415—19.У.1480) — польский историк и дипломат. К е р н у с — полулегендарный литовский князь XI в. М и н г а й.л о — по литовским преданиям: литовский вождь первой половины XIII в., основавший Литовское княжество с центром в Полоцке. Однако твердых оснований для подобного утверждения нет. С в я тослав-Юрий (Георгий) — один из сыновей Всеслава Полоцкого. По-видимому, отец Евфросинии Полоцкой. Дата его смерти, как и сообщение о его сыновьях, основаны на поздних источниках. Г и н в и л л — легендарный литовский князь, о котором сообщает Хроника Стрыйковского. Существование его маловероятно. Борис Гинвиллович — по М. Стрыйковскому, якобы полоцкий князь начала XXII в. В действительности историк-хронист его путает с Борисом Всеславичем, жившим на 100 лет ранее (ум. в 1128 г.). Василий Борисович — внук легендарного полоцкого князя Гинвилла. Вели Бориса Гинвилловича считать в действительности Борисом Всеславичем, то, возможно, это его сын Рогволод Борисович, христианское имя которого Василий. Всеволод — князь города Герцике (совр. Латвия). Уния — церковное объединение православных и католических церквей на условиях главенства римского лапы. Была принята в 1596 г. в Бресте и затем насильственно насаждалась на, территории Речи Посполитой. И о с 1а ф а т Кунцевич (1580—1623) — полоцкий .униатский архиепископ (с. 1618 г.). Силой насаждал унию. В 1623 г. возмущенные витебляне ворвались в архиерейский дом и убили Кунцевича, тело его сбросили в Западную Двину. За это убийство польское правительство приговорило к казни около ста человек, с ратуши и церквей сняло колокола и лишило город Магдебур-ского права. Храм Благовещения в Витебске — один из древнейших храмов в Белоруссии. Построен в нач. XII в. на берегу Западной Двины на территории Нижнего Замка. Руины его взяты на государственный учет. ШАГ К. ВАТЕРЛОО Новеяла посвящена истории Витебска во время Отечественной войны 1812 г; Перейдя Неман, 23 июня полумиллионная армия Наполеона ринулась в Белоруссию. В Витебск войска Наполеона вступили 16(28) июля. Французский император первоначально предполагал приостановить кампанию, после взятия Витебска сделать его столицей завоеванных земель и остаться там на зиму. Но потом изменил , свое решение. Пробыл Наполеон в Витебске 16 дней. Дом витебского генерал-губернатора — построен в конце XVIII в., сохранился и поныне. Расположен на т. н. Успенской горке, на берегу реки 3. Двины. Карл Клаузевиц (1780—1831) — известный немецкий историк и теоретик военного искусства, прусский генерал. С весны 1812 г.— на службе в русской армии, участвует в борьбе с ненавистным ему Наполеоном. Миссия министра полиции и члена Государственного Совета А. Д. Балашова (1770—1837), как известно, блестяще, хотя, может быть, и несколько тенденциозно, описана в «Войне и мире» Л. Н. Толстого. Вопреки утверждению автора новеллы, Балашов не приехал к Наполеону в Вильню, а был послан Александром из Вильни к Наполеону, как только стало известно о переходе французов через Неман. Балашов проследовал с армией неприятеля до взятия Вильни и только там был принят французским императором. Константин Павлович (1779—1831) — брат Александра I, отказавшийся после его смерти (1825) от престола, что послужило поводом к восстанию декабристов. В 1831 г. умер в Витебске. Смоленская ул.— ныне ул. Ленина. СКУЧНЫЙ год Новелла посвящена пребыванию в Витебске в качестве вице-губернатора (1853—1854) известного исторического романиста Ивана Ивановича Лажечникова. Кончина его жены (1852) и неприятности по службе были причиной тому, что он вынужден был оставить Тверь. Получил назначение на должность вице-губернатора в Витебск, куда и переехал в 1853 г. Обосновался в каменном доме на Соборной площади, напротив Николаевского собора (ныне площадь Свободы). Однако новая должность в новом для него городе не была писателю по душе. Чиновничий мир Витебска произвел на Лажечникова тяжелое впечатление. Судя по переписке его с известным археологом и собирателем древностей А. К. Жиз- 385 невским, лишь несколько человек из местного чиновничьего мира представляли для него личный интерес. Но1 ни этот узкий кружок интересных людей, ни близость с молодой и любимой женой, ни сравнительно высокое вознаграждение за службу не доставляли Ивану Ивановичу должного удовлетворения. Его крайне беспокоило состояние дел в канцелярии витебского губернатора, которые менялись с калейдоскопической быстротой. «Вообразите,— писал пришедший в ужас писатель,— в одном столе за 5 лет не заслушано бумаг 1570, а в другом — 1400 и т. д. По полтора года дают справки в гражданскую палату!» Всегда деятельный, искренний борец за правду и справедливость Лажечников с энтузиазмом принялся за работу. В первое время Ивана Ивановича поддерживали и воодушевляли воспоминания, связанные с его участием в Отечественной войне.. Однако страшная косность чиновничьей среды Витебска, полное нежелание пойти навстречу начинаниям нового вице-губернатора, наконец, интриги, все это привело к тому, что Лажечников подал в отставку и 9 июня 1854 г. переехал в Москву. Эпизод о несостоявшёйся дуэли с А. С. Пушки н ы м произошел зимой в 1819 г. и подробно с большой точностью и выразительностью описан Лажечниковым в очерке «Знакомство мое с Пушкиным». Речь идет о статьях Ф. Б. Булгарина (1789— 1859) в издаваемой им газете «Северная пчела» (1839, № 46—49), которые были посвящены роману И. И. Лажечникова «Басурман». «Сто дней» — имеется в виду возвращение Наполеона с о. Эльбы во Францию (1 марта 1815 г.) и его вторичное царствование в течение «Ста дней» (20 марта — 22 июля 1815 г.). Битва под Кульмом. 17—18 (29—30 авг.) в 1813 г. (Богемия) русская гвардия отбросила французские войска, пытавшиеся преследовать войска союзников. «Пандырные бояре» ;— служивые люди XVI—XVIII вв. в ряде воеводств Белоруссии, несшие военную службу на коне в тяжелом панцыре. В XVI в. представляли промежуточную ступень между тягловыми крестьянами й шляхтой, а в XVII—XVIII вв.— привилегированную группу крестьян-слуг. В конце XVIII в., после присоединения Белоруссии к России, по положению стали близки к русским однодворцам. О панцырных боярах Лажечниковым написано сочинение «Внучка панцырного боярина». Кони Федор Алексеевич (1809—1879) — известный в свое время литератор и водевилист, отец знаменитого адвоката А. Ф. Кони. Радищев Афанасий Александрович — сын позта-декабриста Александра Николаевича Радищева, служивший в Витебске в качестве гражданского губернатора в 1847—1848 гг. Без-Корнилович Михаил Осипович (1796— 1862) — старший; брат известного декабриста А, О, Корниловича, генерал-майор корпуса военных топографов. Книга его о Белоруссии была оценена критикой как первый сборник по истории Белоруссии с большим запасом фактов, «еще не подвергнутых критической оценке». Магницкий Михаил Леонтьевич (1778-1855)-крайне реакционный государственный деятель. КРАСНЫЕ БЫЛИ Сложное переплетение фактов и событий, которые мы наблюдаем в новелле, объективно отражают исторические условия, в которых проходила борьба за установление Советской власти в Витебске. С одной стороны, обострившаяся классовая борьба, стремление солдат к миру, движение за национальное освобождение способствовали росту революционной активности масс. С другой стороны, сравнительная распыленность рабочего класса, многочисленность офицеров и чиновников в гарнизоне, прочность позиций националистических организаций мешали развитию революции. Однако ничто уже не могло остановить революционного напора рабочих и солдат, руководимых большевиками. Улица Вокзальная — ныне улица Кирова, улица Канатная — сейчас улица Димитрова. «Витебский листок»-— ежедневная буржуазная газета, издававшаяся в Витебске с 1916 г. Гнило рыбов — казачий офицер, был в числе адъютантов по особым поручениям (ведал юридической частью) генерал-губернатора и начальника Двинского военного округа генерала Зуева. В марте 1917 г. стал комендантом Витебска. Один из организаторов контрреволюционных сил в городе. В дни разгрома корниловского мятежа был смещен с занимаемого поста. После установления Советской власти в Витебске бежал на Дон, но вскоре был арестован. . «Белые казармы» — ныне старый корпус станкостроительного завода имени С. М. Кирова. Латышский районный комитет РСДРП —■ был создан большевиками во время первой мировой войны среди беженцев из Прибалтики и солдат технических частей. Во главе его стоял большевик В. Я. Чунчин. Здание гарнизонной, гауптвахты сохранилось 387 и поныне. Сейчас в нем располагается Морской клуб (улица Средне-Набережная, 3). Комитет общественного спасения — создан 3 марта 1917 г. на квартире у есаула Гнилорыбова из числа городской верхушки. На этой сходке начальником Двинского военного округа был назначен генерал Баиов, губернским комиссаром Временного правительства — кадет Волкович, комендантом города — Гнилорыбов. Крылов С. Н.— родился в 1892 г, в городе Белом Смоленской губернии. Член КПСС с 1909 г. После Февральской революции 1917 г. С. Н, Крылов избирался председателем полкового, дивизионного комитетов, заместителем председателя корпусного комитета. За агитацию против Временного правительства и пропаганду большевизма в начале июня был арестован и заключен в Двинскую крепость. В дни корниловского мятежа перевезен в Витебск, на гарнизонную гауптвахту. 6 октября по требованию большевиков был освобожден. Оказавшись на свободе, С. Н. Крылов сразу же включился в партийную работу.. 27'октября созданный большевиками Военно-революционный комитет назначил его начальником гарнизона и комендантом города. Являлся членом городского и губернского Советов, губернским военным комиссаром, председателем губкома партии. Организовал разгром частей Довбор-Мусницкого на территории губернии, возглавил оборону города от кайзеровских войск. Избирался делегатом VIII съезда РКП(б). После гражданской войны С. Н. Крылов возвратился в Витебск. В 1921—1923 гг. работал заместителем председателя, а затем председателем губернского Совета. Позже находился на ответственной воспитательной, партийной и советской работе. Умер в 1938 г. Витебская организация РСДРП — после выхода из подполья объединяла большевиков, меньшевиков и бундовцев. Объединение носило формальный характер: большевики оставались на ленинских позициях и вели непримиримую борьбу с соглашателями. После выступления В. И. Ленина в апреле 1917 г. большевики Витебска взяли курс на выход из «объединенки» и создание самостоятельной организации, подчиненной ЦК РСДРП(б). Базой для ее образования послужил Латышский районный комитет РСДРП. 20 июня в помещении Латышского клуба состоялось первое организационное заседание. 2 июля общее собрание избрало партийный комитет. Вначале он именовался городским комитетом интернационалистов. В сентябре был переименован в городской комитет РСДРП(б), Берестень А. И.— родился в 1877 г. в м. Бешенковичи 588 Витебской губернии. Член КПСС с 189$ г. Вел революционную работу. в Брянске, Витебске, Харькове, Трижды подвергался арестам и тюремному заключению. Скрываясь от преследований царизма, в 1910—'1914 гг. жил за границей. По возвращении работал в Риге. Во время первой мировой войны был призван в армию. В апреле 1917 г. прибыл в Витебск. Принял активное участие в создании городской большевистской организации, стал членом ее комитета. Был делегатом VI съезда РСДРП(б). После Октябрьской революции некоторое время жил в Минске. В 1921 г. возвратился в Витебск, находился на партийной и административной работе. Ш и ф р е с А. Л.— родился в 1898 г. в Гродно. Член КПСС с 1917 г. В апреле 1917 г. приехал в Витебск, где стал одним из создателей большевистской организации. После Октябрьской революции заведовал партшколой и губотделом народного просвещения, являлся членом президиума губкома РКП(б). Весной 1919 г. ушел на фронт. После гражданской войны занимал видные военные посты. Умер в 1937 г. «Известия Витебского Совета» — ежедневная газета, издававшаяся в Витебске с 18 мая по 12 июля 1917 г. Шейдлин. а С. И.— родилась в 1898 г. Член КПСС с 1917 г. Осенью 1916 г, поступила на Высшие женские курсы Герье в Москве. С этого времени активно включилась в революционное движение. Весной 1917 г. переехала к родителям в Витебск. В составе инициативной группы вела активную работу по возрождению большевистской организации. Избиралась членом президиума и секретарем Военно-революционного комитета, установившего Советскую власть в Витебске. В июле 1919 г. ушла на фронт. В конце 1921 г. возвратилась в Витебск. Весной 1923 г. отозвана в Москву. В последующие годы находилась на журналистской работе. Льнопрядильная фабрика «Двина» — основа-на в 1900 г. Уже в первые годы становится одним из центров революционного движения в городе. Накануне Октябрьской революции на фабрике работало около 1400 человек. Федор Матушонок — прообразом его послужил Ки-риенок Ф. Н. (1881—1933 гг.) •— бывший председатель волостного ревкома Вышедской волости Город окского уезда Витебской ту-бернии. Витебский Совет солдатских и рабочих депутатов — образовался на основе слияния возникших в начале марта 1917 г. Совета рабочих депутатов и Совета солдат* ских депутатов. После перевыборов, происходивших в мае — июне 1917 г., при объединенном Совете была создана самостоЯ' тельная фракция большевиков. 389 11 октября 1917 г. контрреволюция организовала побег из тюрьмы уголовных преступников. Однако провокация не удалась: ни один политзаключенный не ушел с уголовниками, Находившиеся в тюрьме большевики были освобождены революционными солдатами и рабочими 27 октября 1917 г. Витебский чугунолитейно- машиностроительный завод — основан Гринбергом в 1877 г. Сейчас на месте этого предприятия вырос станкостроительный завод имени Коминтерна. Меницкий И. А.— родился в 1890 г, в деревне Казанов-ка Лепельского уезда Витебской губернии. Член КПСС с 1914 г. За революционную деятельность несколько раз подвергался аресту и тюремному заключению. Октябрьская революция застала А, И. Меницкого в Витебске. Избирался в состав Военно-революционного комитета и был его председателем. Являлся председателем губисполкома и членом губкома партии. Во время гражданской войны сражался на Южном фронте. В последующие годы находился на ответственной партий* ной и научной работе. Умер в 1947 г. В о е н н о — рев олюционный комитет — создан 27 октября 1917 г. на совместном заседании большевистского партийного комитета и представителей воинских частей и революционного пролетариата. Явился штабом борьбы за установление и укрепление Советской власти в Витебске. Г о б а Я»— участник революционных событий в Витебске, председатель Витебского Революционного Совета солдатских ж рабочих депутатов, участник губернского съезда Советов. О к к у па ция кайзеровскими войсками Витебской губернии. К началу марта 1918 г. была захвачена северо-западная часть губернии (в границах 1917 г.) — Двинский, Дрие-сенский, Полоцкий, Лепельский, Люцинский и Режицкий уезды. Фронт приблизился к Витебску на расстояние шестидесяти километров. «Известия Военно-революционного комитета города Витебска»-—ежедневная газета, выходившая с 30 октября по 13 ноября 1917 г. С 14 ноября стала органом вновь избранного Революционного Совета и начала издаваться под названием «Известия Витебского Революционного Совета солдатских и рабочих депутатов». Шагал М. 3.— родился в Витебске в 1887 г. Первоначальное художественное образование получил в мастерской Ю. М. Пэ-яа. После четырехлетнего пребывания в Париже в 1914 г, вернулся в Россию, В 1918-—1921 гг. жил в Витебске. Руководил художественной школой, выступал на выставках. С 1923 г. живет й 390 работает в Париже. В июне 1973 г. по приглашению Министерства культуры СССР гостил в Москве. Юдовин С. Б.— родился в м. Бешенковичи Витебской губернии. Первым его наставником был Ю. М. Пэн. Некоторое время учился в Петербургской рисовальной школе Общества поощрения художников. В 1919 г. возвратился в Витебск, где окончил Худо* Жественно'практическяй институт. С 1924 по 1954 год жил в Ленинграде. Работы художника неоднократно выставлялись в нашей стране и за рубежом. Т у ф р и н 3. С.— член согласительной комиссии, образованной 20 июня 1917 г. в связи с оформлением Витебской организации РСДРП, участник первой губернской конференции большевиков. После победы Октября работал в губисполкоме. Погиб на фронте в годы гражданской войны, Активный участник революционных событий в Витебске, делегат первой губернской конференции большевиков, один из руководителей профсоюза печатников. Бреслав Б. А.— родился в 1882 г. Семнадцатилетним юношей примкнул к революционному движению. ' В ноябре 1917 г. по направлению ВРК ЦИК партии прибыл в Витебск на ответственную партийную работу. Беме Л. К,— активный участник революционных событий в Витебске, с августа 1918 г. возглавлял губернское управление милиции. Революционный штаб был создан по решению губ-кома партии в феврале 1918 г., когда кайзеровские войска стали угрожать Витебску. Ему была передана вся полнота власти в городе и губернии. Расформирован 8 апреля 1918 г. Ч у н ч и н В. Я.— активный участник революционных событий в Витебске,, один из создателей и руководителей Витебской большевистской организации, первый председатель губернского Совета. Ко.стерин М..— активный участник революционных собы' тий в Витебске. Пэн (Пен) Ю. М.— родился в 1854 г. в м. Ново-Алексан-дровске Ковенской губернии, В 1886 г. окончил Петербургскую Академию художеств, где занимался у И. Лаврецкого и П. Чистякова. С 1892 по 1937 год жил и работал в Витебске. При своей мастерской открыл частную художественную школу, в которой получили первоначальное образование некоторые впоследствии известные художники. В течение долгих лет преподавал в Витебском художественном училище. После смерти художника в 1937 г. в Витебске была открыта «Галлерея Ю. М. Пэна». Малевич К С. (1878—1935) — русский живописец. В 1918—1922 гг. жил и работал в Витебске, преподавал в Народной художественной школе. 391 Варваринская г и м н а з и я находилась у Старого моста на улице Вокзальной (ныне улица Кирова). Народная художественная' ш ко л а была создана в Витебске в 1918—1920 гг. на основе студии, открытой еще до революции Ю. М. Пэном. Помещалась в национализированном особняке бывшего банкира Вишняка по Рождественской улице (ныне старое здание Витебского стройтреста № 9 по улице «Правда»), Первым её директором был М. Добужинский, Малько Н. А. (1883—1961) — дирижер. С лета 1918 по 1921 год жил в Витебске. Первый директор Народной консерватории, руководитель симфонического оркестра, неутомимый популяризатор классической музыки среди населения города. Сад «Благи» — ныне парк культуры железнодорожников. Пумпянский Л. В. (1894—1940) — русский советский литературовед. Выпускник Петроградского университета. В начале 20-х годов преподавал в Витебской народной консерватории, позже в Ленинградском университете и консерватории. Автор ряда известных работ по зарубежной литературе, а также статей о А. Пушкине, М. Лермонтове, Ф. Тютчеве, А. Кантемире, В. Тре-диаковском, И. Тургеневе. Соллертинский И. И.— родился в 1902 г. в Витебске. В 1906 г. вместе с семьей переехал в Петербург. С осени 1919 по 1921 год жил в Витебске. Работал в подотделе искусств губернского отдела народного образования. Впоследствии профессор Ленинградской консерватории, известный музыковед и театровед. Умер в 1942 г. Юдин Г. Я.— родился в 1905 г. в Витебске. Русский советский дирижер и композитор. Ученик Н. А. Малько. Живет в Москве. Театр Д. И. Тихантовского — находился по улице Канатной (ныне улица Димитрова). В 1908 г. помещение было перестроено и театр стал работать круглый год. Он являлся, местом проведения концертов многих выдающихся мастеров. Бахтин М. М.— родился в 1895 г. в г. Орле. Русский советский литературовед. Окончил Петербургский университет. Некоторое время жил в Витебске, преподавал в Пролетарском университете. Автор известных работ о Ф. Достоевском, Ф. Рабле, Л. Толстом. Живет в Москве. Выстрел в Кленнике В начале июля 1941 г. Витебск оказался в полосе наступления вражеских войск группы армий «Центр». 9 июля после шестичасового кровопролитного -сражения гитлеровцы овладели пра- 392 вобережной частью города. К исходу следующего дня фашисты захватили его полностью. Начался почти трехлетний период оккупации Витебска. Но город не покорился. Борьбу патриотов возглавили коммунисты. Уже к февралю 1942 г. действовало около двадцати подпольных организаций и групп. К лету 1943 г. их число выросло до шестидесяти. Успенская горка — возвышенный мыс, образуемый слиянием рек Витьбы и Западной Двины. Названа по некогда стоявшему здесь Успенскому собору. Брандт А. Л. и Брандт Л. Г. появились в Витебске в 1936 г. С первых дней оккупации стали на путь предательства. По приговору народного суда расстреляны. Стасенко М. Г. — родился в 1909 г. в с. Валентиновка Михайловского уезда Воронежской губернии. Работал в Западно-Двинском речном пароходстве сначала диспетчером, затем начальником городского Общества спасения на водах. 23 июня 1941 г. был призван в армию. Под Смоленском попал в окружение и вернулся в Витебск. В 1942 г. стал партизаном бригады М. Ф. Бирюлина. Погиб 19 мая 1943 г. Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Зейлерт В. К.— родился в 1908 г. в Витебске. Член КПСС с 1940 г. В 1935—'1941 гг. работал директором Витебского краеведческого музея. После войны преподавал в Витебском художественно-графическом училище, затем в педагогическом институте имени С. М. Кирова. Живет в Витебске. Старый мост — соединял Вокзальную (ныне улица Кирова) и Замковую. 9 июля 1941 г. специально оставленная группа подрывников взорвала его. В годы оккупации он был восстановлен фашистами, но при отступлении из Витебска в июне 1944 г. они полностью разрушили его. Пролетарский бульвар — ныне улица Богдана Хмельницкого. Морудов Т. А.— родился в 1911 г. в д. Узлятино Сиро* тинского уезда Витебской губернии. Член КПСС с 1940 г. В 1942 г. возглавил подпольную группу. В октябре 1943 г. во время одной из облав был арестован. Прошел через фашистские концлагеря смерти. После освобождения возвратился в Витебск. Около двадцати пяти лет работает главным механиком станкостроительного завода имени Коминтерна. Награжден орденом Отечественной войны I степени и 5 медалями. «Белорусский народный дом» — был открыт оккупантами для антисоветской агитации. Размещался в здании нынешнего городского Дома культуры по улице Ленина. Бирюлин М. Ф.— родился в 1914 г. в д. Любятино Велиж- 393 ского уезда Витебской губернии. Член КПСС с 1939 г. Накануне войны работал председателем исполкома Боровлянского сельсовета Витебского района. Осенью 1941 г. организовал партизанский отряд, затем командовал 1-й Витебской партизанской бригадой. После, войны — на советской и административной работе. Награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Отечественной войны II степени и 15 медалями. Почетный гражданин города Витебска. Белохвостиков А, Е.— родился в 1914 г. в д. Ляховик Оршанского уезда Могилевской губернии. В 1938 г. окончил Белорусский институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева. В начале войны был оставлен для подпольной работы з городе. Создал широко разветвленную группу, которой руководил в течение двух лет. В мае 1943 г. был арестован и расстрелян фашистами. Награжден орденом Отечественной войны I степени. Бобров Н. С.— родился в 1915 г. в д. Савейковичи Елагинской волости Витебского уезда. Был в составе подпольной группы А. Б. Белохвостикова. В марте 1942 г. вывезен в' Германию. Прошел через фашистские лагеря смерти. После войны работал в Риге, затем в Витебске. С 1958 г. живет в Минске. Синкевич (Петрашкевич)Л. А.— родилась в 1922 г. в Витебске. Входила в состав подпольной группы А. Е, Белохвостикова. В марте 1943 г, была вывезена фашистами на принудительные работы в Австрию. После освобождения Советской Армией вернулась в Витебск. Работает на молочном заводе. Р а д ь к о В. Ф.— прибыл в Витебск вместе с оккупантами. • Являлся агентом гитлеровской контрразведки по кличке «Рак». Был назначен фашистами бургомистром города. После войны разоблачен советскими органами безопасности и предан суду. 22 января 1942 года 4-я ударная армия под командованием генерал-полковника А. И. Еременко вышла на рубеж Велиж — Демидов. Действовавшая в ее составе 243-я стрелковая дивизия генерал-майора Г. Ф. Тарасова в конце января подошла вплотную к Витебску. Рейд сыграл важную роль в развертывании партизанской и подпольной борьбы на территории Витебщины, Наудюнас И. П.— родился в 1906 г. в д. Тринивки Ку-ринской волости Витебской губернии. Член КПСС с 1940 г."С августа 1941 г. активный участник Витебского подполья. В феврале 1943 г. был тяжело ранен и отправлен на Большую землю. В послевоенное время находился на. ответственной партийной и советской работе в Литовской ССР. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «Знак Почета» и 6 медалями. Живет в Каунасе. Оборон.нал — улиц.а — ныне- улица Шубина.' «Витебские (С у р а ж с к и е) ворота» — образовались между Велижем и Усвятами в результате наступления войск Калининского фронта зимой 1942 г. Через них осуществлялась связь с Большой землей партизан и подпольщиков Белоруссии и Прибалтики. Удерживались 4-й ударной армией и белорусскими партизанами. Действовали с 10 февраля по 28 сентября 1942 г. Кононов В. Ф.— родился в 1912 г. в Витебске. Член КПСС с 1945 г. С первых дней оккупации города до его освобождения принимал активное участие в подпольной борьбе с фашистами. После войны окончил Ленинградское артиллерийское техническое училище, затем Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и двумя медалями. Живет в Минске. Ш м ы р е в М. Ф.— родился в 1891 г. в д. Пунище Сураж-ского уезда Витебской губернии. Член КПСС с 1920 г. Участник борьбы за установление и укрепление Советской власти на Ви-тебщине. Перед войной — директор фабрики имени Воровского в д. Пудоть Суражского района. 9 июля 1941 г. создал первый на Витебщиие партизанский отряд, который вырос вскоре в 1-ю Белорусскую партизанскую бригаду. После войны находился на административной работе. Избирался в Верховный Совет БССР. Удостоен звания Героя Советского Союза, награжден тремя орденами Ленина, орденом Отечественной войны I степени и многими медалями. Являлся почетным гражданином города Витебска. Филимонов Е. Г.— родился в 1925 г. в д. Марьяново За-роновского сельсовета Витебского района. В 1939 г. переехал в Витебск. Накануне войны работал слесарем и одновременно учился. В 1942 г. установил связь- с подпольщиками. После выполнения задания по ликвидации А. Л. Брандта ушел в 1-ю Витебскую партизанскую бригаду М. Ф. Бирюлина, Погиб 19 мая 1942 г. в бою с карателями. Задуновская улица — ныне улица Фрунзе. Пятый полк'— находился на западной окраине Витебска по Полоцкому шоссе. Фашистские захватчики превратили его территорию в концлагерь для военнопленных и мирных жителей. За три года оккупации гитлеровцы замучили в этом лагере смерти свыше 80 тысяч советских граждан. И.мы и после нас... Б л а у А. Г.— родилась в 1894 г. на сельскохозяйственной успенской ферме Переяславльского уезда Владимирской губернии. Член КПСС с 1949 г. Окончила Московские высшие женские курсы Герье. Работала в Москве и Подмосковье. В начале тридцатых годов переехала в Витебск. В 1939 г. присвоено звание заслу- женного учителя БССР. В течение двадцати лет избиралась делу* татом городского и областного Советов депутатов трудящихся. Награждена орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. Михельсон В. В.—родился в 1929 г. в пос. Выдрица Оршанского округа. Член КПСС с 1952 г. После окончания сельхозшколы работал на Оршанщине. Служил в Военно-морском флоте. После демобилизации находился на комсомольской работе. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1963 г. первый секретарь Первомайского райкома партии г. Витебска, потом заведующий отделом Витебского обкома К.ПБ. Сейчас первый секретарь горкома партии. Депутат горсовета и Верховного Совета БССР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалью. Ойстрах И. С.— родился в 1913 г. в поселке Турбов Киевской губернии. Член КПСС с 1932 г. В годы борьбы с фашизмом сражался на фронте. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета» и 8 медалями. Работает в строительном управлении. Приезд В. В. Маяковского в Витебск — состоялся в марте 1927 г. Поэт удивился тому, что пивзавод носит имя выдающегося революционера А. Бебеля. Об этом он написал стихотворение «Пиво и социализм». Данилов В. А.— родился в 1923 г. в г. Кохма-Иваново Вознесенской губернии. Главный архитектор Витебского филиала «Белгоспроекта». Разработал проект планировки и застройки улицы Кирова (вместе с В. И. Гусевым и А. Ю. Даниловой), центральной части (вместе с А. А. Вельским, 3. С. Довгяло, А. Ю, Даниловой, Л. М. Эйнгорном) и южных жилых районов города (при участии Р. П. Княжица, Л. Чайковской, Н. Жуковской, О. Н. По-тавиченко), а также отдельных объектов по улице Ленина. Разработал генеральные планы городов Витебска» Полоцка и Ново-полоцка (вместе с В. П. Чернышевым, А. Ю. Даниловой и Л. М. Эйнгорном), генеральный план и проект застройки Ново-луиомля (вместе с 3. С, Довгяло). Автор ряда крупных проектов, в частности комплекса Витебского мединститута, детальной планировки микрорайона по Смоленскому шоссе, гостиниц «Витебск» (вместе с И. И. Боровой и 3. С. Довгяло) и «Двина». Данилова А. Ю.— родилась в 1927 г. в г. Гадяч ^ Ромен-ского округа. Окончила Киевский инженерно-строительный институт. С 1951 г. живет и работает в Витебске. Автор проекта планировки и застройки улицы «Правда» и один из авторов проекта улицы Кирова, отдельных участков улицы Фрунзе (вместе с Н. Г. Маршаловой и В. П. Чернышевым) и южных жилых районов города, отдельных объектов по улице Ленина. Разработала гене- 396 ральный план Орши, один из авторов генеральных планов городов Витебска, Полоцка и* Новополоцка. Главный архитектор архитек-турно-планировочного отдела Витебского филиала «Белгоспроек-та». Награждена орденом Трудового Красного Знамени. Заслуженный архитектор БССР. Юрьева горка — находится в западной части Витебска. Зеленый с резко пересеченным рельефом массив площадью около двух десятков гектаров. Издавна служила местом народных гуля-ний в Юрьев день. Трамвай в Витебске пущен в 1898 г. Это был первый электрический трамвай в Белоруссии. Первые маршруты его проходили от улицы. Задуновской до вокзала и от Смоленского рынка до Могилевской площади. Соболевский П. П.— родился в 1922 г. в д. Язвино Си-ротинского уезда, Витебской губернии. Член КПСС с 1945 г. По окончании Марьи но горской школы поступил в Ленинградский кораблестроительный институт. В июле 1942 г. добровольно ушел на фронт. После демобилизации вернулся в Ленинград. С 1948 г. лсивет и работает в Витебске. Сейчас директор станкостроительного завода им. С. М. Кирова. Избирался в Витебский городской, областной Советы, Верховный Совет БССР. Заслуженный работник промышленности БССР. Награжден орденами Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени, 8 медалями. Анихимовский А. А.— родился в 1928 г. в д. Рясно Сенненского района Витебской области. Член КПСС с 1951 г. С осени 1944 г. живет в Витебске. Около тридцати лет работает на заводе имени С. М. Кирова. Награжден орденом Ленина и двумя медалями. Смоляков П. У.—родился в 1917 г. в д. Губица Лов-шанской волости Витебской губернии. Воевал под Сталинградом, Белгородом, Курском. Демобилизовался в 1947 г. Потом двадцать пять лет водил поезда. С 1972 г. на пенсии. Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красного Знамени и двумя медалями. Макаров Н. А.— родился в 1905 г. в Витебске. Член КПСС с 1939 г. Участник гражданской войны. Почти полвека проработал на железнодорожном транспорте. В 1943 г. за образцовое выполнение заданий военного командования по перевозкам грузов для фронта присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1944—1966 гг. возглавляет Витебское отделение Белорусской железной дороги, с 1967 г.— инженер кабинета научно-технической информации. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, «Знак Почета» и 5 медалями. Почетней гражда- 397 нин города Витебска. Витебский ковровый комбинат имени 50-летия БССР — вырос на месте разрушенной в годы войны льнопрядильной фабрики «Двина». Первая очередь его вступила е строй в 1948 г. В 1960 г. ему, первому в Белоруссии, присвоено звание — «Предприятие коммунистического труда». Ивановский С. М.— родился в 1900 г. в Витебске. Член КПСС с 1924 г. С 1912 г. работал на льнопрядильной фабрике «Двина». После Октябрьской революции на комсомольской и административной работе, В годы войны был политработником. Советской Армии. Награжден 7 медалями. Живет в Витебске. Цыганкова Ф. Е.— герой первых пятилеток. Член КПСС с 1924 г. В предоктябрьские дни 1917 г. при выборах в Совет рабочих и солдатских депутатов агитировала за коммунистов. После революции участвовала в организации частей особого назначения (ЧОН), в создании школ и пунктов по ликвидации неграмотности. Первой среди женщин была избрана в состав ЦИКа БССР. Являлась членом ВЦИКа СССР. Климков П. Д.— родился в 1923 г. в д. Дорожковичи Могилевского уезда Гомельской губернии. Член КПСС с 1953 г. С 1950 г. работает на ковровом комбинате имени 50-летия БССР, Один из инициаторов соревнования за звание бригад коммунистического труда в Белоруссии. В 1966 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награжден орденом Ленина и 4 медалями. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Хирувимова Р. П.— родилась в 1939 г. в г. Бородино Бо-гушевского района Витебской области. Член КПСС с 1970 г. После окончания семилетки переехала в Витебск, где закончила среднюю школу. С 1957 г. работает на ковровом комбинате им. 50-летия БССР. Инициатор ряда трудовых починов. Избиралась в районный, и городской Советы. Депутат Витебского областного Совета. Награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью. Петрик Л. Л.— родилась в 1949 г. в г. Долинске Южно-Сахалинской области. В 1955 г. переехала в Витебск. После окончания школы в 1966 г. поступила в Витебский пединститут имени С. М. Кирова. Абсолютная чемпионка СССР (1966), призер розыгрыша кубка Европы (1966) и первенства мира (1967), двукратная чемпионка XIX Олимпийских игр (1968), чемпионка IV Спартакиады народов СССР (1969), Заслуженный мастер спорта СССР. Награждена орденом Трудового Красного Знамени. Живет и работает в Москве, Лазакович Т. В.— родилась в 1954 г. в с. Севское Правдинского района Калининградской области. В 1962 г. вместе с семьей переехала в Витебск. В 1968 г. на лично-командном пер-' 398 венстве СССР по спортивной гимнастике завоевала пять золотых медалей. Абсолютная чемпионка V Спартакиады народов СССР (1971), абсолютная чемпионка Европы (1971), чемпионка мира в командном первенстве (1970), чемпионка XX Олимпийских игр (1972). Заслуженный мастер спорта СССР. Награждена орденом «Знак Почета». Студентка Витебского техникума физической культуры. 'Дмитриев В. Д.— родился в 1931 г. в г. Ленинграде. В 1955—1958 гг. учился в Витебском техникуме физической культуры. За успехи в подготовке спортсменов высокого класса присвоены звания Заслуженного тренера СССР, Заслуженного тренера БССР, Заслуженного учителя БССР, Заслуженного деятеля физической культуры БССР. Награжден орденами Красного Знамени и «Знак Почета». Почетный гражданин города Витебска, Работает- тренером специализированной Детско-юношеской спортивной школы Витебского областного совета «Динамо». . ***, Віцебская махорка Tagged: На полі бою 1942 Дрэнна Нармальна Добра Выдатна Вельмі выдатна Сярэдняя: 5 (4 галасоў) Здан горад Віцебск. З весткай горкай Ішлі мы ўздоўж яго Дзвіны. Здан Віцебск. Мы яго махорку Яшчэ курылі да вайны. I, адступіўшы, на прывале Усе курылі, як адзін, Развітваючыся, дышалі Мы дымам родных нам мясцін. Дымок цягнуўся к соснам любым I плыў да хмарак, і адтуль Пустым дамам, астыўшым трубам Таксама гаварыў: «Пакуль». На фронт махорку прысылалі Другія гарады пасля, Чаргой міналі Дні і далі: Усход, заход, вада, зямля. I вось назад ідзём мы ў славе. Нас паляць подыхі зімы. Жаданы горад! Неўзабаве У родны горад прыйдзем мы. Ніводнага жывога дома, Скрозь груды попелу й цаглін. Табачнай фабрыкі, вядома, Не знойдзем мы сярод руін. За фабрыкай у самым цвеце Быў сад — Няма яго, аднак. Па-гаспадарску ўсё прыкмецім, Усё прыкмецім, што і як. Наперад мы, на захад рушым I ўсё, што вораг знішчыў, знёс, Усё вярнуць назад прымусім, Усё, Нават дым ад папярос. Аркадзь Куляшоў https://fantlab.ru/edition52272
|
| | |
| Статья написана 17 августа 2017 г. 17:08 |
"Откуда мы родом? Мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны… Я не очень уверен, что жил после того, как прошло детство" А. де Сент-Экзюпери

Жаль, что не написал эту заметку раньше, когда память была свежее. А может, когда моложе, не так тянет вспоминать детство?
В жизни сложилось так, что с 1973 по 1981 гг. меня приглашали к себе на летние каникулы родственники — семья Ининых из Витебска, проживавшая в доме № 14 по ул. Чкалова. 


Вспоминается утро, на чешском серванте, в тон ему, часы "Весна" — деревянные настольные покрытые коричневым лаком с цифрами только лишь 6 и 12 (в младшем школьном возрасте время по ним приходилось подсчитывать). 
В 9 часов (иногда — в 10) я отправлялся на улицу. Если в это время во дворе находились знакомые ребята (и было настроение на недалёкие прогулки), то я оставался с ними. Их звали: Андрей (на 2-3 года старше, папа работал на ковровом комбинате, возил семью в лес за грибами/ягодами или на рыбалку, т.к. они жили бедно, на мотоцикле ИЖ-Юпитер с коляской) 
Ещё у одного имени не помню, кличка Бендер, племянник одноногого инвалида-пьяницы, иногда угощавшего его выпивкой и тогда начинавшего его "воспитывать", Петя и Толя, мои ровесники, немного приблатнёные, называвшие себя местным витебским словом "мАльцы" (мальчишки).
С этой четвёркой ходили по окрестным стройкам, собирали куски смолы, кот. пробовали на вкус, а как-то даже умудрился принести домой в кармане рубашки. Она растаяла, при стирке не выпала, а при глажке у тёти к карману вдруг приклеился утюг. Иногда шли на Гапеев ручей (между пединститутом с радаром на крыше) и домом, прозванным в народе "петушком". Под доносившийся перестук ж/д колёс руками ловили тритонов и головастиков . 
В 12-м доме жил Валера (однофамилец известного летописца и поэтизатора города, чей день рождения обычно отмечают в июне во время празднования Дня города) Симанович, самый "продвинутый" в современной музыке и моде, поступивший впоследствии в Лиепайскую мореходку. 


Ещё была Инга Чуркина, родом из МурмАнска, дочка моряка, привезшего как-то болгарскую игру "Не сердись, человек". Она была на пару лет старше. С ней я ходил в гастролировавший чешский Луна-парк с цирком Шапито, размещавшимися довольно далеко, возле 32-й почты, магазина "Союзпечать-Филателия"(возможно "Глобус") и маленького аэродрома. Её (единственную из всей ребятни) я видел в свой приезд в 2004 г. Она работала учительницей физкультуры в школе 33 (если не ошибаюсь), на Черняховке, а наши дети уже стали старше нас "тогдашних" самих. Так совпало, что моя дочь названа Ингой. Её сын, по-моему, Сашей. В следующий приезд, в 2013-м, обнаружил, что и она оттуда переехала. Ребята, если вы читаете это сейчас, отзовитесь, я вас помню :) Двор был общим для домов №12 и №14, стоявших лицом друг к другу. 
Утром и вечером приезжал ГАЗ-51 "мусоровоз". выстраивалась очередь с мусорными вёдрами. Стационарные мусорники строить считалось антисанитарно (запах, мухи...). В начальную пору моего пребывания в определённое место приезжал автобус "Малютка", оборудованный под кинозал. В нём показывали мультфильмы. Позднее их же показывали в установленном стационарно самолёте Ту-134 (кинотеатр "Полёт"). Луна-парк и цирк-Шапито были пределом мечтаний для местной ребятни. Тир, в котором за удачный выстрел можно было выиграть чешскую стирательную резинку, игрушку, а то и жвачку (иногда-югославскую (обожаемую!) — в виде настоящей взрослой сигареты). Аттракционы всевозможные, колесо обозрения, на котором захватывало дух, автодром с десятком двухместных машинок со скользящими по потолку усами-троллеями, смешно и страшно для девчонок сталкивающихся друг с другом... Этого всего в городе, по-моему, не было. Во всяком случае, не в ближнем обозрении, а в парке им. Фрунзе или "Мазурино" кое-что было. Став постарше, я отправлялся на самостоятельную прогулку по городу. По левой стороне Московского проспекта интересно было пройти мимо школы 31 с вмонтированным в стену кирпичом из Брестской крепости и бюстом подпольщицы Веры Хоружей. Там были красивые цветочные клумбы. По завершении школьных корпусов начиналось "царство знаний" — магазин "Военная книга". Там были книги всех отраслей знаний и художественная литературы. Некоторые из них до сих пор в моём шкафу. Затем появлялся киоск "Союзпечати". В нём продавались "сигнальные" экземпляры новых песен известных советских исполнителей и ансамблей на твёрдой чёрной виниловой пластинке. По одной песне на пластинке. 
В частности, была пластинка-сувенир А. Пугачёвой "Куда уходит детство?" Наверно, в старые фотографии... Прошу прощения, а вот их-то у меня почти и нет 
Воскресает в памяти магазин "Оптика" со специфическим запахом фланелек и замш для протирания стёкол очков и подкладок очковых футляров, магазин "1000 мелочей" с немыслимым обилием инструментов и домашнего, садово-огороднего инвентаря. Продовольственный универсам "Центральный" 



с кафетерием, в котором совершался перекус в составе ломтика медовой коврижки и лимонного сока, наливавшегося (из 3-х литровой банки) ,иногда молочного коктейля из специальных колб. Кафе "Журавинка"(полагал, что "журавушка", оказалось — "клюква"), переход, кинотеатр "Беларусь" . Это второе по значимости заведение детского восторга. Премьерные фильмы, мультфильмы. в т.ч. — и зарубежные. В фойе панно, кафетерий, клетки с попугаями, игровые автоматы... 







Переход на пл. Победы. "Детский мир", оправдывавший своё название, за витриной — Айболит и бегемот, двигавшие конечностями... 
Площадь неописуемо озеленённая, с клумбами и фонтанами, тенистыми уголками, скамейками... 

Далее, уже сев на трамвай или автобус, можно было приехать на вокзал, зайти в старинный кинотеатр "Октябрь", затем в огромный киоск "Союзпечати": газеты с кроссвордами, и спортивными новостями, киножурналы, календари футбольного сезона...Потом можно было зайти в старинное здание вокзала , подняться на 2-й этаж, посмотреть на поезда. 

Затем выйти, и повернув налево, попасть к Дому быта, в котором находилась студия звукозаписи, предлагаюшая зарубежные шлягеры на небольшой прозрачной пластинке (их нельзя было найти на пластинках фабричного изготовления). 

Пройдя по правой стороне ул. Кирова, перейдя Двину по Кировскому мосту и насмотревшись на прогулочные теплоходы, я попадал к универмагу, в котором было разнообразие различных товаров: советских — почти без очереди, импортных из соцстран — с очередями. Главное, что в нём привлекало — грампластинки: и "Песняры", и "Сябры", и "Верасы", и женский ансамбль "Чаровницы"... 
Затем было интересно зайти в просторный магазин "Глобус", настоящий книжный дворец. И , ради любопытства, обойти Синий дом, зайдя лишь в павильон "Союзпечати", а после, у выхода купив мороженое. 
После — опять же автобусом или трамваем — подняться на пл. Победы. И пойти по направлению к дому по противоположной стороне проспекта. Вспоминается большой Главпочтамт. Продовольственный магазин "Комсомольский". Кафе "Восход". Перед ними обычно стояли урны для мусора в виде пингвинов, чёрно-белые, с красными клювами. 
Затем — вдоль 11-й школы, к магазину "Богатырь" — новому современному зданию , опять же, с "Союзпечатью" ( газетами, журналами, марками и значками). Это было "культурно-образовательным мероприятием", как говорили дома взрослые. А иногда поездка на 6-м автобусе в лесоводопарк "Мазурино" занимала почти весь световой день и была "спортивно-оздоровительным мероприятием". Лесными тропами можно было пробраться к реке, поплавать, позагорать, поиграть в футбол или пляжный волейбол.... 
*** Автобусу №6 "Телевизионный завод — парк Мазурино" В год 1000-летия Витебска Бел-чырвона-белы (сказали б сейчас) Через площади, мосты и скверы "Икарус" возил нас на пляж. А уж взрослые, до новостей охочие, Пока автобус шёл к УланОвичам, Прочитывали весь "Віцебскі рабочы" Со стихами Давида Симановича. Он ехал сквозь даты и вехи, Этот 6-й маршрут. Тогда мне казалось — вечность, А он шёл 45 минут. Белой глазастой гусеницей Подползал к остановке он. Запрыгивал на "11-й школе" я, И начинался мой "марафон". Проходил он мимо Веры Хоружей, 31-й школы новизной маня. Мимо "Военкниги", на которую Денег толком не хватало у меня. Знал бы я тогда, что впоследствии, Прячась от жары и тоски, Заходил туда сам Юрий Шепелев... Только нет мемориальной там доски:) А потом — кафе "Восход" и столовая, Во дворе библиотека для детей. Говорят, химчистка есть новая Перед царством "1000 мелочей". Тыща мелочей и тыща лет городу, Но это впереди, а пока Кафетерий "Журавинка" — здорово! А напротив возвели "Три штыка". И затем автобус, у светофора высясь, В красный свет отдыхал, а я тогда Извлекал город "КИЕВ" из "ВИтЕбсК,а"* ТБС в остатке только деть куда? Через Черняховку — "Беларусь" (из другого мира она!), По мосту к "Берёзке" автобус ползёт. И станкозаводы — Коминтерна и Кирова - "Гармошкой" скрипя, не спеша обогнёт. А трансформатор ТБС я складирую, В цех по сборке электроприводов. Для ламп местного освещения, Мне по возрасту только — прощение. * киевляне и витебляне 

*** моя тётя и двоюродная сестра с племянницей 



я с двоюродной сестрой в середине 90-х 
*** дядя и тётя у мемориала на братской могиле в пос. Октябрьском. 1982 
табличка с того мемориала. 2016 г. (районный историко-краеведческий музей) 

новый мемориал на братской могиле. 2016 
*** 






фото Ю. Шепелева, 2014 г. https://vkurier.by/107062 https://vkurier.by/140490 https://vkurier.by/?s=%D0%9D%D0%B0%D1%81%... https://vkurier.news/?s=%D0%9D%D0%B0%D1%8...
|
| | |
| Статья написана 8 июня 2017 г. 15:22 |
МІКАЛАЙ ПІВАВАР Святкаванне тысячагоддзя Віцебскаў 1974 г. За алошнія гады цэнтр Віцебска моцна змяніўся. Рэканструява- ная плопгча Перамогі, адноўленыя Уваскрасенскі і Прачысцен- скі (Успенекі) храмы. Стала паўнаводнан Віцьба, а ў Дзвіны з'явілася ўзбярэжная. На Прачысценскую гару вядзе шырокая лесвіца. Каля Сіняга дома , які стаў бэжавым, узведзены шкляныя піраміды «Марка-сіці». А калі цэнтр горада стаў «звыклым» для вока большасці жыхароў горада? Верагодней за ўсё, у пачатку 1970-х гг., і звязана гэта было са святкаваннем 1000-годдзя Віцебска.
Мы не бярэм пад сумненне той факт, што ў 1974 г. святкавалася ле- гендарная падзея. Нас цікавіць, як дзякуючы гэтаму змяніўся горад: яго- ная архітэктура, добраўпарадкаванне, стаўленне жыхароў да яго гісторыі. У гэтым артывуле мы хочам высветліць, як узнікла сама ідэя свят- кавання. Мы паспрабуем параўнаць сцэнары тагачасных святаў і су- часныя мерапрыемствы на юбілеях горада, а таксама адказаць на пы- тавне, ці Віцебск дасюль жыве спадчынай савецкага горада альбо ўсё ж змяяіўся ва працягу апошніх амаль сарака гадоў. Натуральна, што на ўсе пытанні, звязаныя са святкаваннем (колькі каштавалі ўрачыстасці, будаўніцтва, добраўпарадкаванне; якія змены адбываліся ў планах раз- віцця горада ў сувязі з імі; якія ідэі не ажыццявіліся; якія міфы, звяза- ныя з урачыстасцямі, і шукаць у свядомасці гараджан, і шмат іншага) ад- казаць разгорнута ў адным арггывуле не ўдасца. Таму мы спадзяёмсн, што ён зможа заахвоціць івгаых да асвятлення гэтай таматыкі. У ВССР было нямала юбілеяў. Найбольш важныя з іх бьілі звязаны з галоўнымі падзеямі савецкай дзяржавы — Кастрычніцкай рэв&люцыяй, народзінамі У. I. Леніна, перамогахо ў Вялікай Айчывдтй вайне, а ўлас- на для Беларусі — з вызваленнем ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Важнымі вехамі былі пяцігодкі. Ім прымяркоўваліся пускі заводаў, ад- крыццё школ, увядзенне ў эксплуатацыю новых мастоў, бальніц, клубаў. Святкаванне — гзта заўсёды госці. Для кіраўніцтва горада задаволеныя ад святкавання госці — гэта магчымасць паказаць сябе з лепшага боку, а значыць вылучыцца і атрымаць болып высокую пасаду альбо іншыя выгоды. На 1974 г. якраз прыпадалі важныя чарговыя юбілеі — 30-годдзе вызвалення БССР, выкананне планаў 9-й пяцігодкі. Адзначыць іх аса- бліва ўрачыста было партыйным абавязкам для кіраўніцтва БССР. Ад- куль жа ўзнікла жаданне адзначыць 1000-годдзе Віцебска? ВЫСПЯВАННЕ ІДЭІ Думка пра тое, каб адсвяткаваць тысячагадовы юбілей Віцебска, уз- нікла ў канцы 1970 г. у краязнаўцы Міхаіла Рыўкіна (29.12.1931, г. Ві- цебск — 12.03.2010, Бібертал, ФРГ), Змешчаны ў першым томе «Віцеб- скай даўніны» (выдадзены А, П. Сапуновым у 1883 г.) т. зв. «Віцебскі летапіс» («Вгіеіе тіааіа МіеЬвка») датаваўчас заснавання Віцебска 974 г. Адсюль вынікала, што ў 1974 г. горад адзначыць 1000-годдзе. Цяпер цяжка сказаць, чаму Міхаіл Рыўкін «зачапіўся» за гэтую дату. Ён скончыў асшрантуру пры Акадзміі педагагічных навук СССР (1968), праводзіў даследаванні на высокім навуковым узроўні. Ён ведаў, што дата не можа быць правільнай, бо легендарная заснавальніца горада княгіня Вольга памерла ў 969 г. і заснаваць горад у 974 г. не магла. Відаць, Міхаіп Рыўкін разумеў, пгго святкаванне тысячагадовага юбілея можа прынесці гораду шматлікія выгады, і таму звярнуўся да Іосіфа Навумчыка, які займаў на той час пасаду другога сакратара ві- цебскага гаркама КПБ. Той, выслухаўшы довады М. Рыўкіна, звярнуўся з адпаведнай прапановай да першага сакратара Відебскага гаркама КПБ Валянціна Міхельсона. Міхельсон і старшыня гарвыканкама Уладзімір Багданаў падтрымалі ідэю святкавання 1000-годдзя Віцебска. Пад яе ў саюзнага і рэспубліканскага цэнтра можна было б атрымаць грошы на будаўніцтва такіх аб’ектаў, якія б не пацягнуў абласны бюджэт. Аднак для святкавання было неабходна падрыхтаваць грамадскую думку, растлумачыць жыхарам горада значнасць падзеі, упэўніць, што «княжацкае» паходжанне горада ўпісваецца ў кантэкст яго сацыяліс- тычнай рэчаіснасці. У рэспубліканскім друку выйшаў шэраг артыкулаў . Апе найперш трэба было атрымаць дазвол на святкаванне ў Маскве. Для гэтага неабходна было заручыцца падтрымкай галоўнай навуковай інстытуцыі краіны — Акадэміі навук СССР. Міхаіл Рыўкін выкарыстаў сваё сяброўства з археолагам, супрацоў- нікам Інстытута гісторьгі АН СССР Леанідам Васільевічам Аляксеевым, які даследаваў Віцебшчыну. Той быў у добрых адносінах з дырэктарам інстытута, акадэмікам Барысам Аляксандравічам Рыбаковым. У Іясты- тут быў накіраваны ліст ад віцебскага гаркама КПБ з просьбай выка- заць меркаванні адносна святкавання 1000-годдзя горада ў 1974 г. У ад- каз Б. А. Рыбакоў і Л. В. Аляксеў пісалі: 1. У старажытных пісьмовых крыніцах сказана, што кіеўская княгіня Вольга была ў Віцебскай зямлі ў 947 г., аднак факту за- снавання Віцебска там няма. 2. Віцебскі летапіс XVIII ст. заха- ваў гэты факт, але з памылковай датай (замест 947 — 974 г.). 3. Археалагічныя раскопкі сцвярджаюць, што ў X ст. Віцебск іс- наваў і, такім чьтам, не супярэчаць таму, што горад (г. зн. яго- ная крэпасць) быў заснаваньі. Беручьі пад увагу ўсё гэта Інсты- тут гісторыі АН СССР лічыць, што тысячагадовы юбілей го- рада Віцебска варта адзначыць у 1974 г., узяўшы 974 год за ўмоў- ную дату яго заснавання. Можна не сумнявацца, што ў XX ст. Віцебску спаўняецца 1000 гадоў. ПАДРЫХТОЎКА ДА СВЯТКАВАННЯ У парадку субардынацыі 30 ліпеня 1971 г. у ЦК КПБ была накірава- на запіска, у якой запытваўся дазвол на правядзенне мерапрыемстваў. па святкаванні юбілея. Па атрыманні станоўчага адказу, на бюро КПБ і выканкама відебскага гарсавета дэпутатаў працоўных ад 26 жніўня 1971 г. была прьгаята пастанова № 312/16 «Аб святкаванні тысячагод- дзя г. Віцебска» . У адпаведнасці з ёй святкаванне планавалася правесці ў чэрвені—ліпені 1974 г. Для падрыхтоўкі і правядзення святкавання: 1000-годдзя Віцебска была створана камісія, у якую ўвайшлі 26 чалавек. У складзе камісіі былі ўтвораны працоўныя групы: 1) па правядзенні; масава-палітычных і спартыўных мерапрыемстваў; 2) па падрыхтоўцьг прадпрыемстваў, побыту і гандлю, грамадскага харчавання, сувеніраў; . 3) па забеспячэнні выканання праграмы архітэктурна-будаўнічых ра- бот, добраўпарадкаванні і афармленні горада; 4) па падрыхтоўцы сцэна- рыя і каштарысна-разліковых прапаноў па правядзенні свята. Пастано- ва прадпісвала ўсім партыйным арганізацыям горада да 1 кастрычніка 1971 г. запланаваць канкрэтныя мерапрыемствы па падрыхтоўцы да святкавання. У горадзе абвяшчалася разгортванне сацыялістычнага спа- борніцтва паміж раёнамі, домакіраўнцітвамі, мікрараёнамі, вуліцамі, да- мамі, дварамі для добраўпарадкавання і паляпшэння санітарнага стану. Пяты пункт пастановы быў найбольш важны для горада: прасіць абкам КПБ і аблвыканкам разгледзець мерапрыемст- * вы гаркама КПБ і гарвыканкама і хадайнічаць перад Саветам міністраў БССР аб выдзяленні дадатковых сродкаў на добра- ўпарадкаванне і будаўніцтва культурна-побытавых аб’ектаў. ШТО ПЛАНАВАЛАСЯ ЗРАБІЦЬ? План работ да святкавання 1000-годдзя прадугледжваў выдаткі па дзвюх катэгорыях: капітальныя ўкладанні і добраўпарадкаванне. Зболыпага капітальныя ўкладанні тычыліся цэнтра горада. Праду- гледжвалася рэканструкцыя вул. Леніна ад вуліцы Савецкай да плош- чы Свабоды. На гэтым участку быў запланаваны знос дамоў, на які вы- даткоўвалася 120 тыс. рублёў. На 1973 г. тут знаходзіліся 133 будынкі, палова — дарэвалюцыйнай забудовы. На думку аўтараў праекта рэ- канструкцыі цэнтральнай часткі горада, 43 з іх не ўяўлялі каштоўнасці і выракапіся на знос. На вызваленых плошчах планавалася ўзвесці но- выя8. На добраўпарадкаванне схілаў і ўмацаванне берагоў Віцьбы з будаў- ніцтвам дароясак, тэрас і лесвіц быў вылучаны больш за 1 млн. рублёў. На ўчастку ад вул. Савецкай да вусця планавалася расчысціць і па- глыбіць русла Віцьбы. Ад вул. Леніна да парка Фрунзэ было запланава- на будаўніцтва пешаходнага моста праз Віцьбу. Яго кошт ацэньваўся ў 60 тыс. рублёў. Істотныя грошы ўкладаліся ў добраўпарадкаванне берагоў Дзвіны. На паглыбленне і расчыстку русла Дзвіны выдаткоўвалася 240 тыс. рублёў. На добраўпарадкаванне ўзбярэжнай па левым беразе ад заво- да імя Кірава да Смаленскай шашы — 240 тыс. рублёў, узбярэжнай ад гасцініцы «Дзвіна» да піўзавода—600 тысяч рублёў. Умацаванне берагоў між мастамі планавалася і надалей. У 1975 г. на гэта меркавалася вылу- чьшь 2,2 млн. рублёў . Рамантаваліся і афарбоўваліся фасады будынкаў па вуліцах і прас- пектах Фрунзэ, Смаленскай шашы, Леніна, Чарняхоўскага, Горкага, Гер- цэна. Рэстаўрацыя і рамонт прадугледжваўся для фасадаў знакавых будынкаў горада: кінатэатраў «Кастрычнік», «Мір», «Усход», вакзала, драмтэатра, калон на Кіраўскім мосце, гасцініцы «Савецкая», дамоў па вул. Даватара, Савецкай, 4-га Камунальнага, 5-га Камунальнага (вул. Акадэміка Паўлава), 6-га Камунальнага (вул. Горкага) і інш. Прадугледжвалася будаўніцтва вуліцы Кірава ад Тэатральнай плош- чы да пл. Свабоды (цяпер — вул. Замкавая), вуліцы Смаленскай на ўчастку ад Маскоўскага праспекта да вул. Праўды, рэканструкцыя скве- ра каля помніка 1812 г., сквера на плошчы Свабоды, парку 1000-годдзя горада, Тэатральнай плошчы, дзіцячага парку на ўзбярэжнай Дзвіны. Аднак найбольш істотныя фінансавыя ўкладанні запрошваліся на асфальтаванне праезжай часткі, тратуараў і добраўпарадкаванне зялё- ных зон вуліц: вул. Гагарына (1,28 млн. руб.), вул. Фрунзэ (880 тыс. руб.), вул. Касманаўтаў (600 тыс. руб.), вул. Горкага (400 тыс. руб.), вул. Герцэ- на (240 тыс. руб.), вул. Акадэміка Паўлава (240 тыс. руб.), вул. Савецкая (240 тыс. руб.), вул. Гараўца (80 тыс. руб.). Такім чынам, план работ у сувязі з правядзеннем 1000-годдзя го- рада прадугледжваў капітальных укладанняў на 2 586 тыс. рублёў, на добраўпарадкаванне — 5 445 тыс. рублёў. Усяго — больш за 8 млн. руб- лёў . Ці шмат гэта? Будаўніцтва гасцініцы «Віцебск» на 500 месцаў каш- тавала 2 млн. рублёў. Будаўніцтва рэстарана каштавала яшчэ 500 тыс. рублёў . Кошт рэканструкцых цэнтральнай чаегкі горада (між Віцьбай, Дзвіной і плошчай Леніна), распрацаванай «Белкамунпраектам», якая павінна была ажыццявівда да 1985 г., складаў 14,8 млн. рублёў , Ля сутоку Віцьбы планавалася пабудаваць турысцкі комплекс з гас- цініцай. На раіу вуліц Суворава і Талстога — кавярню. На месцы старо- га завода заточных станкоў — бібліятэку з клубам. На Успенскай горцы планавалася пабудаваць тэрасы, уздоўж берага — пешаходныя дарож- кі. На вуліцы Суворава — Дом мадэляў, моладзевыя клубы. На вуліцы Урыцкага — вышынны жылы будынак. Вакол цэнтра планавалася зра- біць кола ііаркаў. Парк Фрунзэ — рэканструяваць. Падняць узровень вады ў Віцьбе на метр. Зрабіць тут зоны адпачынку, дзіцячыя пляцоўкі. Запланаванае на пачатку 1970-х г. чаепсова зроблена толькі ў нашы дні. Так, узровень вады ў Віцьбе паднялі, рэчышча добраўпарадкавалі, як і схілы Успенскай горкі Праўда, цяпер замест бібліятэкі і клуба на ёй аднавілі Прачысценскі сабор. Як і на раіу Талстога і Суворава — замест кавярні аднавілі на старых падмурках Уваскрасенскі храм. ФІНАНСАВАННЕ Калі ідэю святкавання падтрымалі ў Мінску, першы сакратар ЦК КПБ П. Машэраў пралабіраў яе перад ЦК КПСС . Савет міністраў БССР падрыхтаваў і накіраваў запіску ў Савет міністраў СССР. Вынікам яе разгляду стала даручэнне Прэзідыума Савета міністраў СССР ад 1.12. 1971 г. «Аб запісцы ЦК КПБ і Савета міністраў БССР у сувязі з 1000- годдзем Віцебска», у якім Дзяржплану СССР і Савету міністраў БССР было прапанавана прадугледзець у планах на 1973—1974 гг. асігнаван- ні на будаўніцтва аб’ектаў у Віцебску . 23 снежня 197І г. была зацверджана пастанова Савета міністраў БССР № 376 «Некаторыя пытанні падрыхтоўкі да 1000-годдзя г. Ві- цебска» , У мэтах правядзення першачарговьк работ Савет міністраў пастанаўляў: — Дабудаваць мост праз Дзвіну на аб’язной дарозе. — Міністэрству фін&нсаў вылучыць дадаткова 2 мян. рублёў у 1972 г. і да 2 млн. рублёў у 1973 і 1974 гг. — Дзяржплану БССР забяспечыць вылучэняе неабходных лімітаў на праекта-вышуковыя работы для добраўпарадкавання горада; уключьвдь у планы падрадных будаўнічых работ выкалаяне работ, прадугледжа- ных планам; дадаткова вылучыць фойДы на йтум і цэмент для выка- нання работ; прадугледзець у праектвх планаў на 1973 і 1974 гг. дадат- ковыя асігнаванні ў адпаведнасці з даручэннем ПрэзідЫума Савета мі- ністраў СССР ад 1 снежня 1971 г. (пратакол № 62) што да каттальных укладанняў для г. Віцебска. Агульны аб’ём будаўніча- мантажных работ на 1972-1974 гг. 1972 1973 1974 Па генеоальных дамовах Галоўнае ўпраўленне шашэйныхдарог прьі СМ БССР 3,3 млн. руб. 0,8 млн. руб. 1,5 млн. руб. 1, млн. руб. Папоамыхдамовах Міністэрства прамыс- ловага будаўніцтва 1,6 млн. руб. 0,4 млн. руб. 0,6 млн. руб. 0,6 млн. руб. Міністэрства сель- скага будаўніцтва 0,2 млн. руб. 0,2 млн. руб. Былі і іншыя формы прыцягнення сродкаў. Так, з нагоды падрых- тоўкі да святкавання віцебскі аблвыканкам хадайнічаў перад Саветам міністраў БССР аб дадатковым вылучэшгі сродкаў на будаўніцтва рэста- рана пры гасцініцы «Віцебек». На будоўлю былі аеранакіраваныя сродкі (100 тыс. руб.), асігнаваныя на будаўніцтва ўнівермага ў Мінсісу13. ПАДРЫХТОЎКА ДА СВЯТКАВАННЯ У сакавіку 1971 г. гарвыканкам разаслаў анкету, у якой прапанава- лася адказаць на пытанне «Што трэба зрабіць, каб горад стаў прыгажэй- шьш». Адказы паступілі больш як ад 20 тыс. грамадзян. Іх прапановы можна падзяліць на 2 блокі — правесці добраўпарадкаванне і стварыць новыя гарадскія аб’екты. Горад узору 1971 г. досыць істотна адрозніваўся ад Віцебска пачат- ку XXI стагоддзя, Напрыклад, з 226 вуліц і завулкаў Чыгуначнага раё- на працягласцю 108 км цвёрдае пакрыццё мелі 46 вуліц працягласцю 36 км. Улічваючы, што ў Віцебску на той час было 800 вуліц працяглас- цю 300 км, а плошча горада займала 6000 га, у горадзе назіралася еур’ёзная праблема добраўпарадкавання тэрыторыі. Яе вырашэннем занялася Пастаянная камісія па камунальнай. гаспа- дарцы і добраўпарадкаванні і архітэктурна-эстэтычная камісія гарадско- ха Савета дэпутатаў працоўных. Члены камісій вывучылі стан на мес- цах, унеслі канкрэтныя прапановы па добраўпарадкаванні і паляпшэнш архітэктурна-эстэтычнага выгляду горада. У першую чаріу было прапанавана правесці рамонт фасадаў, абна- віць колер забудовы цэнтральных вуліц. Зняць платы, рэкламныя шчы- ты, прыбраць кіёскі, газетныя аітрыяы. Прывесці ў парадак двары (хаатычна пабудаваныя ў іх гаспадарчыя пабудовы) і калгасныя рынкі. Правесці асвятленне вуліц, а ў цэнтры зрабііц» іх архітэктурна-дэкара- тыўнае асвятленне. Праводзіць адзіны санітарны дзень у горадзе ў пер- шую пятніцу месяца. Дзякуючы запьпу Пастаяннай архітэктурна-эстэтычнай камісіі на Дзвіне была ліквідавана база па нарыхтоўцы рачнога пяску каля моста па Смаленскай шашы. Гарвыканкам забараніў вьпрузку і складаванне пяску ў цзнтральнай частцы горада, а база перанесена ў раён Тарнага пасёлка . Ставілася пытанне аб ліквідацыі скідаў гаспадарча-фекаль- ных водаў у рэкі і ўводу 2-й чаргі аіульнагаспадарчых ачышчальных збудаванняў . Была пастаўлена задача палепшыць працу трэста ачысткі горада, аддзелаў унутраных спраў, домакіраўніцтваў, гарадской камунальнай гаспадаркі, ДАІ, разбіць пасты санітарнага кантролю, праводзіць рэй- ды чысціні, ажывіць работу вулічных і дамавых камітэтаў, вучыць жы- хароў горада культуры паводзін на вуліцах, у парках, скверах пры дапа- мозе друку, радыё і тэлебачання16. Значная нагрузка ўскладалася на прадпрыемствы. Толысі за другі квартал 1972 г. сіламі прадпрыемстваў і арганізадый было выканана работ па добраўпарадкаванні горада на 140 тыс. руб. За сродкі прад- прыемстваў Чыгуначнага раёна былі заасфальтаваны вуліцы Камса- мольская, Сівакова, Красіна, Кастрычніцкая17, ліквідавана 70 дробных кацельняў. Былі ўведзены адмысловыя заліковыя кніжкі. У іх адзначалася колькасць гадзін, адпрацаваных на грамадскіх пачатках на добраўпарад- каванні горада. У суботы, нядзелі, у выходныя і проста ў вольны час працавалі тысячы гараджан. Было выраблена 100 тысяч квіжак. На добраўпарадкаванні адпрацавана 390 тыс. чалавекадзён. Пазней праца на грамадскіх пачатках па добраўпарадкаванні горада магла стаць ар- гументам для атрымання кватэры. На працяіу таго ж 1972 г. было высаджана 1,5 тыс. дрэваў, 18,5 тыс. кустоў. Для каардынацыі працы былі створаны штабы па добраўпарадка- ванні горада , быў распрацаваны план мерапрыемстваў на 1971 г. на 16 старонках. За кожным прадпрыемствам, установай, школай зама- цоўваліся абавязкі за ўласныя сродхі высадзіць дрэвы, разбіць кветні- кі, газоны, пакласці асфадьтава-бетоннае пакрыццё. Напрыклад, кра- ме «Дзіцячы свет» было даручана разбіць кветнік плоінчай 15 м2, па- садзіць 8 000 кветак. Кавярні «Сняжынка» — правесці штыкаванне глебы пад 'кветнік плошчай 120 м2, высадзіць 330 кветак. СШ № 10 — высадзіць 60 дрэваў. СШ № 2 — разбіць кветнік плошчай 80 м2, паса- дзіць 7000 кветак. Друкарнй брала абавязак зрабіць кветнік плошчай 120 м2, пасадзіць 7000 кветак, трэст сталовых і рэстаранаў — усталяваць 10 ваз-кветнікаў і 20 лавак, кінатэатр «Зеніт» — устанавіць 5 кветнікаў- скрыняў і 2 вазы, пасадзіць кветкі і высадзіць 7 дрэваў. Гарнізонны ўнівермаг меўся зрабіць газон і разбіць кветнік плошчай 20 м2, выса- дзіць 300 кветак . Пенсіянер А. Ласянкоў абяцаў высадзіць 5 дэкаратыўных дрэваў і да- глядаць іх. Ен заклікаў іншых наследаваць ягонаму прыкладу. Ад кіраўніцтва аўтапарка былі запатрабаваныя тлумачэнні, «чаму ў напіых трамваях і аўтобусах мы не чуем абвяшчэння прыпынкаў, адсутшчаюць плаяы маршрутаў руху транспарту, як гэта прынята ў ін- шых гарадах? Чаму аўтобусы, якія ідуць у парк па заканчэнні змены, не бяруць пасажыраў?» Прапаноўвалася (як гэта ўжо рабілася ў трам- ваі) выставіць указальнік руху ў парк і па шляху працягваць пера- возку пасажыраў . Цяпер гэта ўжо стала нормай, а на той час было новаўвядзеннем, за якое давялося змагацца. Акрамя будаўніцтва і добраўпарадкавання прадугледжваліся і свя- точныя мерапрыемствы. 1 ліпеня 1972 г. у Віцебск была запрошана вялікая група вядомых дэеячаў культуры з удзелам 3. Азгура, А. Бага- тырова, А. Бембеля, П. Броўкі, Г. Бураўкіна, У. Караткевіча, Е. Лось, А. Маўзона, М. Фрадкіна. Ім паказвалі горад, вадзілі на прадпрыем- ствы, каталі на параходзіку па Дзвіне, частавалі на банкеце ў парку «Мазурына», арганізавалі заггіс на абласной тэлестудыі. Марк Фрадкін паабяцаў напісаць песню пра Віцебск. Уладзімір Караткевіч — п’есу на гістарычную тэматыку з назвай «Набат», «Набатныя званы Віцебска», ці «Набат над Дзвіной» . У кастрычніку таго ж года ў горад прыяз- джала Лідзія Абухава . Яна невялікі час жыла ў Віцебску, вучылася ў СШ № 10. Пісьменніца марыла напісаць кнігу да 1000-годдзя Віцебска, праўда, калі ёй «створаць умовы і прымацуюць памочніка, які ведае гісторьпо горада і дасць ёй матэрыялы» . Адпаведныя ўмовы былі створаныя — яе пасялілі ў санаторыі «Лётцы», а сваімі матэрыяламі «падзяліўся» Міхаіл Рыўкін. Неўзабаве была напісана кніга дад назвай «Віцьбічы», якая была выдадзена вялізным накладам і адыграла пэўную ролю ў пашырэнні звестак пра гісторыю Віцебска. На жаль, прозвішча фактычнага сааўтара там не было. Да падрыхтоўкі святочных мерапрыемстваў прыцягваўся ўвесь пра- пагандысцкі апарат улады, у тым ліку радыё, тэлебачанне, друк. Такім грамадскім арганізацыям, як Таварыства аховы помнікаў, «Веды», было даручана праводзіць лекцыі аб гісторыі Віцебска. У 1972 г. Тавары- ства аховы помнікаў правяло 90 такіх лекцый, у 1973 г. — 50 . Зразу- мела, што асвятляўся ў асноўяым савецкі час, змест падэей трактаваўся згодна з прывцыпам партыйнасці. Падрыхтоўка да святкавання 1000- годдзя Віцебска не дужа адрознівалася ад падрыхтоўкд да святкавання іншых савецкіх святаў. Клубам віцебскіх прадпрыемстваў было даруча- на «правесці вечарыну адпачынку між цэхамі», «арганізаваць чытанне лекцый і дакладаў у клубах і цэхах», «Арганізаваць куток баявой сла- вы і стэнды ў бібліятэцы» і інш. Замест мерапрыемстваў, што маглі б паспрыяць распаўсюджанню ведаў па гісторыі і культуры старажыт- нага Віцебска, праводзіліся лекцьгі на тэму «Савецкая праграма міра — канкрэтная рэалістычная праграма аздараўлення міжнародных адно- сін», «Антьпсамунізм — тэрыторыя вырачаных», «Ударная праца савец- кіх людзей — зарука ўмацавання эканамічвай і абароннай магутнасці СССР» і інш. БАРАЦЬБА Ў ПРЭЗІДЫУМЕ ВС СССР 12. чэрвеня 1974 г. на імя 1-га сакратара ЦК КПБ П. М. Машэрава і старшыні Савета міністраў БССР Ціхана Якаўлевіча Кісялёва была накіравана дакладная запіска, у якой віцебскія кіраўнікі прасілі дазвол правесці святкаванне 30—31 жніўня 1974 г., а таксама хадайнічалі аб узнагароджанні горада ордэнам Кастрычнідкай рэвалюцыі . Дазволу прасілі і на тое, каб запрасіць на святкаванне дэлегацыі з саюзных рэс- публік СССР, а таксама ГДР і ПНР. Цікава, што на святкаванне за- прашаліся ўсе члены Палітбюро ЦК КПСС, у тым ліку Л. I. Брэжнеў і Ю. У. Андропаў, члены і кандыдаты ў члены Бюро ЦК КПБ, загадчыкі аддзелаў ЦК КПБ, міністры, начальнікі глаўкаў, былыя кіраўнікі воб- ласці і горада, дзеячы культуры, ганаровыя грамадзяне, героі Савецкага Саюза — ураджэнцы Віцебшчыны і іншыя. Спіс запрошаньгх на свята ганаровых гасцей уключаў першапачаткова 250 чалавек, а ўсяго 1134 чалавекі . Перад самым святкаваннем узнікла нечаканая праблема. У ліпені, на пасяджэнні сакратарыята Палітбюро Андрэй Паўлавіч Кірыленка, які быў адным з найболып уплывовых членаў (пры адсутнасці Міхаіла Андрэевіча Суслава выконваў абавязкі старшыні на пасяджэннях сакра- тарыята ЦК КПСС) выказаўся супраць прьшяцця пастановы аб святка- ванні 1000-годдзя Віцебска. Прычыны гэтага цяпер вызначьгць склада- на, але прыняцце канчатковага рашэння адклалі. Наш зямляк Уладзімір Ігнацьевіч Бровікаў27 патэлефанаваў першаму сакратару віцебскага аб- кама КПБ Сяргею Міхайлавічу Шабашову і паведаміў аб гэтым. Першы сакратар гаркама В. Міхеяьсон быў на той час у адшгаынку, таму С. М. Ша- башаў у тэрміновым парадку накіраваў у Маскву Іосіфа Навумчыка. Разам з У. I. Бровікавым яны сталі працаваць над даведкай, якая на новым пасяджэнні Палітбюро пераканала б яго членаў у патрэбе свят- кавання 1000-годдзя ВІцебска. Запіска была падрыхтавана на 2 старон- кі. Першая ўключала кароткую інфармацмю пра гісторыю Біцебска і ар- гументацыю, чаму варта святкавадь такую дату. Яна пачыналася слова- мі «Як устаноўлена...»28, Другая старонка — праект пастановы сакрата- рыята палітбюро; праект пастановы палітбюро; праект указа прззідыу- ма Вярхоўнага Савета СССР. Цікавы факт: Іосіф Навумчык настаяў, каб у тэкст быў уключаны факт, што сустракаць вызваліцеляў 26 чэрвеня 1944 г. выйшла толысі 118 чалавек (пры тьш, што даваеннае насельніцгва складала 180 тысяч чалавек)29. Машыністка, якая друкавала даведку, не магла паверыць, што насельніцтва такога буйнога горада магло ска- раціцца так катастрафічна. I была вельмі ўражана тым, што такія ліч- бы аказаліся праўдзівымі. Магчыма, гэты факт зрабіў уражанне, і на дрзггім слуханні сакратарьгата Палітбюро пастанова аб святкаванні 1000- годдзя Віцебска была прьпіята беэ дапрацовак. СВЯТКАВАННЕ Святкаванне праходзіла ў канцы лета — пачатку восені. Але фактыч- на яно пачалося 30 чэрвеня 1974 г.®°, калі адбылося святочнае адкрыц- цё мемарыяльнага коміхлексу ў гонар савецкіх воінаў вызваліцеляў, партызанаў і падпольшчыкаў Віцебшчыны (архітэктар Юрый Шпіт, скульптары Б. Маркаў, Я. Печкін). На святкаванне прыехала больш за тысячу ветэранаў, каля 40 генералаў. Быў пісьменнік Уладзімір Карпаў, які ў гады вайны служыў разівД,ІЬІкам і атрымаў званне Героя Савец- кага Саюза за баі пад Відебскам. 3 25 жніўвя па 1 верасня іф«одзіла юбілейнае свята масгацтваў. У яго межах былі арганізаваны выстава «Віцебск у творчасш беларускіх мастакоў», рэспублікансхая выстава кшгі, фотавыстава «Віцебск учора, сёння, заўтра», свята самадзебвага мастацтва. 28 жніўня 1974 г. быў выдадзены Указ Прэзідыума Вярхоўнага Са- вета СССР аб узнагароджанні г. Віцебска «за поспехі ў выкананні пла- наў 9-й пяцігодкі, а тахсама ў сувязі з 1000-годдзем» ордэнам Працоў- нага Чырвонага Сцяга (першапвчатковаі як мы памятаем, планавалася ордэнам Кастрычніцкай рэвашокьп). 29 жшуня ў драматычным тэатры адбылася прэм’ера п’есы Ул. Караткевіча «Званы Віцебска». 30 жніўня — 1 верасня адбыліся святочныя мерапрыемствы: маса- выя шэсці да помнікаў і браокіх могілак савецкіх воінаў, партызан і падпольшчьпсаў, выступы самадзейных і спартыўна- мастацкіх калекты- ваў, марш-парад духавых аркестраў, тэатралізаваныя прадстаўленш. Упершыню было арганізавана воднае свята. Яно адбылося каля Кіраў- скага моста 31 жніўня і мела назву «Віцебскія агш». (Згодна з летапісам, менавіта каля сутокі Віцьбы квягіня Вольга прыплыла па Дзвіне на ладдзі ў месца, з якога вырас горад. Цяпер гэтае свята стала традыцый- най часткай святкавання Дня горада.) На адмысловай платформе было спалена пудзіла «эксплуататара», вайсковы аддзел фарсіраваў раку, за- тым спалілі пудзіла Гітлера і пудзіла «імперыяліста» . Увечары адбыў- ся феерверк. 31 жніўня прайшоў святочны мітынг з ускладаннем кветак. У шэсці святочнай калоны ад плошчы Леніна да плошчы Перамогі ўзялі ўдзел 20 тысяч чалавек. На адмысловых аўтамабільных платформах былі прадстаўлены інсцэніроўкі з гісторьгі горада. У тэатры імя Якуба Кола- са адбылося ўрачыстае пасяджэкне Віцебскага гарсавета, прадстаўнікоў партыйных і грамадскіх арганізвцьш, вайскоўцаў Савецкай Арміі, гас- цей, на якім выступіў перпгы сакратар ЦК КПБ П. М. Машэраў. На ім ён уручыў гораду ордэн Пряттпўнага Чырвонага Сцяга. На мерапрыем- ствах прысутнічала 150 ганаровых гасцей, у ім бралі ўдзел дэлегацьп Мінска, Смаленска, Пскова, Каўнаса, гарадоў Украіны, Прыбалтыкі, з Франкфурта-на-Одэры (ГДР), Зялёнай Гуры (ПНР), ветэранскія арга- нізацыі частак і злучэнняў, якія ўдзельнічалі ў вызваленні горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, творчыя і шшыя аргашзацьп. Увечары на Летняй эстрадзе адбыўся канцэрт ансамбля «Песняры». М. С. Рыўкін А. Л. Аляксееў Выгляд плошчы Перамогі з вьшіыні помніка вызваленню. Фота з асабістага архіва I. А. Навумчыка Добраўпарадкаванне плошчы Перамогі. Пачатак 1970-х гг. Фота з суполкі «Таямніцы Віцебска», НІ1;р://ук.соіп/1ауатпісу_уісеЬзка У К А 3 Плошча Перамогі. Сярэдзіна 1970-х гг. Фота Б. Беленькага ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР АБ УЗН АГАРОДЖАННІ ГОРАДА ВІЦЕБСКА ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА За вя.іікія поспехі, дасягнутыя працоунымі горада ў гасгіадарчым кудыурныч будаўніцтве, і ў сувязі з ІООО-годдзем з часу заснавання С'знагародзіііь ГОРАД ВІЦЕЬСК ордэнам ПРАЦОУНАГА Ь ВОНЛГА СЦЯГА. я ^ гггр Стапшыня Прэзідыума Віфіоўмага С«вста ссск М ПАДГОРНЫ. Сякпэтар Прмідыумя В*рхо*нага Савста СССР М. ГЕАРГАДЗЕ. Наскм. Нрл« ’ь ;8 ЖЙІ\НЯ 1074 г. Выгляд на вул. Леніна з боку Віцьбы. Пачатак 1970-х г. М. С. Рыўкін і А. Л. Аляксееўу Віцебску Б. А. Рыбакоў Выгляд на вул. Леніна з дома з рэстаранам «Аўрора». Пачатак 1970-х гг. Указ аб узнагароджанні Віцебска ордэнам Працоўнага Чырвонага сцяга. Газета «Віцебскі рабочы» Земляныя раскопкі на месцы будаўніцтва новай прыбудовы дабудынкаўнівермага. 1974г. Фота з асабістага архіва Г. В. Штыхава Ускладанне кветак на плошчы Перамогі. 30 чэрвеня 1974 г. Фота з асабістага архіва I. А. Навумчыка Агульны здымак удзельнікаў святочнага пасяджэння 30 жніўня 1974 г. Фота з асабістага архіва I. А. Навумчыка. Справа налева: Невядомы; Пятрусь Броўка; пісьменніца Лідзія Абухава; старшыня аблвыканкама Пётр Яфімавіч Рубіс; 1 -ы нам. старшыні Савета міністраў БССР Уладзімір Фёдаравіч Міцкевіч; 2-і сакратар ЦК КПБ Аляксандр Нічыпаравіч Аксёнаў; 1 -ы сакратар віцебскага гаркама КПБ Валянцін Васілевіч Міхельсон, 1-ы сакратар ЦК КПБ П. М. Машэраў; старшыня віцебскага гарвыканкама Валянціна Паўлаўна Вараб'ёва; Уладзімір Елісеевіч Лабанок; сакратар віцебскага абкама КПБ па сельскай гарпадарцы Іван Арцёмавіч Шыбека; 1 -ы сакратар Кастрычніцкага райкама Ганна Нічыпараўна Лявонава; кіраўнік прафсаюзаў Мінін; Сабельнікаў. Другі рад: Ліўшыц, кіраўнік меліярацыі; генерал-палкоўнік, камандзір Беларускай ваеннай акругі Міхаіл Мітрафанавіч Зайцаў; нам. старшыні гарвыканкама Іван Пятровіч Алейнікаў; 1 -ы сакратар Сенненскага райкама КПБ Радзецкі; 1 -ы сакратар Бешанковіцкага райкама КПБ Таран; 1 -ы сакратар віцебскага абкама КПБ Сяргей Міхайлавіч Шабашоў; у 3-м радзе 6—8-я — дэлегацыя ад горада Франкфурт-на-Одэры; у 6-м радзе 6-ы справа — Генадзь Бураўкін МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ БССР БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР імя ЯКУБА КОЛАСА Уладзімір КАРАТКЕВІЧ Тысячагоддзю горада Віцебска арысвячаецца гэты спехтакль ЗВАНЫ 8ІЦЕБСКА Гістарычныя падзеі XVII стагоддзя Рэжысёр — дыпламант Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута Валерын МАЗЫНСКі _ Спектакль у 2-х частках Дзеюныя асобы і аыканаўцы: ЛЕУ САПЕГА. аялікі канц- лер Беларусі і Літвы . . пар. зрт. БССР, лаў- рэат Дзярж. прэміі БССР Ф. I. Шмакаў АЛЯКСАНДР КОРВШ- ГАНСОУСКІ, рэфс-рэкда- рый і дзяржаўны сакратар Вялікага княства. члек ка- міса|>скага суда . . . ГАРАДЖАНКІ СЗЯТКА8АННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ 8ІЦЕВСКА Ў 1974 Г. Мастак Аляксандр САЛАУЕУ Я. Я. Фалевіч нар. арт. БССР 3. і. Канапеяька Г. А. Каралькоаа Т. Р. Мархель A. Ф. Мельдзюкова Л. А. Нісневіч Т. У. Ск&арцова B. К. СтарыкоеІч Т. I. Шапшалава ГАРАДЖАМК П. В. Бялевіч C. А. Казлоў С. Я. Кохан МЯШЧАНЕ, ГВАРДЗНйЦЬі. ВАРТА — зртысгы тэатра і дапаможны склад ічмОамл Загадчык мастацка-пасгаковачнай часткі Д. 1. Кургакаў Галоўкы -машыкют сцэны П. !• Сарокін Радыёімжынср А. М. Корсак Мастак па асвятленню Ю. А. Зінін Старіаы аакрййнічык мадвльер А. С. Шабашова Старшы мастак-бутафор П. Д. Балаакенка Старшы мастак-дэкаратар П. В. Чарнушын Старшы мастак-грымёр — заелужаны работнік ьультуры БССР Л. я. Звсздачотааа Старшы рэкаізітар Н. Я. Крупскза Загадчык стьляркага кэха А. М. Чіфкабрысаў Загадчык слясарнага «>ха Г. У. Бабіта Саекгакль вядзе Б. Я- КРУПСКІ Кампазітар Сяргей КАРТЭС АЯСНЕ 3 2014 Гллоўны рэіаіысір таатра — заслужаны дзеяч мастацтааў 6ССР, лаўраат Дзяржаўкай прэміі БССР С. С. КАЗІМІРОУСКІ СЦЯПАН ПАСІЕРА. заза- датар паўстанкя .... засл. арт. БССР У. А. Куляшоў А. I. Лабанок і/ МАРЦЬіЯН РОПАТ, а'эхааы мечнікаў-збраяроЎ . . . АНТОНІ-ЛАР ВОЛЬХА, за- П. А. Ламам латых спраў майстра В. П. Зубараўі/ і А. П Фралоў БАГУСЯ ДАНЕЛЬ, дачка аднаго з віцебскіх радцаў В. А. Бяззубааа ! ПРУЗЫНА ТРАПАШКАВА. і яе «мамка» Л і. Пісарава ! ЕУГА БАБУК, былая паьіту- І ! ха, нзпоўюродка .... в. Ц. Петрачкоаа 1 ІЛЯ, <саавольны» поп нар. зрт. БССР I. А. Матусевіч ; ВАСКАМАТЫС | сябры Б. Я. Крупскг 1 Всльхі і СЫМОННЕША ) Ропата Я. П Шыяіла ЯНКА ГУЖНІШЧАУ, зва- | нар Б. I Сяўко ІАСАФАТ (ІЗАХВАТ) КУН- | ЦЭВІЧ, уніяцкі арцыбіс- ' >• 'І куп Полацкі і Віцебскі . . засл. арт. БССР У. А. Куляшоў ўГ Лабанок ' А. 1. СТАНІСЛАУ КАСІНСКІ, еэуіт, духоўнік Кунцэвіча . засл. арт. БССР Т. А. Кокштыс ; ПАЛІКАР АБРАПМОВІЧ, тысячяік, галава • біскуп- | скай «гаардыі» .... в. М Дашкевіч ДАРАФЕЙ, даверапая асоба ■ Кунцэвіча л 1. Трушко ПАПА РЫМСКІ .... нар. арт. БССР А. м. Трус кАРПЛЬ ПОЛЬГНГІ А а Афіша спектакля' «Званы Віцебска» Марка, выпушчаная ў гонар святкавання 1000-годцзя Віцебска Фрагмент святкавання на отадыёне «Дынама». 1974 г. Фота з асабістага архіва і. А. Навумчыка Юбілейны медальу гонар 1000-годдзя Віцебска ВМТЕБСК Фрагмент святкавання. Княгіня Вольга з дружынай. Фота з суполкі «Таямніцы Віцебска» Выступленне «Песняроў» на святочным канцэрце ў 1000-годдзя Віцебска Значкі да юбілею горада На здымкнх: Злсза — эначні уапода п*' ннлагічнага лбсга.Нівяннй, смраоа — вытворча- тэхнічнага аб’яднапмя «МаналІг>. 1974 г. Ш ВІЦКЬСК/ РЛБОЧЫ ф Значкі да юбілею горада ЗНАЧКІ ДА ЮБІЛЕЮ ІГц<Уш: пргдпріі ітіі* іінт ч <\др*х (ііШірннтіЛЯ' ІППЛ Л4Т У ішл» гл юЎ аіцгьску ВІЦЕБСК УІТЕВЗК ВНТЕБСК ШІТЕВЗК Кіці'хс прло'р ічтмл <ты х«т* нлткюі* Канверт у гонар святкавання 1000-годдзя Віцебска Фотаальбом «Віцебск», выдадзены ў гонар 1000-годдзя Святочны канцэрт быў вытрыманы ў духу пануючай ідэалогіі. Ёв пачаўся з выканання зводным хорам песні «Велічальная Відебску», а скончыўся спевамі кантаты Б. Рунова «Вялікай партьгі — слава!» . Вось цытата з яго сцэнарыя: Заслона адкрываецца. На задніку сцзны выява шкатулкі. У ле- вым кутку герб Віцебска. Танцоры выконваюць харэаграфічную карцінку «Віцязі», «Станаўленне крэпасці Віцебск». Вядучы: «Ра- шэннем князя віцебскага (вылучана мной. — Аўт.) утворана дру- жына для абароны крэпасці віцебскай ад варожых набегаў» . КОЛЬКІ КАШТАВАЛА ВІДОВІШЧА? Захаваўся каштарыс выдаткаў на падрыхтоўку да свята 1000-годдзя горада і 30-годдзя яго вызвалення: Афармленне горада 90 тыс. Аплата сцэнараў і іх ажыццяўленвя (святочнае шэсце, адкрыццё помніка, святы песні і танца, спартыўнае і воднае свята) 30 тыс. Арганізацыя і правядзенне конкурсаў, заахвочванне пераможцаў (самадзейнага мастацтва, аматарскіх фільмаў, выяўленчага мастацтва) 4 тыс. Канцэрт і арэнда памяшкання 3 тыс. Друкарскія выдаткі (афішы, планы, запрашэнні і інш.) 2,5 тыс. Набыццё памятных медалёў 1500 шт х 2 руб 3 тыс. памятных значкбў 1500 шт х 1 руб 1,5 тыс. сувенірных тэчак 1500 пгг х 8 руб 12 тыс. альбомаў, кніг 1500 шт х 3 руб 4,5 тыс. Прыём дэлегацый з іншых гарадоў і раёнаў 350 чалавек х 36 руб. 12,6 тыс. Экскурсійна-транспартныя расходы 7,5 тыс. Набыццё кветак і вянкоў Афіцыйная вячэра 350 х 8 руб. Усяго 4 тыс. 2,8 тыс. 177,4 тыс. рублёў Для параўнання традыцыйнае тэатралізаванае свята «Снежны фес- тываль-74», якое, дарэчы, таксама было прымеркаванае да 1000-годдзя Віцебска і праведзена 24 лютага 1974 г. у парку Мазурьша, каштавала гарадскому бюджэту 645 рублёў ®. Гэтыя лічбы — толькі непасрэдныя выдаткі на святкаванне, якое адбывалася некалькі дзён у канцы жніўня — пачатку верасня 1974 г. Але ж былі і схаваныя. Напрыклад, пражыванне і сілкаванне ганаровых гасцей ускладалася на бюджэты прадпрыемстваў. Напрыклад, Е. Лось і М. Фрадкін былі замацаваныя за фабрыкай «Сцяг індустрыялізацыі», Г. Вураўкін і Р. Барадулін — за «Чырвоным кастрычнікам», П. Броўка і А. Багатыроў — за заводам тэхналагічнага абсталявання, А. Вярцінскі і А. Бембель — за заводам імя Камінтэрна, А. Маўзон і М. Савіцкі — за дывановым камбінатам, В. Бькаў і У. Караткевіч — за шоўкавым камбінатам . ШТО БЫЛ0 ЗРОБЛЕНА Былі адкрыты мемарыяльны комплекс «Пераможцам» і ансамбль плошчы Перамогі («Мемарыяльны комплекс у гонар савецкіх воінаў-вы- зваліцеляў, партызан і падполыпчыкаў Відебшчыны»), стварэнне якіж бьшо запланавана яшчэ планам 1947 г. Яно каштавала гораду 3 млн 566 тыс рублёў , Імёны славутых асоб, звязаных з Віцебскам, былі ўга- нараваныя ўстаноўкай мемарыяльных дошак, прысвечаных іх памяці. Да святкавання 30-годдзя Перамогі віцебскі гарвыканкам прыняў ра- шэнне аб надзяленні кватэрамі ўсіх удзельнікаў вайны, якія стаялі на чарзе па паляпшэнні жыллёвых умоў. Да 1 ліпеня 1974 г. яно было вы- канана. Кватэры атрымаш каля 150 ветэранаў. Але да новага года чарга зноў стала такой самай, бо ў горад актыўна пачалі праязджаць ветэраны з наваколляў. Была праведзена навуковая канферэнцыя, прысвечаная 1000-годдзю Віцебска . Выдадзены гісторыка-эканаыічны нарыс «Віцебск», каляро- вы і чорна-белы альбомы пра Віцебск, кніш Ільі Сямёнавіча Клаза «Пу- тешествие по Двине», 17 буклетаў пра героях-суродзічах, ганаровых гра- мадзянах горада, а таксама турыстычная карта-схема горада. Да юбілею была перавыдадзёна кніга «Внтебское подполье», фактычна, кандыдац- кая дысертацыя Ніны Іванаўны Дарафеенкі, абароненая ў 1967 г. У форме кнігі яна першы раз убачыла свет у 1969 г., а дзякуючы юбілею ў 1974 г. . выйшла большым накладам. Да юбілею прайшла выстава «Віцебск у творчасці беларускіх мастакоў», створаны хранікальна-дакументальныя фільмы «Горад майго лёсу» і «Віцебскія ўзоры», а таксама спецвыпуск кіначасопіса «Савецкая Беларусь». Віцебску прыевяцілі сваю «Урачыстую ўверцюру» Анатоль Багаты- роў, песню «Сталіца абласная» Марк Фрадкін, а таксама Станіслаў Паж- лакоў, Уладзімір Сарокін, Іван Дзяржынскі, Гаўрыіл Юдзін і іншыя. Ме- навіта да святкавання 1000-годдзя Віцебска У. Караткевіч напісаў п’есу «Званы Віцебска», у якой адлюстраваў падзеі антыўніяцкага паўстання віцяблян 1623 г. Была выраблена адпаведная сувенірная і памятная прадукцыя: паш- тоўкі (ці не першыя ў гісторыі савецкага Віцебска?), юбілейныя маркі і канверты, значкі, медалі, этыкеткі, сувеніры. Напрыклад, 9 відаў знач- коў былі выраблены на заводзе тэхналагічнага абсталявання, 4 — на вы- творчым аб’яднанні «Маналіт» . На іх былі змешчаны выявы «брэнда- вых», кажучы сучаснай мовай, аб’ектаў тагачаснага Віцебска: помніка Леніну, трамвая, ратушы, манумента на плошчы Перамогі, помніка 1812 г. на Успенскай горцы, будынка ветэрынарнай ажадэміі, панарамы Кіраўскага моста, ліхтара на тым самым мосце. На адным значку была нават змешчана выява Пагоні як элемента герба горада. Было некаль- кі сюжэтаў, якія адлюстроўвалі храналагічныя падзеі — «Віцебск: 1000 (974—1974)»; «Віцебск 1941—1944». Практычна ўсе сюжэты аздаблялі- ся арнаментам са сцяга БССР. Некаторыя значкі былі вырабленыя са шкла, некаторыя з метала. Быў падрыхтаваны настольны медаль, аў- тарам якога стаў Станіслаў Кампанічэнка . Няпэўнасць з датай заснавання Віцебска выклікала значныя прабле- мы для арганізацыі святкавання. Напрыклад, з дырэкцьгі па выданні і экспедыцыі знакаў папгговай аплаты (Масква) прыйшоў адказ, што пра- дугледжана выданне паштовай маркі, прысвечанай 1000-годдзю Віцеб- ска і выраб штэмгіеля спецгашэння. Аднак, паведамляем, што ў даведніку, выдадзеным Аддзелам па пы- таннях работы Саветаў Прззідыума Вярхоўнага Савета і Вялі- кай Савецкай энцыклапедыі датай утварэння г. Віцебска лічыц- ца 1021 год. У сувязі з гэтым праводзяцца неабходныя ўдакладнен- ні і кансультацыі . Тым не менш, марка, прысвечаная 1000-годдзю Віцебска, усё ж такі выйшла. Менавіта дзякуючы падрыхтоўцы да святкавання горад іатрымаў са- вецкі варыянт герба. У 1969 г. выканкам гарадскога Савета дэпутатаў разам з прэзідыумам гарадскога аддзялення Беларускага добраахвотна- га таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры (БДТАПГіК) пра- вялі конкурс на герб Віцебска (рашэнне № 61 ад 27.02. 1969 г.), які б ад- люстроўваў «гераічнае мінулае горада, заснаванага ў 1021 г., горада воіна, горада-творцы»43. Вынікі былі падведзены ўвесну 1972 г. Першае месца і прэмія 150 руб. была прысуджана эскізу, які быў распрацаваны мастаком Георгіем Пятровічам Кісялёвым. Другое месца і прэміі 100 руб. былі прысуджаны эскізам гербаў, распрацаваных мастакамі Генадзем Фёдаравічам Шутавым і Б. Н. Кузьмічовым. Трэцяе месца і прэмія ў 80 руб. — эскізам А. Е. Хадкевіча . Толькі што зацверджаны герб выглядаў так: на шчыце ў залацістым абрамленні, які дзяліўся на дзве часткі, у ніжняй частцы змяшчалася вы- ява вершніка на зялёным полі. Уверсе, на чырвона-зялёным полі — вы- ява сярпа і молата. У цэнтры — тры блакітныя палосы, якія раздзяля- ліся залацістымі лініямі. Чырвоная і зялёная палосы сімвалізавалі дзяр- жаўныя сцягі СССР і БССР. Тры блакітныя палосы — рэкі Дзвіну, Віць- бу і Лучосу, на якіх знаходзіцца Віцебск. Зялёная паласа ўнізе — сімвал вясны, урадлівасці і абноўленага жыцця; залацістае абрамленне герба і раздзяляльныя палосы — дабрыня, гасціннасць і шчырасць беларускага народа. Вершнік, які скача, — традыцьій- ны элемент усіх папярэдніх гербаў горада Віцебска, які сімвалізуе мужнасць і гераізм гараджан, гатоўнасць да самаахвярнай аба- роны Радзімы. Серп і молат — сімвал непарушнага саюза пра- цоўнага класа сялянства — асновы Савецкай дзяржавы . Як бачьш, нягледзячы на савецкую стылістыку, герб меў гістарыч- выя карані і ўтрымліваў «Пагошо». На жаль, Мінск не зацвердзіў герб горада. V 3 падрыхтоўкай да святкавання звязана і з’яўленне слова для акрэс- лення жыхароў Віцебска — «віцьбічы». Калі старшыня аблвыканка- ма Пётр Яфімавіч Рубіс заўважыў лозунг «Віцябляне! Годна сустрэнем 1000-годдзе горада», слова «віцябляне» падалося яму немілагучным. У прамове П. Машэрава, значная частка якой пісалася спецыяліс- тамі віцебскага гаркама, выкарыстоўвалася слова «віцябчане». Віцебскі паэт Д. Сімановіч прыгадвае ў сваіх дзённіках, як У. Караткевіч пра- паноўваў: «Не віцябчане і не віцябляне — віцьбічы»46, Пазней форма «віцьбічы» і замацавалася. Яна адлюстравана нават у назве гарадской газеты. СЯРОД НЕРЭАЛІЗАВАНЫХ ЗАДУМАЎ Не ўсё з запланаванага атрьмалася зрабіць. Планавалася, што бу- дзе ўзведзены помнік вядомаму суродзічу — гёнералу Л. Даватару. Не ўбачыла свет панарама вызвалення Віцебска каля кінатэатра «Перамо- га», пра якую ёсць урыўкавыя звесткі, але, на жаль, немагчыма пакуль адшукаць дэталяў. Пятрусь Броўка прапанаваў да святкавання стварыць літаратурны музей*7. Д. Сімановіч, які на той час працаваў загадчыкам аддзела на Віцебскім абласным тэлебачанні, уключыўся ў збор экспанатаў: кніг, артыкулаў, рэчаў, аўтографаў віцебскіх літаратараў. Першапачаткова вырашана было зрабіць яго ў Віцебскай абласной бібліятэцы імя У. I. Ле- ніна. Але кіраўніцтва бібліятэкі паставілася да такой ідэі без эвпузі- язму. Урэшце, музей паўстаў у Віцебскім дзяржаўным педагагічным ін- стытуце імя С. М. Кірава пазней, у 1980 г.43. М. Рыўкін прапаноўваў падрыхтаваць і выдаць кнігі аб славутых ураджзнцаж Відебшчыны, гербах горада, аб гарадской ратушы. На жаль, гэтыя праекты не ажыццявіліся і дасюль. Мог і не выйсці гісторыка- эканамічны нарыс «Віцебск». Рэцэнзію на яго аб’ёмам 11 старонак на- пісаў доктар гістарычных навук Зіновій Юр’евіч (Залман Юдавіч) Ка- пыскі. Вывад быў такі: Кніга яшчэ не змяшчае гістарычна-эканамічнага нарыса... У гэткім выглядзе кнігу нельга прьізнаць завершанай, гатовай да выдання49... С. 17. Уяўленне аб Беларусі. як «древнем достояншл Россші», часткі «русской земліі» пакінулі нам манархісты, кле- рыкалы ў шляхецкай гістарыяграфіі. Ці варта ісці за імі ?... С. 18. Дзеянні атамана Дубіны цяжка падвесці пад паняцце паў- стання50. Сумняваўся Капыскі і ў тым, што віцебская арганізацыя РСДРП рэ- гулярна праводзіла сходы рабочых. «С. 44. Цяжка ў гэта паверыць, калі ўлічваць нелегальнае становішча, паліцэйскія пераследаванні». Заўвагі, указаныя ў рэцэнзіі, былі ўлічаны толысі часткова. Шмат ідэалагічных штампаў засталіся на яе старонках. 1000-гадовы юбілей не ўдалося «прапіярыць» у папулярньш на тыя часы маскоўскім часопісе «Новый мнр». На прапанову В. Міхельсона аб размяшчэнні ў выданні адпаведнага артыкула старшы рэдактар адцзела публіцыстыкі В. Елісеева адказала: рэдакцыя ахвотна друкуе артыкульі кіраўнікоў партыйньіх арганізацый, звязаныя з раепрацоўкай праблем эканамічнага і ідэалагічнага характара... артыкулы ці нарысы, прымеркаваныя да юбілеяў гарадоў, «Новыймыр» звычайна не дае61. Да святкавання Віцебская ратуша магла быць адноўлена ў аўтэн- тычным выглядзе другой паловы XVIII ст. са спічастай, гатычнай вежай з флюгерам. Па шэрагу прычын ён не быў ажыццёўлены. Выгляд яе не змяніўся. Замест гатычнай вежы і цяпер наверсе знаходзіцца ратонда. Праўда, цяпер, замеет пяціканцовай зоркі на макаўцы ўстаноўлены флюгер з легендарнай датай заснавання горада. Реценаая 3. Ю. Копысского ва техст юшш «Внтебск. Нсторшсо-экономнчесюш очерк». 287 егранвц мапшнопшш. С. 10—11. Захоўзеецца ў асабістьім архіве А. I. Навумчыка ш Маецца на ўвазе казадкі атаман Дубіна, атрад якога разрабаваў горад, калі ішоў у паход у ІІрыбалтыку. У1602 г., калі атрад вяртаўся, жыхары Відебска разбілі атрад, а атаыана пасадзілі на палі на Заручаўскіх Валатоўхах. 61 Адказ на ліст Міхельсона В. В. Захоўваеада ў асабісгьш архіве А. I. Навумчыка. ДПГМР Я 9П14 1ЯЧ «ТЫСЯЧАГАДОВЫЯ» НАЗВЫ /■ ГІадрыхтоўка да святкававгня істотна паўплывала на тапашміку го рада. Да юбілею былі нерайменаваны 18 вуліц і 2 плошчы. Атрьшалі назву 7 мастоў і 2 пуцеправоды. З’явіліся новыя плошчы — Пераыогі $ Пралетарская. Атрымалі назву масты горада: Кіраўскі, Імя Блахіна, імц Шмырова, Пушкінскі, Кастрычніцкі, Баўманскі, Юбілейны і пуцеіфа- воды: па Гарадоцкай шашы — Полацкі, па вул. Някрасава — Металіс- таў, па вул Горкага — Першамайскі52. Дарэвалюцыйнаму мінуламу былі прысвечаны тольхі дзве назвы; Замкавая і дзекабрыста Івана Гарбачэўскага, які з 1808 па 1817 г. вучыў- ся ў Віцебскай гімназіі. Іншыя атрымалі назвы ў гонар ініцыятараў уста- лявання савецкай улады ў горадзе: Акіма Берасценя, Міхаіла Еўсцігне- ева, Іосіфа Варэйкіса, камісара Крылова. Вуліцы 39-й, 43-й Армій, Карла Шрадара, Аляксандры Вінаірадавай, Сцяпаяа Вастрацова ўшаноўвалі ролю савецкіх. войскаў у вызваленні Віцебска ў 1944 г. Ленінградская, Пскоўская, Смаленская, Зялёнагурская, Маскоўскі праспект падкрэслі- валі пабрацімства з савецкімі і польскімі гарадамі. Каб не было блытан ны з Маскоўскім праспектам, Маскоўская вуліца была перайменавана ў вул. ГІрады. Вуліца Прамысловая атрымала назву першай жанчыны- касманаўта В. Церашковай. ★ ★ ★ Што ж атрымаў горад ад святкавання міфічнай даты? На гэтае пы- танне складана даць адвазначны адказ. 3 аднаго боку, гістарычная за- будова цзнтра горада, асабліва па вул. Леніна ад плошчы Свободы да вул. Савецкай, была зніпгчана. Быў знееены будынак педінстьггута (бы- лая Аляксандраўская гімназія). Але наўрад ці старасвецкая забудова за- хавалася б без правядзення святкавання. Вуліца Леніна ад моста праз Віцьбу да вуліцы Савецкай была вельмі вузкай. Каля вул. Маякоўскага ў час руху трамвая грузавыя аўтамабілі павінны былі саступаць дарогу. Вось тьшовы прыклад тагачаснага стаўлення да помнікаў даўніны: У вшпебского ЗАГСа на ул. Ленііна уродлыво вьісятся стены полуразрушенной церквы. До Октябрьской революціш Покровская церковь являлась форпостом велыкодержавной реакцші черносо- тенного союзарусского народа... В ней собыралысь банды черносо- тенцев ы решалы своы грязные дела... Неужелн ы к славному 1000- “Віцебскі рабочы. 1974. 22 студэ. летпнему юбнлею нашего города ее не уберутп с глаз долой нашей молодежы. Мы счытпаем, чтпо архытпектпору города надо серьезно подуматпь ы лыквіідыровагпь самый безобразный уголок нашего го- рода . Дзякуючы з’яўленню матэрыялаў (буклетаў, паштовак, значкоў, суве- ніраў), прысвечаных гістсрыі Віцебска, хай зболыпага і савецкан, віцяб- ляне зацікавіліся гісторыяй свайго горада. У ліпені 1973 г. завершана будаўнідтва мясакамбіната, пачата будаўніцтва тралейбуснага дэпо на 100 машьш. У жніўні 1973 г. уведзены ў эксплуатацыю Юбілейны мост праз Віцьбу. У лістападзе 1973 г. адбылося адкрыццё трамвайнага руху па маршруце пр-т Фрунзэ — вул. Гагарына, адкрыта Віцебская аблас- ная псіхіятрычная клінічная бальніца (пасёлак Віцьба), уведзены новы будьгаак педінстытута (арх. В. Зубаў, 3. Конаш, інж. Б. Міхлін). У 1973 пачалося будаўніцтва новага памяшкання ЦУМа. Гэты ж год — пачатак будаўніцтва моста праз Дзвіну. Віцебск, як і любы іншы горад, мае свае архітэктурна-культурныя маркеры. У кожнага часу яны свае. Знікненне любога з іх — гэта страта, з’яўленне новых — новая старонка гісторыі горада. Пад імі жывуць, яны падсвядома ўплываюць на гараджан, успрыняцце гасцей горада. У роз- ныя часы для Віцебска гэта былі гара Ламіха, Ратуша, Аляксандраўская гімназія, Мікалаеўскі сабор, помнік 1812 г., «сіні» дом, вакзал, плошча Перамогі і іншыя. 3 падрьіхтоўкай да 1000-годдзя горада з’явіліся но- выя архітэктурныя маркеры горада: плошча Перамогі і мемарыяльны комплекс у гонар вызваліцеляў, масты праз Дзвіну і Віцьбу, гасцініца «Віцебск», жылыя дамы на пр. Чарняхоўскага (16-павярховы дом, адзін з першых вышынных жылых будынкаў у рзспубліцы) з кінатзатрам «Беларусь» і на вул. Леніна з рэстаранам «Аўрора» (вул. Леніна, 53, ця- пер «Паўночная сталіца»), дом з крамай «Дзіцячы свет» на Маскоўскім праспекце. Былі рэканструяваны вул. Леніна, Замкавая, праспекты Маскоўскі і Люднікава. На пачатку 1970-х гг. горад змяніўся і стаў такім, якім яго пабачылі наступныя пакаленні гараджан. Першыя тры паласы руху на Маскоў- скім праспекце, першыя падземныя пераходы, першыя ў горадзе святла- форы з бакавой зялёнай стрэлкай. Лозунг на будынку «Дзіцячага све- ту» — «Подвнг советского народа бессмертен», пад якім выраслі два пакаленні віцяблян, быў усталяваны ў 1974 г. Цэнтр горада амаль не змяняўся на працягу амаль 40 гадоў: толькі будаўніцтва ў сярэдзіне 1980-х гг. летняга амфітэатра трошку змяніла яго. Новая змена адбыва- едца з пачатку 2000-х г., калі быў адноўлены Успенскі сабор, ВаскрасеШ ская дарква, праведзена рэканструкцыя плошчы Перамогі і створаяі Алея воінскай славы, добраўпарадкаваны ўзбярэжныя Відьбы, Дзвіньг узведзены будынкі «Духаўскага кругліка», «Марка-сіці». ДАДАТКІ Новыя назвы на карце горада Старая назва Новая назва . > 1. Саратаўская Дзекабрыста Гарбачэўскага 2. Акруговая А. Берасценя 3. 1 -я Калектыўная ■ Шрадара 4. 2-я Прадзільная Сцяпана Вастрацова 5. Крылова Камісара Крылова 6. 2-я Суражская Варэйкіса 7. Шпітальная Еўсцігнеева 8. 1 -я Смаленская Смаленская 9. 3-я Сацыялістычная 39-й Арміі 10. 12-я Гарадоцкая Пскоўская 11. 17-я Гарадоцкая Вінаградавай 12. Нова-Астровенская Зялёнагурская 13. Маскоўская Працы 14. Ленінградская 43-й Арміі 15. Прамысловая Валянціны Церашковай-Нікалаевай 16. Смаленская шаша Маскоўскі праспект 17. Гарадоцкая шаша Ленінградская 18. Частка вул. Кірава (ад маста праз Дзвіну да плошчы Свабоды) Замкавая План работ па добраўпарадкаванні I будаўніцтве $ г. Віцебску з нагоды падрыхгоўкі святкааання 10ОО-годдзя (у тыс. рублёў) N9 п/п Найменаванне работ Аб’ём Кошту адзінках Прыблізны кошт Тэрмін вы- канання I. Капітальныя ўкладанні 1. Рэканструкцый вул. Леніна (ад вул. Савецкай да пл. Свабоды) 1000 п.м. 2000 м2 26,0 52,0 1973 г. 2. Знос дамоў па вул. Леніна 15 000 м3 8,0 120,0 1971 3. Добраўпарадкаванне схілаў р. Віцьба ўздоўж вул. Леніна (вул. Савец- кая — пл. Свабоды) з будаўніцтвам дарожак, тэрас і лесвіц 40 000 мг 20,0 800,0 1972-1973 4. Будаўніцтва ўмацаванняў берагоў р. Віцьба (на участку ад вул. Савецкая да пл. Свабоды) 3000 п.м. 90,0 270,0 1972—1973 5. Паглыбленне і расчыстка рэчышча р. Віцьба (на ўчастку ад вул. Савёц- кая да рэчышча) 27 000 м3 грунта, 1500 п.м. 0,40 1.1,0 1972-1974 6. Праект добраўпарадкавання схілаў, умацаванне берагоў р. Віцьба (на участку ад вул. Савецкая да пл. Свабоды) 10,0 1971-1972 7. Пешаходны мост праз р. Віцьба ад вул. Леніна да парка Фрунзэ 100 п.м. Праект. 3,0 Будаўн. 60,0 1971- 1973 8. Знос аднапавярховых дамоў уздоўж абодвух берагоў р. Віцьба (ад вул. Савецкай да пл. Сва- боды). Кошт вылучанай наўзамен жылой плошчы 4000 м3 6,0 24,0 1972 9. Рэканструкцыя дзіцячага парку (узбярэжная Дзвіны) 8 га 10000 80,0 1972-1974 10. Рэканструкцыя сквера каля помніка 1812 г. 0,5 га 12000 9,0 1972—1973 11. Добраўпарадкаванне Тэа- тральнай плошчы Пакр. 0,75 га Сквер 4 га 26,0 12 000 20,0 48,0 1972—1973 12. Рамонт фасадаў будынкаў вул. Кірава 20 000 м2 1,5 30,0 1972—1973 13. Выраб праекта панара- . мы вызвалення Віцебска (каля кінатэатра «Пёра- мога») 10 000 м3 25,0 1972-1973 14. Добраўпарздкаванне ўзбярэжнай (левага бера- га) ад Кіраўскага да Сма- ленскага моста — парк • 1000-годдзя горада 4,5 га 12 000 54,0 1973—1974 15. Умацаванне берагоў ракі Дзвіна мастамі, абодва берагі 2000 п.м 15,0 30,0 1972—1974 16. Будаўніцтва вул. Кірава (цяпер Замкавая, ад Тэа- тральнай плошчы да гш. Свабоды) 900 мг праезжая частка 26,0 25,0 1974 17. Будаўніцтва вул. 1-я Сма- ленская на ўчастку ад Смаленскай шашы да вул. Праўды 20 000 мг праезжая частка 20,0 480,0 У выніку па раздзелу «А» 309,9 2586,0 II. Добраўпарадкаванне 1. Добраўпарадкаванне 'пляцоўкіўмежах будаўніцтва жылога дома на 66 кв. па вул. Леніна, вул. ІІІчарбакова- Узбярэжная, Тэатральная пл. 1,5 га 100,0 15,0 1973-1974 2, Рэканструкцыя сквера на плошчы Свабоды 1,5 га 1000 15,0 1972 3. Добраўпарадкаванне Верхняй Узбярэжнай на Успенскай горцы і схілаў ад р. Віцьба да парка 3,5 га 14000 49,0 1972-1974 4. Праекгаванне і будаўніцтва помніка гене- ралуДаватару 50,0 1972-1974 5. Афармленне ўездаў у го- рад «Віцебску 1000 гадоў» 5,0 1974 6. Паглыбленне і расчыстка рэчышчаДзвіны 600 000 м3 2000 п.м. 0,4 240,0 1972-1974 7. Добраўпарадкаванне ўзбярэжнай ад гасцініцы «Дзвіна» да піўзавода 40 000 мг 15,0 600,0 1972-1974 8. Добраўпарадкаванне санітарнай зоны між Сма- ленскай шашой і заводам імя Кірава 30 000 м2 8,0 240,0 1972—1974 9. Рамонт і афарбоўка фасадаў будынкаў па вул.: 60000 м* 1.0 60,0 1972-1974 пр. Фрунзэ 22 000 м2 1.0 22,0 пр. Смаленская шаша 18000 мг 1,5 27,0 вул. Леніна 22 000 мг 1.5 33,0 пр. Чарняхоўскага 20 000 м2 1.0 20,0 вул. Горкага 10 000 м2 1.5 15,0 вул. Герцэна 10. Рэсгаўрацыя і рамонт фасадаў будынкаў 2500 м2 2,5 6,25 1973 кінатэатр «Кастрычнік» ЮОООм2 2.5 2,5 197'2 кінатэатр «Мір» 1000 м2 2,5 2,5 1972 кінатэатр «Усход» 8000 м2 3,5 27,0 1972 вакзал 800 м2 3.6 1,8 1972 драмтэатр 2,0 1972 капоны на Кіраўскім мос- 3500 м2 2,6 9,1 1972 це 3500 м2 2,6 9,1 1973 дом па вул. Даватара 2000 м2 2,5 5,0 1973 4-ы Камунальны па вул. 3000 м2 3,0 9,0 1973 Савецкай 3500 м2 3,0 10,5 1973 гасцініца «Савецкая» 4500 м2 2,0 9.0 1973 5-ы Камунальны (вул. Акадэміка Паўлава) 6-ы Камунальны (вул. Горкага) жылы дом па вул. Смален- ская шаша 11. Асфальтаванне праез- най часткі, тратуараў і добраўпарадкаванне зя- 110 000 м2 8,0 880,0 1972-1973 лёных зон вуліц 160 000 мг 8,0 1280,0 1972-1973 вул. Фрунзе 300 000 м2 8,0 240,0 1972—1973 вул. Гагарына 50 000 мг 8,0 400,0 1974 вул. Герцэна 30 000 мг 8,0 240,0 1972 вул. Горкага 75 000 м2 8,0 600,0 1973 вул. Акадэміка Паўлава 30000 мг 8,0 240,0 1973 вул. Касманаўтаў 10 000 м2 8,0 80,0 1973 вул. Савецкая вул. Гараўца У выніку па раздзелу «Б» 240,2 5445,75 Усяго: 550,1 8031,75 Мікалай ПІіэмр нарадзіўся ў 1971 г. Скончыў гістарычны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута імя М. Горкага. Кандыдат гістарычных навук. Працуе настаўнікам у Віцебскім кадэцкім вучылішчы. 3 Рыбакоў Б., Аляксееў Л. Калі быў заснаваны Відебск? // Помнікі гісторьгі і культуры Беларусі. 1971. Л6 2. С. 12—13 5 Зайцаў, Л. Якім быць цэнтру Віцебска // Віцебскі рабочы. 1973. 22 лют. 13 Тамсама. Ф. 1966, воп. 23, спр. 476. Распоряженне Совета мшшстров ВССР от 30 ніоня 1972 г. «О передаче Вятебскому облнсполкому кахштальвого вложення 100 тыс. ру- блей на стронтельство ресторана». 37 3 1972 па 1978 гг. працаваў у апараде ЦК КПСС інспектарям, памочнікам сакратара ЦК КПСС, намеснікам аагадчыка Аддзела арганізацыйна-партыйнай работы. 28 Івтэрв’ю аўтара з I. А. Навумчыкам 25.04. 2012 г. 29 Факт з рэпертуару савецкай прапагавды. Такая малая колькасць нзсельшцтва тлу- мачылася зверствамі акупантаў. Аднак пэўная чаегка гараджан паспела выехаць у звакуацыю ў савецісі тыл. Частка сышла ў вёску, бо там было прасцей пракарміцца, пэўная частка жыхароў горада з падыходам савецка-германскага фронту да горада была эвакуіравана немцамі ў тыл (у асноўным Слоніыіпчьша, Смаргоншчыва). 30 Горад быў вызвалены 26 чэрвеня, але гэты дзень выпадаў на сераду, таму святка- вакяе перанесена на нядзелю. 42 Ннформацвя днрекцнн по нзданню н экспеднрованню знаков почтовой оплаты Мн- ннстерства связа СССР. Захоўваецца ў асабістым архіве А. I. Навумчьша. 45 ДАВВ. Ф. 2222, воп. 4, сігр. 171, арк. 40. Апісанне эскіза герба г. Віцебска. 47 Броўка Пятрусь // Літаратурныя мясціны Беларусі. Краязнаўчы даведнік. Кніга пер- шая. Брэсцкая, Віцебская і Гомельская вобласці. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. С. 107. 48 Півавар М. Краязнаўцы Віцебшчыны другой пал. XX — пач. XXI ст. Мінск: Кнігазбор, 2010. С. 259. Журнал "Архе" №3 2014 г. ОРИГИНАЛ С ФОТО: https://yadi.sk/i/Sfc-CBxx3JvG4j *** рдіОЕыа МІКАЛАЙ ПІВАВАР Святкаванне тысячагоддзя Віцебска ў 1974 г. За алошнія гады цэнтр Віцебска моцна змяніўся. Рэканструява- ная плопгча Перамогі, адноўленыя Уваскрасенскі і Прачысцен- скі (Успенекі) храмы. Стала паўнаводнан Віцьба, а ў Дзвіны з'явілася ўзбярэжная. На Прачысценскую гару вядзе шырокая лесвіца. Каля Сіняга дома1, які стаў бэжавым, узведзены шкляныя піраміды «Марка-сіці». А калі цэнтр горада стаў «звыклым» для вока большасці жыхароў горада? Верагодней за ўсё, у пачатку 1970-х гг., і звязана гэта было са святкаваннем 1000-годдзя Віцебска. Мы не бярэм пад сумненне той факт, што ў 1974 г. святкавалася ле-гендарная падзея. Нас цікавіць, як дзякуючы гэтаму змяніўся горад: яго-ная архітэктура, добраўпарадкаванне, стаўленне жыхароў да яго гісторыі. У гэтым артывуле мы хочам высветліць, як узнікла сама ідэя свят-кавання. Мы паспрабуем параўнаць сцэнары тагачасных святаў і су-часныя мерапрыемствы на юбілеях горада, а таксама адказаць на пы- Мікалай ПІіэмр нарадзіўся ў 1971 г. Скончыў гістарычны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута імя М. Горкага. Кандыдат гістарычных навук. Працуе настаўнікам у Віцебскім кадэцкім вучылішчы. АВСНЕ 3 2014 151 МІКАЛАЙ ПІВАВАР тавне, ці Віцебск дасюль жыве спадчынай савецкага горада альбо ўсё ж змяяіўся ва працягу апошніх амаль сарака гадоў. Натуральна, што на ўсе пытанні, звязаныя са святкаваннем (колькі каштавалі ўрачыстасці, будаўніцтва, добраўпарадкаванне; якія змены адбываліся ў планах раз-віцця горада ў сувязі з імі; якія ідэі не ажыццявіліся; якія міфы, звяза-ныя з Зфачыстасцямі, ішук>ць у свядомасці гараджан, і шмат іншага) ад-казаць разгорнута ў адным арггывуле не ўдасца. Таму мы спадзяёмсн, што ён зможа заахвоціць івгаых да асвятлення гэтай таматыкі. У ВССР было нямала юбілеяў. Найбольш важныя з іх бьілі звязаны з галоўнымі падзеямі савецкай дзяржавы — Кастрычніцкай рэв&люцыяй, народзінамі У. I. Леніна, перамогахо ў Вялікай Айчывдтй вайне, а ўлас-на для Беларусі — з вызваленнем ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Важнымі вехамі былі пяцігодкі. Ім прымяркоўваліся пускі заводаў, ад-крыццё школ, увядзенне ў эксплуатацыю новых мастоў, бальніц, клубаў. Святкаванне — гзта заўсёды госці. Для кіраўніцтва горада задаволеныя ад святкавання госці — гэта магчымасць паказаць сябе з лепшага боку, а значыць вылучыцца і атрымаць болып высокую пасаду альбо іншыя выгоды. На 1974 г. якраз прыпадалі важныя чарговыя юбілеі — 30-годдзе вызвалення БССР, выкананне планаў 9-й пяцігодкі. Адзначыць іх аса-бліва ўрачыста было партыйным абавязкам для кіраўніцтва БССР. Ад-куль жа ўзнікла жаданне адзначыць 1000-годдзе Віцебска? ВЫСПЯВАННЕІДЭІ Думка пра тое, каб адсвяткаваць тысячагадовы юбілей Віцебска, уз-нікла ў канцы 1970 г. у краязнаўцы Міхаіла Рыўкіна (29.12.1931, г. Ві-цебск — 12.03.2010, Бібертал, ФРГ), Змешчаны ў першым томе «Віцеб-скай даўніны» (выдадзены А, П. Сапуновым у 1883 г.) т. зв. «Віцебскі летапіс» («Вгіеіе тіааіа МіеЬвка») датаваўчас заснавання Віцебска 974 г. Адсюль вынікала, што ў 1974 г. горад адзначыць 1000-годдзе. Цяпер цяжка сказаць, чаму Міхаіл Рыўкін «зачапіўся» за гэтую дату. Ён скончыў асшрантуру пры Акадзміі педагагічных навук СССР (1968), праводзіў даследаванні на высокім навуковым узроўні. Ён ведаў, што дата не можа быць правільнай, бо легендарная заснавальніца горада княгіня Вольга памерла ў @69 г. і заснаваць горад у 974 г. не магла. Відаць, Міхаіп Рыўкін разумеў, пгго святкаванне тысячагадовага юбілея можа прынесці гораду шматлікія выгады, і таму звярнуўся да 1 Сікі дом (Клякса) — мясцовы айкокім. Дом у цзнтры Віцебска, на рагу вул. Леніяа і Замкааай, які заввычай маяявалі ў блакітны колер. 152 АНСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯНАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКАЎ 1974 Г. Іосіфа Навумчыка, які займаў на той час пасаду другога сакратара ві-цебскага гаркама КПБ. Той, выслухаўшы довады М. Рыўкіна, звярнуўся з адпаведнай прапановай да першага сакратара Відебскага гаркама КПБ Валянціна Міхельсона. Міхельсон і старшыня гарвыканкама Уладзімір Багданаў падтрымалі ідэю святкавання 1000-годдзя Віцебска. Пад яе ў саюзнага і рэспубліканскага цэнтра можна было б атрымаць грошы на будаўніцтва такіх аб’ектаў, якія б не пацягнуў абласны бюджэт. Аднак для святкавання было неабходна падрыхтаваць грамадскую думку, растлумачыць жыхарам горада значнасць падзеі, упэўніць, што «княжацкае» паходжанне горада ўпісваецца ў кантэкст яго сацыяліс-тычнай рэчаіснасці. У рэспубліканскім друку выйшаў шэраг артыкулаў2. Апе найперш трэба было атрымаць дазвол на святкаванне ў Маскве. Для гэтага неабходна было заручыцца падтрымкай галоўнай навуковай інстытуцыі краіны — Акадэміі навук СССР. Міхаіл Рыўкін выкарыстаў сваё сяброўства з археолагам, супрацоў-нікам Інстытута гісторьгі АН СССР Леанідам Васільевічам Аляксеевым, які даследаваў Віцебшчыну. Той быў у добрых адносінах з дырэктарам інстытута, акадэмікам Барысам Аляксандравічам Рыбаковым. У Іясты-тут быў накіраваны ліст ад віцебскага гаркама КПБ з просьбай выка-заць меркаванні адносна святкавання 1000-годдзя горада ў 1974 г. У ад-каз Б. А. Рыбакоў і Л. В. Аляксеў пісалі: 1. У старажытных пісьмовых крыніцах сказана, што кіеўская княгіня Вольга была ў Віцебскай зямлі ў 947 г., аднак факту за-снавання Віцебска там няма. 2. Віцебскі летапіс XVIII ст. заха-ваў гэты факт, але з памылковай датай (замест 947 — 974 г.). 3. Археалагічныя раскопкі сцвярджаюць, што ў X ст. Віцебск іс-наваў і, такім чьтам, не супярэчаць таму, што горад (г. зн. яго-ная крэпасць) быў заснаваньі. Беручьі пад увагу ўсё гэта Інсты-тут гісторыі АН СССР лічыць, што тысячагадовы юбілей го-рада Віцебска варта адзначыць у 1974 г., узяўшы 974 год за ўмоў-ную дату яго заснавання. Можна не сумнявацца, што ў XX ст. Віцебску спаўняецца 1000 гадоў. 2 Аляксееў Л. Віцебску — тысяча год. Сведчаць археалатяыя знаходкі // Віцебскі ра-бочы. 1970. 24 чэрв.; Рыўкін М. Археалагічнае вывучэнне Віцебска // Помнікі гісторьгі і культуры Беларусі. 1972. >6 3. С. 14—17; Рыўкін М. Ля вытокаў старажытнага Віцебска // Віцебскі рабочы. 1972. 7 ліп. 3 Рыбакоў Б., Аляксееў Л. Калі быў заснаваны Відебск? // Помнікі гісторьгі і культуры Беларусі. 1971. Л6 2. С. 12—13 АНСНЕ 3 2014 153 МІКАЛАЙ ПІВАВАР ПАДРЫХТОЎКА ДА СВЯТКАВАННЯ У парадку субардынацыі 30 ліпеня 1971 г. у ЦК КПБ была накірава-на запіска, у якой запытваўся дазвол на правядзенне мерапрыемстваў. па святкаванні юбілея. Па атрыманні станоўчага адказу, на бюро КПБ і выканкама відебскага гарсавета дэпутатаў працоўных ад 26 жніўня 1971 г. была прьгаята пастанова № 312/16 «Аб святкаванні тысячагод-дзя г. Віцебска»4. У адпаведнасці з ёй святкаванне планавалася правесці ў чэрвені—ліпені 1974 г. Для падрыхтоўкі і правядзення святкавання: 1000-годдзя Віцебска была створана камісія, у якую ўвайшлі 26 чалавек.і У складзе камісіі былі ўтвораны працоўныя групы: 1) па правядзенні масава-палітычных і спартыўных мерапрыемстваў; 2) па падрыхтоўцьг, прадпрыемстваў, побыту і гандлю, грамадскага харчавання, сувеніраў;’ 3) па забеспячэнні выканання праграмы архітэктурна-будаўнічых ра-; бот, добраўпарадкаванні і афармленні горада; 4) па падрыхтоўцы сцэна-| рыя і каштарысна-разліковых прапаноў па правядзенні свята. Пастано-| ва прадпісвала ўсім партыйным арганізацыям горада да 1 кастрычніка 1971 г. запланаваць канкрэтныя мерапрыемствы па падрыхтоўцы да| святкавання. У горадзе абвяшчалася разгортванне сацыялістычнага спа-борніцтва паміж раёнамі, домакіраўнцітвамі, мікрараёнамі, вуліцамі, да-мамі, дварамі для добраўпарадкавання і паляпшэння санітарнага стану. Пяты пункт пастановы быў найболып важны для горада: прасіць абкам КПБ і аблвыканкам разгледзець мерапрыемст- * вы гаркама КПБ і гарвыканкама і хадайнічаць перад Саветам міністраў БССР аб выдзяленні дадатковых сродкаў на добра-ўпарадкаванне і будаўніцтва культурна-побытавых аб’ектаў. ШТО ПЛАНАВАЛАСЯ ЗРАБІЦЬ? План работ да святкавання 1000-годдзя прадугледжваў выдаткі па дзвюх катэгорыях: капітальныя ўкладанні і добраўпарадкаванне. Зболыпага капітальныя ўкладанні тычыліся цэнтра горада. Праду-гледжвалася рэканструкцыя вул. Леніна ад вуліцы Савецкай да плош-чы Свабоды. На гэтым участку быў запланаваны знос дамоў, на які вы-даткоўвалася 120 тыс. рублёў. На 1973 г. тут знаходзіліся 133 будынкі, палова — дарэвалюцыйнай забудовы. На думку аўтараў праекта рэ- 4 Дзяржаўвы архіў Віцебская вобласці (далей ДАВВ). Ф. 2222, воп. 4, спр. 171, арк. 41—42. Пастанова № 312/16. 154 АРСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў 1974 Г. канструкцыі цэнтральнай часткі горада, 43 з іх не ўяўлялі каштоўнасці і выракаліся на знос. На вызваленых плошчах планавалася ўзвесці но-выя8. На добраўпарадкаванне схілаў і ўмацаванне берагоў Віцьбы з будаў-ніцтвам дароясак, тэрас і лесвіц быў вылучаны больш за 1 млн. рублёў. На ўчастку ад вул. Савецкай да вусця планавалася расчысціць і па-глыбіць русла Віцьбы. Ад вул. Леніна да парка Фрунзэ было запланава-на будаўніцтва пешаходнага моста праз Віцьбу. Яго кошт ацэньваўся ў 60 тыс. рублёў. Істотныя грошы ўкладаліся ў добраўпарадкаванне берагоў Дзвіны. На паглыбленне і расчыстку русла Дзвіны выдаткоўвалася 240 тыс. рублёў. На добраўпарадкаванне ўзбярэжнай па левым беразе ад заво-да імя Кірава да Смаленскай шашы — 240 тыс. рублёў, узбярэжнай ад гасцініцы «Дзвіна» да піўзавода—600 тысяч рублёў. Умацаванне берагоў між мастамі планавалася і надалей. У 1975 г. на гэта меркавалася вылу-чыць 2,2 млн. рублёў6. Рамантаваліся і афарбоўваліся фасады будынкаў па вуліцах і прас-пектах Фрунзэ, Смаленскай шашы, Леніна, Чарняхоўскага, Горкага, Гер-цэна. Рэстаўрацыя і рамонт прадугледжваўся для фасадаў знакавых будынкаў горада: кінатэатраў «Кастрычнік», «Мір», «Усход», вакзала, драмтэатра, калон на Кіраўскім мосце, гасцініцы «Савецкая», дамоў па вул. Даватара, Савецкай, 4-га Камунальнага, 5-га Камунальнага (вул. Акадэміка Паўлава), 6-га Камунальнага (вул. Горкага) і інш. Прадугледжвалася будаўніцтва вуліцы Кірава ад Тэатральнай плош-чы да пл. Свабоды (цяпер — вул. Замкавая), вуліцы Смаленскай на ўчастку ад Маскоўскага праспекта да вул. Праўды, рэканструкцыя скве-ра каля помніка 1812 г., сквера на плошчы Свабоды, парку 1000-годдзя горада, Тэатральнай плошчы, дзіцячага парку на ўзбярэжнай Дзвіны. Аднак найболып істотныя фінансавыя ўкладанні запрошваліся на асфальтаванне праезжай часткі, тратуараў і добраўпарадкаванне зялё-ных зон вуліц: вул. Гагарына (1,28 млн. руб.), вул. Фрунзэ (880 тыс. руб.), вул. Касманаўтаў (600 тыс. руб.), вул. Горкага (400 тыс. руб.), вул. Герцэ-на (240 тыс. руб.), вул. Акадэміка Паўлава (240 тыс. руб.), вул. Савецкая (240 тыс. руб.), вул. Гараўца (80 тыс. руб.). Такім чынам, план работ у сувязі з правядзеннем 1000-годдзя го-рада прадугледжваў капітальных укладанняў на 2 586 тыс. рублёў, на 5 Зайцаў, Л. Якім быць цэятру Віцебска // Віцебскі рабочы. 1973. 22 лют. 6 План экономнческого н соцнального развнтня города Внтебска на 1971—1975 годы. Вйтебск, б.г. С. 26. АВСНЕ 3 2014 155 МІКАЛАЙ ПІВАВАР добраўпарадкаванне — 5 445 тыс. рублёў. Усяго — больш за 8 млн. руб-лёў7. Ці шмат гэта? Будаўніцтва гасцініцы «Віцебск» на 500 месцаў каш-тавала 2 млн. рублёў. Будаўніцтва рэстарана каштавала яшчэ 500 тыс. рублёў8. Кошт рэканструкцых цэнтральнай чаегкі горада (між Віцьбай, Дзвіной і плошчай Леніна), распрацаванай «Белкамунпраектам», якая павінна была ажыццявівда да 1985 г., складаў 14,8 млн. рублёў9, Ля сутоку Віцьбы планавалася пабудаваць турысцкі комплекс з гас-цініцай. На раіу вуліц Суворава і Талстога — кавярню. На месцы старо-га завода заточных станкоў — бібліятэку з клубам. На Успенскай горцы планавалася пабудаваць тэрасы, уздоўж берага — пешаходныя дарож-кі. На вуліцы Суворава — Дом мадэляў, моладзевыя клубы. На вуліцы Урыцкага — вышынны жылы будынак. Вакол цэнтра планавалася зра-біць кола ііаркаў. Парк Фрунзэ — рэканструяваць. Падняць узровень вады ў Віцьбе на метр. Зрабіць тут зоны адпачынку, дзіцячыя пляцоўкі. Запланаванае на пачатку 1970-х г. чаепсова зроблена толькі ў нашы дні. Так, узровень вады ў Віцьбе паднялі, рэчышча добраўпарадкавалі, як і схілы Успенскай горкі Праўда, цяпер замест бібліятэкі і клуба на ёй аднавілі Прачысценскі сабор. Як і на раіу Талстога і Суворава — замест кавярні аднавілі на старых падмурках Уваскрасенскі храм. ФІНАНСАВАННЕ Калі ідэю святкавання падтрымалі ў Мінску, першы сакратар ЦК КПБ П. Машэраў пралабіраў яе перад ЦК КПСС10. Савет міністраў БССР падрыхтаваў і накіраваў запіску ў Савет міністраў СССР. Вынікам яе разгляду стала даручэнне Прэзідыума Савета міністраў СССР ад 1.12. 1971 г. «Аб запісцы ЦК КПБ і Савета міністраў БССР у сувязі з 1000-годдзем Віцебска», у якім Дзярэкплану СССР і Савету міністраў БССР было прапанавана прадугледзець у планах на 1973—1974 гг. асігнаван-ні на будаўніцтва аб’ектаў у Віцебску11. 7 ДАВВ. Ф. 2222, воп. 4, спр. 171, арк. 48—60. План работ па будаўніцтве і добраўпа-радкаваняі горада ў сувязі з правядзенвем 1000-годдзя. 8 Тамсама. Ф. 1966, воп. 22, спр. 967, арк. 169—170. Распараджэнне Савета міністраў ВССР. 9 Зайдаў, Л. Якім быць цэнтру Віцебска // Відебскі рабочы. 1973. 22 лют. 10 Шабашов С. М. Думы о Петре Мнроаовнче Машерове н его ролн в жнзня областя н мой судьбе // «Не говорв с тоскон ях : Воспомннаняя о Петре Мнрановнче Ма-шерове. Внтебск: Внтебск. тнпогр., 2003. С. 140 11ДАВВ. Ф. 2222, воп. 4, спр. 158, арк. I—3. Справаздача. 156 АРСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕ6СКА Ў 1974 Г. 23 снежня 197І г. была зацверджана пастанова Савета міністраў БССР № 376 «Некаторыя пытанні падрыхтоўкі да 1000-годдзя г. Ві-цебска»12, У мэтах правядзення першачарговьк работ Савет міністраў пастанаўляў: — Дабудаваць мост праз Дзвіну на аб’язной дарозе. — Міністэрству фін&нсаў вылучыць дадаткова 2 мян. рублёў у 1972 г. і да 2 млн. рублёў у 1973 і 1974 гг. — Дзяржплану БССР забяспечыць вылучэняе неабходных лімітаў на праекта-вышуковыя работы для добраўпарадкавання горада; уключьвдь у планы падрадных будаўнічых работ выкалаяне работ, прадугледжа-ных планам; дадаткова вылучыць фойДы на йтум і цэмент для выка-нання работ; прадугледзець у праектвх планаў на 1973 і 1974 гг. дадат-ковыя асігнаванні ў адпаведнасці з даручэннем ПрэзідЫума Савета мі-ністраў СССР ад 1 снежня 1971 г. (пратакол № 62) што да каттальных укладанняў для г. Віцебска. Агульны аб’ём будаўніча- 1972 1973 1974 мантажных работ на 1972-1974 гг. Па генеоальных дамовах Галоўнае ўпраўленне 3,3 млн. руб. 0,8 млн. 1,5 млн. 1, млн. шашэйныхдарог руб. руб. руб. пры СМ БССР Па гшамыхламоаах Міністэрства прамыс- 1,6 млн. руб. 0,4 млн. 0,6 млн. 0,6 млн. ловага будаўніцтва руб. руб. руб. Міністэрства сель- 0,2 млн. руб. 0,2 млн. скага будаўніцтва руб. Былі і іншыя формы прыцягнення сродкаў. Так, з нагоды падрых-тоўкі да святкавання віцебскі аблвыканкам хадайнічаў перад Саветам міністраў БССР аб дадатковым вылучэшгі сродкаў на будаўшцгва рэста-рана пры гасцініцы «Віцебек». На будоўлю былі аеранакіраваныя сродкі (100 тыс. руб.), асігнаваныя на будаўніцтва ўнівермага ў Мінсісу13. 12 ДАВВ. Ф. 2222, воп. 23, спр. 461, арк. 132—133. Поставовленне Совета млнястров ВССР от 23 декабря 1971 г. «Некоторые вопросы подготовкн к 1000-летню Внтебска». 13 Тамсама. Ф. 1966, воп. 23, спр. 476. Распоряженне Совета мшшстров ВССР от 30 ніоня 1972 г. «О передаче Вятебскому облнсполкому кахштальвого вложення 100 тыс. ру-блей на стронтельство ресторана». АКСНЕ 3 2014 157 МІКАЛАЙ ПІВАВАР ПАДРЫХТОЎКА ДА СВЯТКАВАННЯ У сакавіку 1971 г. гарвыканкам разаслаў анкету, у якой прапанава-лася адказаць на пытанне «Што трэба зрабіць, каб горад стаў прыгажэй-шьш». Адказы паступілі больш як ад 20 тыс. грамадзян. Іх прапановы можна падзяліць на 2 блокі — правесці добраўпарадкаванне і стварыць новыя гарадскія аб’екты. Горад узору 1971 г. досыць істотна адрозніваўся ад Віцебска пачат-ку XXI стагоддзя, Налрыклад, з 226 вуліц і завулкаў Чыгуначнага раё-на працягласцю 108 км цвёрдае пакрыццё мелі 46 вуліц працягласцю 36 км. Улічваючы, што ў Віцебску на той час было 800 вуліц працяглас-цю 300 км, а плошча горада займала 6000 га, у горадзе назіралася еур’ёзная праблема добраўпарадкавання тэрыторыі. Яе вырашэннем занялася Пастаянная камісія па камунальнай. гаспа-дарцы і добраўпарадкаванні і архітэктурна-эстэтычвая камісія гарадско-ха Савета дэпутатаў працоўных. Члены камісій вывучылі стан на мес-цах, унеслі канкрэтныя прапановы па добраўпарадкаванні і паляішіэнні архітэктурна-эстэтычнага выгляду горада. У першую чаріу было прапанавана правесці рамонт фасадаў, абна-віць колер забудовы цэнтральных вуліц. Зняць платы, рэкламныя шчы-ты, прыбраць кіёскі, газетныя зітрыяы. Прывесці ў парадак двары (хаатычна пабудаваныя ў іх гаспадарчыя пабудовы) і калгасныя рынкі. Правесці асвятленне вуліц, а ў цэнтры зрабііц» іх архітэктурна-дэкара-тыўнае асвятленне. Праводзіць адзіны санітарны дзень у горадзе ў пер-шую пятніцу месяца. Дзякуючы залыту Пастаяннай архітэктурна-эстэтычнай камісіі на Дзвіне была ліквідавана база па нарыхтоўцы рачнога пяску каля моста па Смаленскай шашы. Гарвыканкам забараніў выгрузку і складаванне пяску ў цзнтральнай частцы горада, а база перанесена ў раён Тарнага пасёлка14. Ставілася пытанне аб ліквідацыі скідаў гаспадарча-фекаль-ных водаў у рэкі і ўводу 2-й чаргі агульнагаспадарчых ачьппчальных збудаванняў15. Была пастаўлена задача палепшыць працу трэста ачысткі горада, аддзелаў унутраных спраў, домакіраўніцтваў, гарадской камунальнай гаспадаркі, ДАІ, разбіць пасты санітарнага кантролю, праводзіць рэй-ды чысціні, ажывіць работу вулічных і дамавых камітэтаў, вучыць жы- 14 ДАВВ. Ф. 322. Воп. 9. Спр. 105. Арк. 77. Рашэвне№ 298 ад 26.08. 1971 г. Пратакол № 3 сесіі 30 лістапада 1971 г. 15 Тамсама. Арк. 16. 158 АНСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА» 1974 Г. хароў горада культуры паводзін на вуліцах, у парках, скверах пры дапа-мозе друку, радыё і тэлебачання16. Значная нагрузка ўскладалася на прадпрыемствы. Толысі за другі квартал 1972 г. сіламі прадпрыемстваў і арганізадый было выканана работ па добраўпарадкаванні горада на 140 тыс. руб. За сродкі прад-прыемстваў Чыгуначнага раёна былі заасфальтаваны вуліцы Камса-мольская, Сівакова, Красіна, Кастрычніцкая17, ліквідавана 70 дробных кацельняў. Былі ўведзены адмысловыя заліковыя кніжкі. У іх адзначалася колькасць гадзін, адпрацаваных на грамадскіх пачатках на добраўпарад-каванні горада. У суботы, нядзелі, у выходныя і проста ў вольны час працавалі тысячы гараджан. Было выраблена 100 тысяч квіжак. На добраўпарадкаванні адпрацавана 390 тыс. чалавекадзён. Пазней праца на грамадскіх пачатках па добраўпарадкаванні горада магла стаць ар-гументам для атрымання кватэры. На працяіу таго ж 1972 г. было высаджана 1,5 тыс. дрэваў, 18,5 тыс. кустоў. Для каардынацыі працы былі створаны штабы па добраўпарадка-ванні горада18, быў распрацаваны план мерапрыемстваў на 1971 г. на 16 старонках. За кожным прадпрыемствам, установай, школай зама-цоўваліся абавязкі за ўласныя сродхі высадзіць дрэвы, разбіць кветні-кі, газоны, пакласці асфадьтава-бетоннае пакрыццё. Напрыклад, кра-ме «Дзіцячы свет» было даручана разбіць кветнік плоінчай 15 м2, па-садзіць 8 000 кветак. Кавярні «Сняжынка» — правесці штыкаванне глебы пад 'кветнік плошчай 120 м2, высадзіць 330 кветак. СШ № 10 — высадзіць 60 дрэваў. СШ № 2 — разбіць кветнік плошчай 80 м2, паса-дзіць 7000 кветак. Друкарнй брала абавязак зрабіць кветнік плошчай 120 м2, пасадзіць 7000 кветак, трэст сталовых і рэстаранаў — усталяваць 10 ваз-кветнікаў і 20 лавак, кінатэатр «Зеніт» — устанавіць 5 кветнікаў-скрыняў і 2 вазы, пасадзіць кветкі і высадзіць 7 дрэваў. Гарнізонны ўнівермаг меўся зрабіць газон і разбіць кветнік плошчай 20 м2, выса-дзіць 300 кветак19. Пенсіянер А. Ласянкоў абяцаў высадзіць 5 дэкаратыўных дрэваў і да-глядаць іх. Ен заклікаў іншых наследаваць ягонаму прыкладу. 18 ДАВВ. Ф. 322, воп. 9, спр. 102, арк. 7. Пратакол № 10 пасаджзння 1971 г. ,7Тамеама. Спр. 105, арк. 9. Пратакол № 3 сесіі 30 лістапада 1971 г. 18 Тамсама. Спр. 116, арк. 163—164. Палажэнне аб гарадскім пггабе па добраўладкаван-ні г. Віцебска. 19 Тамсама. Спр. 102, арк. 54. План мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні горада на 1971 г. АЙСНЕ 3 2014 159 МІКАЛАЙ ПІВАВАР Ад кіраўніцтва аўтапарка былі запатрабаваныя тлумачэнні, «чаму ў нашых трамваях і аўтобусах мы не чуем абвяшчэння прыпынкаў, адсутшчаюць плаяы маршрутаў руху транспарту, як гэта прынята ў ін-шых гарадах? Чаму аўтобусы, якія ідуць у парк па заканчэнні змены, не бяруць пасажыраў?» Прапаноўвалася (як гэта ўжо рабілася ў трам-ваі) выставіць указальнік руху ў парк і па шляху працягваць пера-возку пасажыраў20. Цяпер гэта ўжо стала нормай, а на той час было новаўвядзеннем, за якое давялося змагацца. Акрамя будаўніцтва і добраўпарадкавання прадугледжваліся і свя-точныя мерапрыемствы. 1 ліпеня 1972 г. у Віцебск была запрошана вялікая група вядомых дэеячаў культуры з удзелам 3. Азгура, А. Бага-тырова, А. Бембеля, П. Броўкі, Г. Бураўкіна, У. Караткевіча, Е. Лось, А. Маўзона, М. Фрадкіна. Ім паказвалі горад, вадзілі на прадпрыем-ствы, каталі на параходзіку па Дзвіне, частавалі на банкеце ў парку «Мазурына», арганізавалі заггіс на абласной тэлестудыі. Марк Фрадкін паабяцаў напісаць песню пра Біцебск. Уладзімір Караткевіч — п’есу на гістарычную тэматыку з назвай «Набат», «Набатныя званы Віцебска», ці «Набат над Дзвіной»21. У кастрычніку таго ж года ў горад прыяз-джала Лідзія Абухава22. Яна невялікі час жыла ў Віцебску, вучылася ў СШ № 10. Пісьменніца марыла напісаць кнігу да 1000-годдзя Віцебска, праўда, калі ёй «створаць умовы і прымацуюць памочніка, які ведае гісторьпо горада і дасць ёй матэрыялы»23. Адпаведныя ўмовы былі створаныя — яе пасялілі ў санаторыі «Лётцы», а сваімі матэрыяламі «падзяліўся» Міхаіл Рыўкін. Неўзабаве была напісана кніга лад назвай «Віцьбічы», якая была выдадзена вялізным накладам і адыграла пэўную ролю ў пашырэнні звестак пра гісторыю Віцебска. На жаль, прозвішча фактычнага сааўтара там не было. Да падрыхтоўкі святочных мерапрыемстваў прыцягваўся ўвесь пра-пагандысцкі апарат улады, у тым ліку радыё, тэлебачанне, друк. Такім грамадскім арганізацьмм, як Таварыства аховы помнікаў, «Веды», было даручана праводзіць лекцыі аб гісторыі Віцебска. У 1972 г. Тавары-ства аховы помнікаў правяло 90 такіх лекцый, у 1973 г. — 5024. Зразу- 20 ДАВВ. Ф. 322, воп. 9, спр, 105, арк. 14. Пратакол >6 3 сесіі 30 лістапада 1971 г. 21 Сімановіч Д. Ліст э маладосці // Карагкевіч Уладэімір. Выў. Ёсць. Буду!: успаміны, іытэрв’ю, эсэ / уклад. Г. Шаблінскай. Мінск: Мастадкая літаратура, 2005. С. 262. 22 Лідзія Аляксееўна Абухава (1922—1991) — руская шсьменніца. 23 Снмановнч Д. Г. Внтебскнй вокзал, нлн Вечернне прогулкн через годы: дневннкн. Мннск: Асобны дах, 2006. С. 138 24 ДАВВ. Ф. 487, воп. 1, спр. 77, арк. 20. Справаздача. 160 АПСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКАЎ 1974 Г. мела, што асвятляўся ў асноўяым савецкі час, змест падэей трактаваўся згодна з прывцыпам партыйнасці. Падрыхтоўка да святкавання 1000-годдзя Віцебска не дужа адрознівалася ад падрыхтоўкд да святкавання іншых савецкіх святаў. Клубам віцебскіх прадпрыемстваў было даруча-на «правесці вечарыну адпачынку між цэхамі», «арганізаваць чытанне лекцый і дакладаў у клубах і цэхах», «Арганізаваць куток баявой сла-вы і стэнды ў бібліятэцы» і інш. Замест мерапрыемстваў, што маглі б паспрыяць распаўсюджаншо ведаў па гісторыі і культуры старажыт-нага Віцебска, праводзіліся лекцьгі на тэму «Савецкая праграма міра — канкрэтная рэалістычная праграма аздараўлення міжнародных адно-сін», «Антыкамунізм — тэрыторыя вырачаных», «Ударная праца савец-кіх людзей — зарука ўмацавання эканамічнай і абароннай магутнасці СССР» і інш. БАРАЦЬБА Ў ПРЭЗІДЫУМЕ ВС СССР 12. чэрвеня 1974 г. на імя 1-га сакратара ЦК КПБ П. М. Машэрава і старшыні Савета міністраў БССР Ціхана Якаўлевіча Кісялёва была цакіравана дакладная запіска, у якой віцебскія кіраўнікі прасілі дазвол правесці святкаванне 30—31 жніўня 1974 г., а таксама хадайнічалі аб узнагароджанні горада ордэнам Кастрычнідкай рэвалюцыі25. Дазволу прасілі і на тое, каб запрасіць на святкаванне дэлегацьгі з саюзных рэс-публік СССР, а таксама ГДР і ПНР. Цікава, што на святкаванне за-прашаліся ўсе члены Палітбюро ЦК КПСС, у тым ліку Л. I. Брэжнеў і Ю. У. Андропаў, члены і кандыдаты ў члены Бюро ЦК КПБ, загадчыкі аддзелаў ЦК КПБ, міністры, начальнікі глаўкаў, бьшыя кіраўнікі воб-ласці і горада, дзеячы кулыуры, ганаровыя грамадзяне, героі Савецкага Саюза — ураджэнцы Віцебшчыны і іншыя. Спіс запрошаньгх на свята ганаровых гасцей уключаў першапачаткова 250 чалавек, а ўсяго 1134 чалавекі26. Перад самым святкаваннем узнікла нечаканая праблема. У ліпені, на пасяджэнні сакратарыята Палітбюро Андрэй Паўлавіч Кірыленка, які быў адньм з найболып уплывовых членаў (пры адсутнасці Міхаіла Андрэевіча Суслава выконваў абавязкі старшыні на пасяджэннях сакра-тарыята ЦК КПСС) выказаўся супраць прьшяцця пастановы аб святка-ванні 1000-годдзя Віцебска. Прычыны гэтага цяпер вызначьшь склада- 25 ДАВВ. Ф. 1, воп. 130, отр. 133, арк. 3. Дакладная зашска абкама КПВ ад 12 красаві ка 1974 г. 26 Тамсама. Арк. 47—98. Спіс запрошаяых на святкаванне. АРСНЕ3 2014 161 МІКДЛАЙ ПІ8АВАР на, але прыняцце канчатковага рашэння адклалі. Наш зямляк Уладзімір Ігнацьевіч Бровікаў27 патэлефанаваў першаму сакратару віцебскага аб-кама КПБ Сяргею Міхайлавічу Шабашову і паведаміў аб гэтым. Першы сакратар гаркама В. Міхеяьсон быў на той час у адшгаынку, таму С. М. Ша-башаў у тэрміновым парадку накіраваў у Маскву Іосіфа Навумчыка. Разам з У. I. Бровікавым яны сталі працаваць над даведкай, якая на новым пасяджэнні Палітбюро пераканала б яго членаў у патрэбе свят-кавання 1000-годдзя ВІцебска. Запіска была падрыхтавана на 2 старон-кі. Першая ўключала кароткую інфармацмю пра гісторыю Віцебска і ар-гументацыю, чаму варта святкавадь такую дату. Яна пачыналася слова-мі «Як устаноўдена...»28, Другая старонка — праект пастановы сакрата-рыята палітбюро; праект пастановы палітбюро; праект указа прззідыу-ма Вярхоўнага Савета СССР. Цікавы факт: Іосіф Навумчык настаяў, каб у тэкст быў уключаны факт, што сустракаць вызваліцеляў 26 чэрвеня 1944 г. выйшла толысі 118 чалавек (пры тым, што даваеннае насельніцгва складала 180 тысяч чалавек)29. Машыністка, якая друкавала даведку, не магла паверыць, што насельніцтва такога буйнога горада магло ска-раціцца так катастрафічна. I была вельмі ўражана тым, што такія ліч-бы аказаліся праўдзівымі. Магчыма, гэты факт зрабіў уражанне, і на другім слуханні сакратарьгата Палітбюро пастанова аб святкаванні 1000-годдзя Віцебска была прьпіята беэ дапрацовак. СВЯТКАВАННЕ Святкаванне праходзіла ў канцы лета — пачатку восені. Але фактыч-на яно пачалося 30 чэрвеня 1974 г.®°, калі адбылося святочнае адкрыц-цё мемарыяльнага коміхлексу ў гонар савецкіх воінаў-вызваліцеляў, партызанаў і падпольшчыкаў Віцебшчыны (архітэктар Юрый Шпіт, скульптары Б. Маркаў, Я. Печкін). На святкаванне прыехала больш за тысячу ветэранаў, каля 40 генералаў. Быў шсьменнік Уладзімір Карпаў, 37 3 1972 па 1978 гг. працаваў у апараде ЦК КПСС інспектарям, памочнікам сакратара ЦК КПСС, намеснікам аагадчыка Аддзела арганізацыйна-партыйнай работы. 28 Інтэрв’ю аўтара з I. А. Навумчыкам 25.04. 2012 г. 29 Факт з рэпертуару савецкай прапаганды. Такая малая колькасць нзсельшцтва тлу-мачылася зверствамі акупантаў. Аднак пзўная частка гараджан паспела выехаць у звакуацыю ў савецісі тыл. Частка сышла ў вёску, бо там было прасцей пракарміцца, пэўная частка жыхароў горада з падыходам савецка-германскага фронту да горада была эвакуіравана вемцамі ў тыл (у асноўным Слонімшчына, Смаргоншчыва). 30 Горад быў вызвалены 26 чэрвеня, але гэты дзень выпадаў на сераду, таму святка-вакяе перанесена на нядзелю. 162 АРСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў1974 Г. які ў гады вайны служыў разівД,ІЬІкам і атрымаў званне Героя Савец-кага Саюза забаі пад Віцебскам. 3 25 жніўвя па 1 верасня іф«одзіла юбілейнае свята мастацтваў. У яго межах былі арганізаваны выстава «Віцебск у творчасш беларускіх мастакоў», рэспубліканская выстава кшгі, фотавыстава «Віцебск учора, сёння, заўтра», свята самадзебвага мастацтва. 28 жніўня 1974 г. быў выдадзены Указ Прэзідыума Вярхоўнага Са-вета СССР аб узнагароджанш г. Віцебска «за поспехі ў выкананні пла-наў 9-й пяцігодкі, а таксама ў сувязі з 1000-годдзем» ордэнам Працоў-нага Чырвонага Сцяга (першап8чатковаі як мы памятаем, планавалася ордэнам Кастрычніцкай рэвалюкьп). 29 жшуня ў драматычным тэатры адбылася прэм’ера п’есы Ул. Кара,гкевіча «Званы Віцебска». 30 жніўня — 1 верасня адбыліся святочныя мералрыемствы: маса-выя шэсці да помнікаў і брацкіх могілак савецкіх воінаў, партызан і падполыпчыкаў, выступы самадзейных і спартыўна- мастацкіх калекты-ваў, марш-парад духавых аркестраў, тэатралізаваныя прадстаўленш. Упершыню было арганізаваыа воднае свята. Яно адбылося каля Кіраў-скага моста 31 жніўня і мела назву «Віцебскія агні». (Згодна з летапісам, менавіта каля сутокі Віцьбы квягіня Вольга прыплыла па Дзвіне на ладдзі ў месца, з якога вырас горад- Цяпер гэтае свята стала традыцый-най часткай святкавання Дня горада.) На адмысловай платформе было спалена пудзіла «эксплуататара», вайсковы аддзел фарсіраваў раку, за-тым спалілі пудзіла Гітлера і пудзіла «імперыяліста»31. Увечары адбыў-ся феерверк. 31 жніўня прайшоў святочны мітынг з ускладаннем кветак. У шэсці святочнай калоны ад плошчы Леніна да плошчы Перамогі ўзялі ўдзел 20 тысяч чалавек. На адмысловых аўтамабільных платформах былі прадстаўлены інсцэніроўкі з гісторьгі горада. У тэатры імя Якуба Кола-са адбылося ўрачыстае пасяджэкне Віцебскага гарсавета, прадстаўнікоў партыйных і грамадскіх арганізвцьш, вайскоўцаў Савецкай Арміі, гас-цей, на якім выступіў першы сакратар ЦК КПБ П. М. Машэраў. На ім ён уручыў гораду ордэн Пряттпўнага Чырвонага Сцяга. На мерапрыем-ствах прысутнічала 150 ганаровых гасцей, у ім бралі ўдзел дэлегацьп Мінска, Смаленска, Пскова, Каўнаса, гарадоў Украіны, Прыбалтьпа, з Франкфурта-на-Одэры (ГДР), Зялёнай Гуры (ПНР), ветэранскія арга-нізацыі частак і злучэнняў, якія ўдзельнічалі ў вызваленні горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, творчыя і шшыя арганізацьп. Увечары на Летняй эстрадзе адбыўся канцэрт ансамбля «Песняры». 31ДАВВ. Ф. 1, воп. 130, спр. 65, арк. 30—31- Сцэнар воднага свята. АРСНЕ3 2014 163 МІКАЛАЙ ПІВАВАР М. С. Рыўкін А. Л. Аляксееў М. С. Рыўкін і А. Л. Аляксееўу Віцебску Б. А. Рыбакоў 164 АПСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў 1974 Г. Выгляд на вул. Леніна з боку Віцьбы. Пачатак 1970-х г. Выгляд на вул. Леніна з дома з рэстаранам «Аўрора». Пачатак 1970-х гг. АОСНЕ 3 2014 165 МІКАЛАЙ ГІІВАВАР 166 АПСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАНКЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКАЎ 1974 Г. Выгляд плошчы Перамогі з вьшіыні помніка вызваленню. Фота з асабістага архіва I. А. Навумчыка Добраўпарадкаванне плошчы Перамогі. Пачатак 1970-х гг. Фота з суполкі «Таямніцы Віцебска», НІ1;р://ук.соіп/1ауатпісу_уісеЬзка • і > " I « * > * »(•«> ■•-111 »г >. і • »'*Г .і « АВСНЕ 3 2014 167 МІКАЛАЙ ПІВАВАР Плошча Перамогі. Сярэдзіна 1970-х гг. Фота Б. Беленькага Земляныя раскопкі на месцы будаўніцтва новай прыбудовы дабудынкаўнівермага. 1974г. Фота з асабістага архіва Г. В. Штыхава 168 АВСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў 1974 Г. У К А 3 ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР АБ УЗН АГАРОДЖАННІ ГОРАДА ВІЦЕБСКА ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА За вя.іікія поспехі, дасягнутыя працоунымі горада ў гасгіадарчым кудыурныч будаўніцтве, і ў сувязі з ІООО-годдзем з часу заснавання С'знагародзіііь ГОРАД ВІЦЕЬСК ордэнам ПРАЦОУНАГА Ь ВОНЛГА СЦЯГА. я ^ гггр Стапшыня Прэзідыума Віфіоўмага С«вста ссск М ПАДГОРНЫ. Сякпэтар Прмідыумя В*рхо*нага Савста СССР М. ГЕАРГАДЗЕ. Наскм. Нрл« ’ь жйі\ня 107 4 г. Указ аб узнагароджанні Віцебска ордэнам Працоўнага Чырвонага сцяга. Газета «Віцебскі рабочы» Ускладанне кветак на плошчы Перамогі. 30 чэрвеня 1974 г. Фота з асабістага архіва I. А. Навумчыка АПСНЕ 3 2014 169 МІКАЛАЙ ПІВАВАР Агульны здымак удзельнікаў святочнага пасяджэння 30 жніўня 1974 г. Фота з асабістага архіва I. А. Навумчыка. Справа налева: Невядомы; Пятрусь Броўка; пісьменніца Лідзія Абухава; старшыня аблвыканкама Пётр Яфімавіч Рубіс; 1 -ы нам. старшыні Савета міністраў БССР Уладзімір Фёдаравіч Міцкевіч; 2-і сакратар ЦК КПБ Аляксандр Нічыпаравіч Аксёнаў; 1 -ы сакратар віцебскага гаркама КПБ Валянцін Васілевіч Міхельсон, 1-ы сакратар ЦК КПБ П. М. Машэраў; старшыня віцебскага гарвыканкама Валянціна Паўлаўна Вараб'ёва; Уладзімір Елісеевіч Лабанок; сакратар віцебскага абкама КПБ па сельскай гарпадарцы Іван Арцёмавіч Шыбека; 1 -ы сакратар Кастрычніцкага райкама Ганна Нічыпараўна Лявонава; кіраўнік прафсаюзаў Мінін; Сабельнікаў. Другі рад: Ліўшыц, кіраўнік меліярацыі; генерал-палкоўнік, камандзір Беларускай ваеннай акругі Міхаіл Мітрафанавіч Зайцаў; нам. старшыні гарвыканкама Іван Пятровіч Алейнікаў; 1 -ы сакратар Сенненскага райкама КПБ Радзецкі; 1 -ы сакратар Бешанковіцкага райкама КПБ Таран; 1 -ы сакратар віцебскага абкама КПБ Сяргей Міхайлавіч Шабашоў; у 3-м радзе 6—8-я — дэлегацыя ад горада Франкфурт-на-Одэры; у 6-м радзе 6-ы справа — Генадзь Бураўкін 170 АРСНЕ 3 2014 АЯСНЕ 3 2014 МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ БССР БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР імя ЯКУБА КОЛАСА йм»шнмшпгатштгошішпттш»штшшшшшшійііжікшшш* ««кншіштвпшіагацшшнтіні Уладзімір КАРАТКЕ8ІЧ Тысячагоддзю горада Віцебска арысвячаецца гэты спехтакль ЗВАНЫ 8ІЦЕБСКА Гістарычныя падзеі XVII стагоддзя _ Спсхгакль у 2-х частках Рэжысср — дыпламант Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута Валерый МАЗЫНСКі Мастак Аляксандр САЛАУЕУ Кампазітар Сяргей КАРТЭС Гллоўны рэжысір тэатра — заслужаны дзсяч мастацтааў 6ССР, лаўраат Дзяржаўкай прэміі БССР С. С. КАЗІМІРОУСКІ СЦЯПАН ПАСІЕРА. заза-датар паўстання .... МАРЦЫЯН РОПАТ, цэхавы мсчнілаў-збраяроЎ . . . АНТОНІ-ЛАР ЕОЛЬХА, за-латых спраў майстра ВАГУСЯ ДАНЕЛЬ, дачка аднаго з віцебскіх радцаў ПРУЗЫНА ТРАПАШКАВА. яе «мамка» ..... ЕУГА БАБУК, былая паьіту-ха, нзпоўюродка .... ІЛЯ, <сзаволі>ны» поп . Дзеюныя асобы засл. арт. БССР У. А. Куляшоў -А. I. Лабанок {/ В- П. Зубараў і/ А. П. Фралоў В. А. Бяззубааа Л. (. Пісарава В. Ц. Петрачкоаа нар зрт. БССР I. А. Матусевіч Б. Я. Крупскі ВАСКАМАТЫС і сябры !■ Вольхі і СЫМОН НЕША ) Ропата Я. П. Шыпіла ЯНКА ГУЖНІШЧАУ, зва нар.........Б. I. Сяўко ІАСАФАТ (ІЗАХВАТ) КУН ЦЭВІЧ, уніяцкі арцыбіс куп Полацкі і Віцебскі . СТАНІСЛАУ КАСШСКІ, еэуіт, духоўнік Кунцэаіча . ПАЛІКАР АБРАПМОВІЧ, тысячнік, галава • біскуп-скай «ггардыі» .... ДАРАФЕЙ. дгверапая асоба К>‘нцз»віча...... ПАПА РЫМСКІ .... іч-ДРПЛЬ ПОЛЫ КІ заст. арт. БССР У. А. Куляшоў ў' А. I. Лабанок ' засл. арт. БССР Т. А. Кокштыс В. М. Дашкевіч Л. 1. Трушко язр. арт. БССР А. М. Трус А Я і аыканаўцы: ЛЕУ САПЕГА. вялікі канц-лер Беларусі і Літвы . . АЛЯКСАНДР КОРВШ-ГАНСОУСКІ, рэфс-рэкда-рый і дзяржаўны сакратар Вялікгга княства. член ка-місарскага суда . . . ГАРАДЖАНКІ..... нар. зрт. БССР, лаў-рэат Дзярж. прэміі БССР Ф. I. Шмакаў Я. Я. Фалевіч нар. арт. БССР 3. I. Канапеяька Г. А. Каралькоаа Т. Р. Мархель A. Ф. Мельдзюкова Л. А. Нісневіч Т. У. Ск&арцова B. К. СтарыкоеІч Т. I. Шапшалава ГАРАДЖАМЕ П. В. Бялевіч C. А. Казлоў С. Я. Кохан МЯШЧАНЕ, ГВАРДЗЕРШЫ. ВАРТА — артысгы тэатра і дапаможны склад уммОамл Загадчык мастацка-пастановачнай часткі Д. 1. Кургакаў Галоўны -машынют сцэны П. I. Сарокін Радыёіяжынср А. М. Корсак Мастак па асвятлснню Ю. А. Зінін Старіаы аакройшчык мадэльср А. С. Шабашоаа Старшы мастак-бутафор П. Д. Бал&акскха Старшы мастак дэкаратар П. В. Чарнушын Старшы мастак-грымёр — заслужаны работііік ьультуры БССР Л. Я. Звсздачотааа Старшы рэквізітар Н. Я. Крупскаа Загадчык стглярнага. цэха А. М. Ч.фнабрысаў Загадчык слясарнага цз>ха Г. У. Бабіта Саекгахль вядзе Б. Я- КРУПСКІ Афіша спектакля' «Званы Віцебска» СЗЯТКА8АННЕ ТЫСЯЧАГ0ДДЗЯ 8ІЦЕВСКА Ў 1974 Г. МІКАЛАЙ ПІВАВАР СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў 1974 Г. Фрагмент святкавання на отадыёне «Дынама». 19741 Фота з асабістага архіва і. А. Навумчыка Марка, выпушчаная ў гонар святкавання 1000-годцзя Віцебска АРСНЕ3 2014 173 Юбілейны медальу гонар 1000-годдзя Віцебска 172 АНСНЕ 3 2014 МІКАЛАЙ ПІВАВАР Фрагмент святкавання. Княгіня Вольга з дружынай. Фота з суполкі «Таямніцы Віцебска» Выступленне «Песняроў» на святочным канцэрце ў 1000-годдзя Віцебска 174 АРСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКАЎ 1974 Г. КОТЕБСК т юоо АОСНЕ3 2014 175 МІКАЛЛЙ ПІВАВАР ЗНАЧКІ ДА ЮБІЛЕЮ На здымкнх: З.ісод -- значкі запода ннлаг/чнага а«7огалЯвам»ін. смраоа — выгворча-тэхпічнага аб’яднапмя «Млналіг». 1974 г. ф ВІЦКЬСК/ РЛБОЧЫ ф Значкі да юбілею горада ІГц<Ут: прідпрпяшл іінт н <\др*х (іішірннтіЛЯ' ІІІЦі'ХС ЛріДПрноТІМ (ШЫ Х«Т* НЛЗВ»КЮ1< Канверг у гонар святкавання 1000-годцзя Віцебска 176 АВСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў 1974 Г. ВІЦЕБСК УІТЕВЗК ВНТЕБСК ШІТЕВЗК ч.; * ■ Фотааяьбом «Віцебск», выдадзены ў гонар 1000-годдзя АРСМЕ 3 2014 177 МіКАЛАЙ ПІВАВАР Святочны канцэрт быў вытрыманы ў духу пануючай ідэалогіі. Ёв пачаўся з выканання зводным хорам песні «Велічальная Відебску», а скончыўся спевамі кантаты Б. Рунова «Вялікай партьгі — слава!»32. Вось цытата з яго сцэнарыя: Заслона адкрываецца. На задніку сцзны выява шкатулкі. У ле-вым кутку герб Віцебска. Танцоры выконваюць харэаграфічную карцінку «Віцязі», «Станаўленне крэпасці Віцебск». Вядучы: «Ра-шэннем князя віцебскага (вылучана мной. — Аўт.) утворана дру-жына для абароны крэпасці віцебскай ад варожых набегаў»33. КОЛЬКІ КАШТАВАЛА ВІДОВІШЧА? Захаваўся каштарыс выдаткаў на падрыхтоўку да свята 1000-годдзя горада і 30-годдзя яго вызвалення: Афармленне горада 90 тыс. Анлата сцэнараў і іх ажыццяўленвя (святочнае шэсце, адкрыццё помніка, святы песні. і танца, спартыўнае і воднае свята) 30 тыс. Арганізацыя і правядзенне конкурсаў, заахвочванне пераможцаў (самадзейнага мастацтва, аматарскіх фільмаў, выяўленчага мастацтва) 4 тыс. Канцэрт і арэнда памяшкання 3 тыс. Друкарскія выдаткі (афішы, шіаны, запрашэнні і інш.) 2,5 тыс. Набыццё памятных медалёў 1500 шт х 2 руб 3 тыс. памятных значкбў 1500 шт х 1 руб 1,5 тыс. сувенірных тэчак 1500 нгг х 8 руб 12 тыс. альбомаў, кніг 1500 шт х 3 руб 4,5 тыс. Прыём дэлегацый з іншых гарадоў і раёнаў 350 чалавек х 36 руб. 12,6 тыс. Экскурсійна-транспартныя расходы 7,5 тыс. 32 Праграма святочнага канцэрта, прысвечанага 1000-годдзю заснаванвя Віцебска. За-хоўваецца ў асабістым архіве А. I. Навумчыка. 33 ДАВВ. Ф. 2222, воп. 4, спр. 170, арк. 7, 8. Сцэнарьгй святочвага канцэрта, прысве-чанага 1000-годдзго ў выкананні нар. ансаыбля танца «Лявовіха». 178 АЯСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКАЎ1974 Г. Набыццё кветак і вянкоў Афіцыйная вячэра34 350 х 8 руб. Усяго 4 тыс. 2,8 тыс. 177,4 тыс. рублёў35 Для параўнання традыцыйнае тэатралізаванае свята «Снежны фес-тываль-74», якое, дарэчы, таксама было прымеркаванае да 1000-годдзя Віцебска і праведзена 24 лютага 1974 г. у парку Мазурьша, каштавала гарадскому бюджэту 645 рубдёў3®. Гэтыя лічбы — толькі непасрэдныя выдаткі на святкаванне, якое адбывалася некалькі дзён у канцы жніўня — пачатку верасня 1974 г. Але ж былі і схаваныя. Напрыклад, пражыванне і сілкаванне ганаровых гасцей ускладалася на бюджэты прадпрыемстваў. Напрыклад, Е. Лось і М. Фрадкін былі замацаваныя за фабрыкай «Сцяг індустрыялізацыі», Г. Вураўкін і Р. Барадулін — за «Чырвоным кастрычнікам», П. Броўка і А. Багатыроў — за заводам тэхналагічнага абсталявання, А. Вярцінскі і А. Бембель — за заводам імя Камінтэрна, А. Маўзон і М. Савіцкі — за дывановым камбінатам, В. Быкаў і У. Караткевіч — за шоўкавым камбінатам37. Былі адкрыты мемарыяльны комплекс «Пераможцам» і ансамбль плошчы Перамогі («Мемарыяльны комплекс у гонар савецкіх воінаў-вы-зваліцеляў, партызан і падполыпчыкаў Відебшчьгаы»), стварэнне якіх бьшо запланавана яшчэ планам 1947 г. Яно каштавала гораду 3 млн 566 тыс рублёў38, Імёны славутых асоб, звязаных з Віцебскам, былі ўга-нараваныя ўстаноўкай мемарыяльных дошак, прысвечаных іх памяці. Да святкавання 30-годдзя Перамогі віцебскі гарвыканкам прыняў ра-шэнне аб надзяленні кватэрамі ўсіх удзельнікаў ванны, якія стаялі на чарзе па паляпшэнні жыллёвых умоў. Да 1 ліпеня 1974 г. яно было вы-канана. Кватэры атрымаш каля 150 ветэранаў. Але да новага года чарга зноў стала такой самай, бо ў горад актыўна пачалі праязджаць ветэраны з наваколляў. 34 У рэстаране «Аўрора». 36 ДАВВ. Ф, 2222, воп. 4, спр. 171, арк. 29—30. Смета расходов на подготовку н празд-нованне 1000-летня г. Ввтебска н 30-летня его освобождення. “6 Тамсама. Спр. 170. Арк. 12—13. Каштарыс даходаў і расходаў. 31 Тамсама. Спр. 171. Арк. 35—36. Спіс замацавання заігрошаных госцяў за прэдпры-емстваыі горада. 38 Плошча ГІерамогі: завяршаючы этап // Відебскі рабочы. 1974. 9 крас. ШТО БЫ/10 ЗРОБЛЕНА АНСНЕ 3 2014 179 МІКАЛАЙ ПІВАВАР Была праведзена навуковая канферэнцыя, прысвечаная 1000-годдзю Віцебска39. Выдадзены гісторыка-эканаыічны нарыс «Віцебск», каляро-вы і чорна-белы альбомы пра Віцебск, кніш Ільі Сямёнавіча Клаза «Пу-тешествне по Двнне», 17 буклетаў пра героях-суродзічах, ганаровых гра-мадзянах горада, а таксама турыстычная карта-схема горада. Да юбілею была перавыдадзёна кніга «Внтебское подполье», фактычна, кандыдац-кая дысертацыя Ніны Іванаўны Дарафеенкі, абароненая ў 1967 г. У форме кнігі яна першы раз убачыла свет у 1969 г., а дзякуючы юбілею ў 1974 г. . выйшла большым накладам. Да юбілею прайшла выстава «Віцебск у творчасці беларускіх мастакоў», створаны хранікальна-дакументальныя фільмы «Горад майго лёсу» і «Віцебскія ўзоры», а таксама спецвыпуск кіначасопіса «Савецкая Беларусь». Віцебску прыевяцілі сваю «Урачыстую ўверцюру» Анатоль Багаты-роў, песню «Сталіца абласная» Марк Фрадкін, а таксама Станіслаў Паж-лакоў, Уладзімір Сарокін, Іван Дзярясынскі, Гаўрыіл Юдзін і іншыя. Ме-навіта да святкавання 1000-годдзя Віцебска У. Караткевіч напісаў п’есу «Званы Віцебска», у якой адлюстраваў падзеі антыўніяцкага паўстання віцяблян 1623 г. Была выраблена адпаведная сувенірная і памятная прадукцыя: паш-тоўкі (ці не першыя ў гісторыі савецкага Віцебска?), юбілейныя маркі і канверты, значкі, медалі, этыкеткі, сувеніры. Напрыклад, 9 відаў знач-коў былі выраблены на заводзе тэхналагічнага абсталявання, 4 — на вы-творчым аб’яднанні «Маналіт»40. На іх былі змешчаны выявы «брэнда-вых», кажучы сучаснай мовай, аб’ектаў тагачаснага Віцебска: помніка Леніну, трамвая, ратушы, манумента на плошчы Перамогі, помніка 1812 г. на Успенскай горцы, будынка ветэрынарнай ажадэміі, панарамы Кіраўскага моста, ліхтара на тым самым мосце. На адным значку была нават змешчана выява Пагоні як элемента герба горада. Было некаль-кі сюжэтаў, якія адлюстроўвалі храналаіічныя падзеі — «Віцебск: 1000 (974—1974)»; «Віцебск 1941—1944». Практычна ўсе сюжэты аздаблялі-ся арнаментам са сцяга БССР. Некаторыя значкі былі вырабленыя са шкла, некаторыя з метала. Быў падрыхтаваны настольны медаль, аў-тарам якога стаў Станіслаў Кампанічэнка41. Няпэўнасць з датай заснавання Віцебска выклікала значныя прабле-мы для арганізацыі святкавання. Напрыклад, з дырэкцьгі па выданні і 39 Навумчык I. А. Учора і сёння // Поыяікі гісторыі і культуры Беларусі. 1974. № 2. С. 24. 40 Значкі да юбілею II Віцебскі рабочы. 1974. 21 студз. 41ДАВВ. Ф. 2222, воп. 4, спр. 171, арк. 39. Апісакне эскізу настольнага медаля, прысве-чанага 1000-годдзю з дня заснавання г. Відебска. 180 АОСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў 1974 Г. экспедыцыі знакаў папгговай аплаты (Масква) прыйшоў адказ, што пра-дугледжана выданне паштовай маркі, прысвечанай 1000-годдзю Віцеб-ска і выраб штэмгіеля спецгашэння. Аднак, паведамляем, што ў даведніку, выдадзеным Аддзелам па пы-таннях работы Саветаў Прззідыума Вярхоўнага Савета і Вялі-кай Савецкай энцыклапедыі датай утварэння г. Віцебска лічыц-ца 1021 год. У сувязі з гэтым праводзяцца неабходныя ўдакладнен-ні і кансулыпацыі43. Тым не менш, марка, прысвечаная 1000-годдзю Віцебска, усё ж такі выйшла. Менавіта дзякуючы падрыхтоўцы да святкавання горад іатрымаў са-вецкі варыянт герба. У 1969 г. выканкам гарадскога Савета дэпутатаў разам з прэзідыумам гарадскога аддзялення Беларускага добраахвотна-га таварыства аховы помнікаў гісторьгі і культуры (БДТАПГіК) пра-вялі конкурс на герб Віцебска (рашэнне № 61 ад 27.02. 1969 г.), які б ад-люстроўваў «гераічнае мінулае горада, заснаванага ў 1021 г., горада воіна, горада-творцы»43. Вынікі былі падведзены ўвесну 1972 г. Першае месца і прэмія 150 руб. была прысуджана эскізу, які быў распрацаваны мастаком Георгіем Пятровічам Кісялёвым. Другое месца і прэміі 100 руб. былі прысуджаны эскізам гербаў, распрацаваных мастакамі Генадзем Фёдаравічам Шутавым і Б. Н. Кузьмічовым. Трэцяе месца і прэмія ў 80 руб. — эскізам А. Е. Хадкевіча44. Толькі што зацверджаны герб выглядаў так: на шчыце ў залацістым абрамленні, які дзяліўся на дзве часткі, у ніжняй частцы змяшчалася вы-ява вершніка на зялёным полі. Уверсе, на чырвона-зялёным полі — вы-ява сярпа і молата. У цэнтры — тры блакітныя палосы, якія раздзяля-ліся залацістымі лініямі. Чырвоная і зялёная палосы сімвалізавалі дзяр-жаўныя сцягі СССР і БССР. Тры блакітныя палосы — рэкі Дзвіну, Віць-бу і Лучосу, на якіх знаходзіцца Віцебск. Зялёная паласа ўнізе — сімвал вясны, урадлівасці і абноўленага жыцця; залацістае абрамленне герба і раздзяляльныя палосы — дабрыня, гасціннасць і шчырасць беларускага народа. Вершнік, які скача, — традыцьій-ны элемент усіх папярэдніх гербаў горада Віцебска, які сімвалізуе 42 Ннформацвя днрекцнн по нзданшо н экспеднрованшо знаков почтовой оплаты Мн-ннстерства связа СССР. Захоўваецца ў асабістым архіве А. I. Навумчьша. 43 Конкурс на герб горада Віцебска // Віцебскі рабочы. 1969. 12 сак. 44 ДАВВ. Ф. 2222, воп. 4, спр. 127, арк. 25. Аб падвядзенні вынікаў конкурсу эскізаў гер-ба горада Віцебска ад 17 са'кавіка 1972 г. АРСНЕ3 2014 181 МІКАЛАЙ ПІВАВДР мужнасць і гераізм гараджан, гатоўнасць да самаахвярнай аба-роны Радзімы. Серп і молат — сімвал непарушнага саюза пра-цоўнага класа сялянства — асновы Савецкай дзяржавы46. Як бачьш, нягледзячы на савецкую стылістыку, герб меў гістарыч-выя карані і ўтрымліваў «Пагошо». На жаль, Мінск не зацвердзіў герб горада. V 3 падрыхтоўкай да святкавання звязана і з’яўленне слова для акрэс-лення жыхароў Віцебска — «віцьбічы». Калі старшыня аблвыканка-ма Пётр Яфімавіч Рубіс заўважыў лозунг «Віцябляне! Годна сустрэнем 1000-годдзе горада», слова «віцябляне» падалося яму немілагучным. У прамове П. Машэрава, значная частка якой пісалася спецыяліс-тамі віцебскага гаркама, выкарыстоўвалася слова «віцябчане». Віцебскі паэт Д. Сімановіч прыгадвае ў сваіх дзённіках, як У. Караткевіч пра-паноўваў: «Не віцябчане і не віцябляне — віцьбічы»46, Пазней форма «віцьбічы» і замацавалася. Яна адлюстравана нават у назве гарадской газеты. СЯРОД НЕРЭАЛІЗАВАНЫХ ЗАДУМАЎ Не ўсё з запланаванага атрымалася зрабіць. Планавалася, што бу-дзе ўзведзены помнік вядомаму суродзічу — гёнералу Л. Даватару. Не ўбачыла свет панарама вызвалення Віцебска каля кінатэатра «Перамо-га», пра якую ёсць урыўкавыя звесткі, але, на жаль, немагчыма пакуль адшукаць дэталяў. Пятрусь Броўка прапанаваў да святкавання стварыць літаратурны музей*7. Д. Сімановіч, які на той час працаваў загадчыкам аддзела на Віцебскім абласным тэлебачанні, уключыўся ў збор экспанатаў: кніг, артыкулаў, рэчаў, аўтографаў віцебскіх літаратараў. Першапачаткова вырашана было зрабіць яго ў Віцебскай абласной бібліятэцы імя У. I. Ле-ніна. Але кіраўніцтва бібліятэкі паставілася да такой ідэі без эвпузі-язму. Урэшце, музей паўстаў у Віцебскім дзяржаўным педагагічным ін-стытуце імя С. М. Кірава пазней, у 1980 г.43. 45 ДАВВ. Ф. 2222, воп. 4, сігр. 171, арк. 40. Апісанне эскіза герба г. Віцебска. 46Снмановнч Д. Г. Внтебскпй вокзал... С. 150. 47 Броўка Пятрусь // Літаратурныя мясціны Веларусі. Краязнаўчы даведнік. Кніга пер-шая. Брэсцкая, Віцебская і Гомельская вобласці. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. С. 107. 48 Півавар М. Краязнаўцы Віцебшчыны другой пал. XX — пач. XXI ст. Мінск: Кнігазбор, 2010. С. 259. 182 АЯСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў1074 Г. М. Рыўкін прапаноўваў падрыхтаваць і выдаць кнігі аб славутых ураджзнцах Віцебшчыны, гербах горада, аб гарадской ратушы. На жаль, гэтыя нраекты не ажыццявіліся і дасюль. Мог і не выйсці гісторыка-эканамічны нарыс «Віцебск». Рэцэнзію на яго аб’ёмам 11 старонак на-пісаў доктар гістарычных навук Зіновій Юр’евіч (Залман Юдавіч) Ка-пыскі. Вывад быў такі: Кніга яшчэ не змяшчае гістарычна-эканамічнага нарыса... У гэткім выглядзе кнігу нельга прьізнаць завершанай, гатовай да выдання49... С. 17. Уяўленне аб Беларусі. як «древнем достояншл Россші», часткі «русской земліі» пакінулі нам манархісты, кле-рыкалы ў шляхецкай гістарыяграфіі. Ці варта ісці за імі ?... С. 18. Дзеянні атамана Дубіны цяжка падвесці пад паняцце паў-стання50. Сумняваўся Капыскі і ў тым, што віцебская арганізацыя РСДРП рэ-гулярна праводзіла сходы рабочых. «С. 44. Цяжка ў гэта паверыць, калі ўлічваць нелегальнае становішча, паліцэйскія пераследаванні». Заўвагі, указаныя ў рэцэнзіі, былі ўлічаны толысі часткова. Шмат ідэалагічных штампаў засталіся на яе старонках. 1000-гадовы юбілей не ўдалося «прапіярыць» у папулярньш на тыя часы маскоўскім часопісе «Новый мнр». На прапанову В. Міхельсона аб размяшчэнні ў выданні адпаведнага артыкула старшы рэдактар аддзела публіцыстыкі В. Елісеева адказала: рэдакцыя ахвотна друкуе артыкульі кіраўнікоў партыйньіх арганізацый, звязаныя з распрацоўкай праблем эканамічнага і ідэалагічнага характара... артыкулы ці нарысы, прымеркаваныя да юбілеяў гарадоў, «Новыймыр» звычайна не дае61. Да святкавання Віцебская ратуша магла быць адноўлена ў аўтэн-тычным выглядзе другой паловы XVIII ст. са спічастай, гатычнай вежай з флюгерам. Па шэрагу прычын ён не быў ажыццёўлены. Выгляд яе не змяніўся. Замест гатычнай вежы і цяпер наверсе знаходзіцца ратонда. Праўда, цяпер, замеет пяціканцовай зоркі на макаўцы ўстаноўлены флюгер з легендарнай датай заснавання горада. Реценаая 3. Ю. Копысского ва техст юшш «Внтебск. Нсторшсо-экономнчесюш очерк». 287 егранвц мапшнопшш. С. 10—11. Захоўзеецца ў асабістьім архіве А. I. Навумчыка ш Маецца на ўвазе казадкі атаман Дубіна, атрад якога разрабаваў горад, калі ішоў у паход у ІІрыбалтыку. У1602 г., калі атрад вяртаўся, жыхары Відебска разбілі атрад, а атаыана пасадзілі на палі на Заручаўскіх Валатоўхах. 51 Адказ на ліст Міхельсона В. В. Захоўваецца ў асабістьш архіве А. I. Навумчыка. ДПГМР Я 9П14 1ЯЧ МІКАЛАЙ ПІВАВАР «ТЫСЯЧАГАДОВЫЯ» НАЗВЫ /■ ГІадрыхтоўка да святкававгня істотна паўплывала на тапашміку го* рада. Да юбілею былі перайменаваны 18 вуліц і 2 плошчы. Атрьшалі назву 7 мастоў і 2 пуцеправоды. З’явіліся новыя плошчы — Перамогі $ Пралетарская. Атрымалі назву масты горада: Кіраўскі, імя Блахіна, імц Шмырова, Пушкінскі, Кастрычніцкі, Баўманскі, Юбілейны і нуцеіфа-воды: па Гарадоцкай шашы — Полацкі, па вул. Някрасава — Металіс-таў, па вул Горкага — Першамайскі52. Дарэвалюцыйнаму мінуламу былі прысвечаны тольхі дзве назвы; Замкавая і дзекабрыста Івана Гарбачэўскага, які з 1808 па 1817 г. вучыў-ся ў Віцебскай гімназіі. Іншыя атрымалі назвы ў гонар ініцыятараў уста-лявання савецкай улады ў горадзе: Акіма Берасценя, Міхаіла Еўсцігне-ева, Іосіфа Варэйкіса, камісара Крылова. Вуліцы 39-й, 43-й Армій, Карла Шрадара, Аляксандры Вінаірадавай, Сцяпаяа Вастрацова ўшаноўвалі ролю сааецкіж войскаў у вызваленні Віцебска ў 1944 г. Ленінградская, Пскоўская, Смаленская, Зялёнаіурская, Маскоўскі праспект падкрэслі-валі пабрацімства з савецкімі і польскімі гарадамі. Каб не было блытан ны з Маскоўскім праспектам, Маскоўская вуліца была перайменавана ў вул. Працы. Вуліца Прамысловая атрымала назву першай жанчыны-касманаўта В. Церашковай. ★ ★ ★ Што ж атрымаў горад ад святкавання міфічнай даты? На гэтае пы-танне складана даць адназначны адказ. 3 аднаго боку, гістарычная за-будова цзнтра горада, асабліва па вул. Леніна ад плошчы Свободы да вул. Савецкай, была знішчана. Быў знееены будынак педінстьпута (бы-лая Аля кеандраўская гімназія). Але наўрад ці старасвецкая забудова за-хавалася б без правядзення святкавання. Вуліца Леніна ад моста праз Віцьбу да вуліцы Савецкай была вельмі вузкай. Каля вул. Маякоўскага ў час руху трамвая грузавыя аўтамабілі павінны былі саступаць дароіу. Вось тыповы прыклад тагачаснага стаўлення да помнікаў даўніны: У вшпебского ЗАГСа на ул. Ленііна уродлыво вьісятся стены полуразрушенной церквы. До Октябрьской революціш Покровская церковь являлась форпостом велыкодержавной реакцші черносо-тенного союзарусского народа... В ней собыралысь банды черносо-тенцев ы решалы своы грязные дела... Неужелн ы к славному 1000- “Віцебскі рабочы. 1974. 22 студэ. 184 АНСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў 1974 Г. летпнему юбнлею нашего города ее не уберутп с глаз долой нашей молодежы. Мы счытпаем, чтпо архіхтектору города надо серьезно подумать к лыквіідыровать самый безобразный уголок нашего го-рода53. Дзякуючы з’яўленню матэрыялаў (буклетаў, паштовак, значкоў, суве-кіраў), прысвечаных гістсрыі Віцебска, хай зболынага і савецкан, віцяб-ляне зацікавіліся гісторыяй свайго горада. У ліпені 1973 г. завершана будаўніцгва мясакамбіната, пачата будаўніцтва тралейбуснага дэпо на 100 машын. У жніўні 1973 г. уведзены ў эксплуатацыю Юбілейны мост праз Віцьбу. У лістападзе 1973 г. адбылося адкрыццё трамвайнага руху па маршруце пр-т Фрунзэ — вул. Гагарына, адкрыта Віцебская аблас-ная псіхіятрычная клінічная бальніца (пасёлак Віцьба), уведзены новы будьгаак педінстытута (арх. В. Зубаў, 3. Конаш, інж. Б. Міхлін). У 1973 пачалося будаўніцтва новага памяшкання ЦУМа. Гэты ж год — пачатак будаўніцтва моста праз Дзвіну. Віцебск, як і любы іншы горад, мае свае архітэктурна-культурныя маркеры. У кожнага часу яны свае. Знікненне любога з іх — гэта страта, з’яўленне новых — новая старонка гісторыі горада. Пад імі жывуць, яны падсвядома ўплываюць на гараджан, успрыняцце гасцей горада. У роз-ныя часы для Віцебска гэта былі гара Ламіха, Ратуша, Аляксаедраўская гімназія, Мікалаеўскі сабор, помнік 1812 г., «сіні» дом, вакзал, плошча Перамогі і іншыя. 3 падрьіхтоўкай да 1000-годдзя горада з’явіліся но-выя архітэктурныя маркеры горада: плошча Перамогі і мемарыяльны комплекс у гонар вызваліцеляў, масты праз Дзвіну і Віцьбў, гасцініца «Віцебск», жылыя дамы на пр. Чарняхоўскага (16-павярховы дом, адзін з першых вьппьшных жылых будьшкаў у рэспубліцы) з кінатзатрам «Беларусь» і на вул. Леніна з рэстаранам «Аўрора» (вул. Леніна, 53, ця-пер «Паўночная сталіца»), дом з крамай «Дзіцячы свет» на Маскоўскім праспекце. Былі рэканструяваны вул. Леніна, Замкавая, праспекты Маскоўскі і Люднікава. На пачатку 1970-х гг. горад змяніўся і стаў такім, якім яго пабачылі наступныя пакаленні гараджан. Першыя тры паласы руху на Маскоў-скім праспекце, першыя падземныя пераходы, першыя ў горадзе святла-форы з бакавой зялёнай стрэлкай. Лозунг на будынку «Дзіцячага све-ту» — «Подвнг советского народа бессмертен», пад якім выраслі два пакаленні віцяблян, быў усталяваны ў 1974 г. Цэнтр горада амаль не змяняўся на працягу амаль 40 гадоў: толькі будаўніцтва ў сярэдзіне 1980-х гг. летняга амфітэатра трошку змяніла яго. Новая змена адбыва- 53 ДАВР. Ф. 2222, воп. 4, спр. 130, арк. 29. Ліст А. I. Радкевіча ў гарсавет. АРСНЕ 3 2014 185 МІКАЛАЙ ПІВАВАР едца з пачатку 2000-х г., калі быў адноўлены Успенскі сабор, ВаскрасеШ ская дарква, праведзена рэканструкцыя плошчы Перамогі і створаяі Алея воінскай славы, добраўпарадкаваны ўзбярэжныя Відьбы, Дзвіньг узведзены будынкі «Духаўскага кругліка», «Марка-сіці». ДАДАТКІ Новыя назвы на карце горада Старая назва Новая назва . > 1. Саратаўская Дзекабрыста Гарбачэўскага 2. Акруговая А. Берасценя 3. 1 -я Калектыўная 1 Шрадара 4. 2-я Прадзільная Сцяпана Вастрацова 5. Крылова Камісара Крылова 6. 2-я Суражская Варзйкіса 7. Шпітальная Еўсцігнеева 8. 1 -я Смаленская Смаленская 9. 3-я Сацыялістычная 39-й Арміі 10. 12-я Гарадоцкая Пскоўская 11. 17-я Гарадоцкая Вінаградавай 12. Нова-Астровенская Зялёнагурская 13. Маскоўская Працы 14. Ленінградская 43-й Арміі 15. Прамысловая Валянціны Церашковай-Нікалаевай 16. Смаленская шаша Маскоўскі праспект 17. Гарадоцкая шаша Ленінградская 18. Частка вул. Кірава (ад маста Замкавая праз Дзвіну да плошчы Свабоды) План работ па добраўпарадкаванні I будаўніцтве $ г. Віцебску з нагоды падрыхгоўкі святкавання 10ОО-годдзя (у тыс. рублёў) N9 Найменаванне работ Аб’ём Кошту Прыблізны Тэрмін вы- п/п адзінках кошт канання I. Капітальныя ўкладанні 1. Рэканструкцый вул. 1000 п.м. 26,0 52,0 1973 г. Леніна (ад вул. Савецкай 2000 м2 да пл. Свабоды) 2. Знос дамоў па вул. Леніна 15 000 м3 8,0 120,0 1971 186 АНСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў 1974 Г. 3. Добраўпарадкаванне 40 000 мг 20,0 800,0 1972-1973 схілаў р. Віцьба ўздоўж вул. Леніна (вул. Савец- кая --- пл. Свабоды) з будаўніцтвам дарожак, тэрас і лесвіц 4. Будаўніцтва ўмацаванняў 3000 п.м. 90,0 270,0 1972---1973 берагоў р. Віцьба (на участку ад вул. Савецкая да пл. Свабоды) 5. Паглыбленне і расчыстка 27 000 м3 0,40 1.1,0 1972-1974 рэчышча р. Віцьба грунта, (на ўчастку ад вул. Савёц- 1500 п.м. кая да рэчышча) 6. Праект 10,0 1971-1972 добраўпарадкавання схілаў, умацаванне берагоў р. Віцьба (на участку ад вул. Савецкая да пл. Свабоды) 7. Пешаходны мост праз 100 п.м. Праект. 3,0 1971- р. Віцьба ад вул. Леніна Будаўн. 60,0 1973 да парка Фрунзэ 8. Знос аднапавярховых 4000 м3 6,0 24,0 1972 дамоў уздоўж абодвух берагоў р. Віцьба (ад вул. Савецкай да пл. Сва- боды). Кошт вылучанай наўзамен жылой плошчы 9. Рэканструкцыя дзіцячага 8 га 10000 80,0 1972-1974 парку (узбярэжная Дзвіны) 10. Рэканструкцыя сквера 0,5 га 12000 9,0 1972---1973 каля помніка 1812 г. 11. Добраўпарадкаванне Тэа- Пакр. 0,75 га 26,0 20,0 1972---1973 тральнай плошчы Сквер 4 га 12 000 48,0 12. Рамонт фасадаў будынкаў 20 000 м2 1,5 30,0 1972---1973 вул. Кірава 13. Выраб праекта панара- . 10 000 м3 25,0 1972-1973 мы вызвалення Віцебска (каля кінатэатра «Пёра- мога») АРСНЕ 3 2014 187 МІКАЛАЙ ПІВАВАР 14. Добраўпарздкаванне 4,5 га 12 000 54,0 1973---1974 ўзбярэжнай (левага бера- га) ад Кіраўскага да Сма- ленскага моста --- парк • 1000-годдзя горада 15. Умацаванне берагоў ракі 2000 п.м 15,0 30,0 1972---1974 Дзвіна мастамі, абодва берагі 16. Будаўніцтва вул. Кірава 900 мг 26,0 25,0 1974 (цяпер Замкавая, ад Тэа- праезжая тральнай плошчы да гш. частка Свабоды) 17. Будаўніцтва вул. 1-я Сма- 20 000 мг 20,0 480,0 ленская на ўчастку ад праезжая Смаленскай шашы да вул. частка Праўды У выніку па раздзелу «А» 309,9 2586,0 II. Добраўпарадкаванне 1. Добраўпарадкаванне 1,5 га 100,0 15,0 1973-1974 'пляцоўкіўмежах будаўніцтва жылога дома на 66 кв. па вул. Леніна, вул. ІІІчарбакова- Узбярэжная, Тэатральная пл. 2, Рэканструкцыя сквера на 1,5 га 1000 15,0 1972 плошчы Свабоды 3. Добраўпарадкаванне 3,5 га 14000 49,0 1972-1974 Верхняй Узбярэжнай на Успенскай горцы і схілаў ад р. Віцьба да парка 4. Праектаванне і 50,0 1972-1974 будаўніцтва помніка гене- ралуДаватару 5. Афармленне ўездаў у го- 5,0 1974 рад «Віцебску 1000 гадоў» 6. Паглыбленне і расчыстка 600 000 м3 0,4 240,0 1972-1974 рэчышчаДзвіны 2000 п.м. 7. Добраўпарадкаванне 40 000 мг 15,0 600,0 1972-1974 ўзбярэжнай ад гасцініцы «Дзвіна» да піўзавода 8. Добраўпарадкаванне 30 000 м2 8,0 240,0 1972---1974 санітарнай зоны між Сма- ленскай шашой і заводам імя Кірава 188 АВСНЕ 3 2014 СВЯТКАВАННЕ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў 1974 Г. 9. Рамонт і афарбоўка фасадаў будынкаў па вул.: 60000 м* 1.0 60,0 1972-1974 пр. Фрунзэ 22 000 м2 1.0 22,0 пр. Смаленская шаша 18000 мг 1,5 27,0 вул. Леніна 22 000 мг 1.5 33,0 пр. Чарняхоўскага 20 000 м2 1.0 20,0 вул. Горкага 10 000 м2 1.5 15,0 вул. Герцэна 10. Рэсгаўрацыя і рамонт фасадаў будынкаў 2500 м2 2,5 6,25 1973 кінатэатр «Кастрычнік» ЮОООм2 2.5 2,5 197'2 кінатэатр «Мір» 1000 м2 2,5 2,5 1972 кінатэатр «Усход» 8000 м2 3,5 27,0 1972 вакзал 800 м2 3.6 1,8 1972 драмтэатр 2,0 1972 капоны на Кіраўскім мос- 3500 м2 2,6 9,1 1972 це 3500 м2 2,6 9,1 1973 дом па вул. Даватара 2000 м2 2,5 5,0 1973 4-ы Камунальны па вул. 3000 м2 3,0 9,0 1973 Савецкай 3500 м2 3,0 10,5 1973 гасцініца «Савецкая» 4500 м2 2,0 9.0 1973 5-ы Камунальны (вул. Акадэміка Паўлава) 6-ы Камунальны (вул. Горкага) жылы дом па вул. Смален- ская шаша 11. Асфальтаванне праез- най часткі, тратуараў і добраўпарадкаванне зя- 110 000 м2 8,0 880,0 1972-1973 лёных зон вуліц 160 000 м2 8,0 1280,0 1972-1973 вул. Фрунзе 300 000 м2 8,0 240,0 1972---1973 вул. Гагарына 50 000 м2 8,0 400,0 1974 вул. Герцэна 30 000 м2 8,0 240,0 1972 вул. Горкага 75 000 м2 8,0 600,0 1973 вул. Акадэміка Паўлава 30000 м2 8,0 240,0 1973 вул. Касманаўтаў 10 000 м2 8,0 80,0 1973 вул. Савецкая вул. Гараўца У выніку па раздзелу «Б» 240,2 5445,75 Усяго: 550,1 8031,75 *** СВЯТКАВАННЕ 1000-ГОДДЗЯ ВІЦЕБСКА Ў 1974 Г. (МІКАЛАЙ ПІВАВАР) Святкаванне праходзіла ў канцы лета — пачатку восені. Але фактычна яно пачалося 30 чэрвеня 1974 г. ®, калі адбылося святочнае адкрыццё мемарыяльнага коміхлексу ў гонар савецкіх воінаў- ызваліцеляў, партызанаў і падпольшчыкаў Віцебшчыны (архітэктар Юрый Шпіт, скульптары Б. Маркаў, Я. Печкін). На святкаванне прыехала больш за тысячу ветэранаў, каля 40 генералаў. Быў пісьменнік Уладзімір Карпаў, які ў гады вайны служыў разведчыкам і атрымаў званне Героя Савецкага Саюза за баі пад Віцебскам. 3 25 жніўня па 1 верасня праходзіла юбілейнае свята масгацтваў. У яго межах былі арганізаваны выстава «Віцебск у творчасці беларускіх мастакоў», рэспубліканская выстава кнігі, фотавыстава «Віцебск учора, сёння, заўтра», свята самадзейнага мастацтва. 28 жніўня 1974 г. быў выдадзены Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні г. Віцебска «за поспехі ў выкананні планаў 9-й пяцігодкі, а таксама ў сувязі з 1000-годдзем» ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга (першапачаткова,, як мы памятаем, планавалася ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцы). 29 жніўня ў драматычным тэатры адбылася прэм’ера п’есы Ул. Караткевіча «Званы Віцебска». 30 жніўня — 1 верасня адбыліся святочныя мерапрыемствы: масавыя шэсці да помнікаў і братскіх могілак савецкіх воінаў, партызан і падпольшчыкаў, выступы самадзейных і спартыўна- мастацкіх калектываў, марш-парад духавых аркестраў, тэатралізаваныя прадстаўленні. Упершыню было арганізавана воднае свята. Яно адбылося каля Кіраўскага моста 31 жніўня і мела назву «Віцебскія агні». (Згодна з летапісам, менавіта каля сутокі Віцьбы княгіня Вольга прыплыла па Дзвіне на ладдзі ў месца, з якога вырас горад. Цяпер гэтае свята стала традыцыйнай часткай святкавання Дня горада.) На адмысловай платформе было спалена пудзіла «эксплуататара», вайсковы аддзел фарсіраваў раку, затым спалілі пудзіла Гітлера і пудзіла «імперыяліста». Увечары адбыўся феерверк. 31 жніўня прайшоў святочны мітынг з ускладаннем кветак. У шэсці святочнай калоны ад плошчы Леніна да плошчы Перамогі ўзялі ўдзел 20 тысяч чалавек. На адмысловых аўтамабільных платформах былі прадстаўлены інсцэніроўкі з гісторыі горада. У тэатры імя Якуба Коласа адбылося ўрачыстае пасяджэнне Віцебскага гарсавета, прадстаўнікоў партыйных і грамадскіх арганізацый, вайскоўцаў Савецкай Арміі, гасцей, на якім выступіў першы сакратар ЦК КПБ П. М. Машэраў. На ім ён уручыў гораду ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга. На мерапрыемствах прысутнічала 150 ганаровых гасцей, у ім бралі ўдзел дэлегацыі Мінска, Смаленска, Пскова, Каўнаса, гарадоў Украіны, Прыбалтыкі, з Франкфурта-на-Одэры (ГДР), Зялёнай Гуры (ПНР), ветэранскія арганізацыі частак і злучэнняў, якія ўдзельнічалі ў вызваленні горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, творчыя і іншыя арганізацыі. Увечары на Летняй эстрадзе адбыўся канцэрт ансамбля «Песняры». Святочны канцэрт быў вытрыманы ў духу пануючай ідэалогіі. Ён пачаўся з выканання зводным хорам песні «Велічальная Віцебску», а скончыўся спевамі кантаты Б. Рунова «Вялікай партьгі — слава!» . Вось цытата з яго сцэнарыя: Заслона адкрываецца. На задніку сцзны выява шкатулкі. У левым кутку герб Віцебска. Танцоры выконваюць харэаграфічную карцінку «Віцязі», «Станаўленне крэпасці Віцебск». Вядучы: «Рашэннем князя віцебскага (вылучана мной. — Аўт.) утворана дружына для абароны крэпасці віцебскай ад варожых набегаў» . ============= часопіс АРСНЕ 3 2014 189
|
| | |
| Статья написана 2 июня 2017 г. 10:37 |
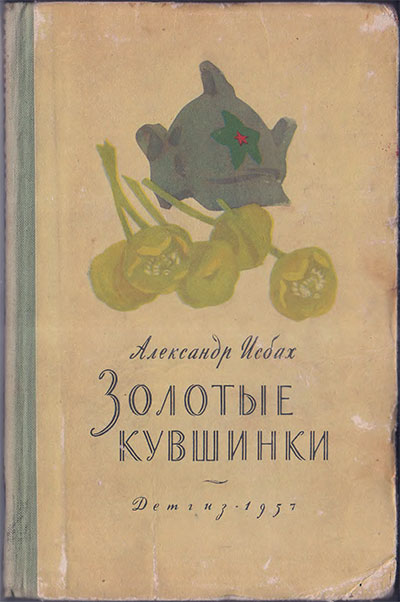


ОГЛАВЛЕНИЕ Бог..... 3 Расстрел . . . 106 Джиу-джитсу ...8 Песок 115 Царский рубль. . .27 Золотые кувшинки 122 Чайльд Гарольд . 37 Музы 127 Сын чести .....47 Университет 147 Листовки....... 56 Белочка . . . 152 Строитель.... .64 Крестины 159 Театр......... 75 Докладчик 166 Бетховен... 87 Горе..... 176 "Путешествие на Луну"...100 Костер....180 Для старшего возраста. Исбах Александр Абрамович ЗОЛОТЫЕ КУВШИНКИ Ответственный редактор 3. С. Карманова. Художественный редактор О. В Демидова. Технический редактор И. 3. Левинская. Корректоры И. В. Белякова н Л. А. Кречетова. Сдано в набор 10/У 1957 г. Подписано к печати 15/УН 1957 г. Формат 81X 108 1/32— 12 печ. л. 9.86 уел. печ. л. (8.25 уч.-ичд. л.). Тираж 75 000 экз. А(1Г)Ю2 Заказ № 2450. Цена 3 р. 50 к. ***** БОГ 1 Мне было восемь лет, когда умер отец. Он совсем не болел и умер неожиданно, от разрыва сердца... Я не понимал, как это может разорваться человеческое сердце. Никогда ещё я не видел смерти и не думал о ней. Когда наша квартира наполнилась людьми, которые громко, деловито говорили, спорили, распоряжались, мне стало горько и тягостно. «А может быть, всё это сон?.. Вот проснусь — и всё станет по-прежнему: отец не будет лежать вытянувшись на кровати, мама, как всегда, ласково улыбнётся, и чужие люди исчезнут из нашей квартиры». Я убежал в переднюю, спрятался за вешалкой, закрыл глаза и долго сидел там. Сегодня должны были принести мой новый форменный костюм с белыми блестящими пуговицами. Сегодня мы собирались пойти с папой покупать фуражку с гербом и пояс с медной пряжкой. Я бы сразу надел фуражку и туго затянул пояс. Мы прошли бы по Липовой улице, и папа гордился бы, что его сын—ученик приготовительного класса липерской гимназии имени Александра I Благословенного. Теперь портной принесёт костюм, его возьмут чужие люди и небрежно бросят в сторону. Разве до него сейчас в доме, где умер человек!.. — Боже! — умолял я, уткнувшись головой в полу чьей-то шубы, пропахшей нафталином. — Боже! Я прочту без ошибки весь молитвенник, я не пропущу ни одного слова, но сделай так, чтобы всё было по-прежнему! Боженька, я прошу тебя! Я буду честно поститься в судный день, только сделай так, чтобы папа не умер! Я прошу тебя, боже! Ну, сделай... Не помню, как долго я сидел за вешалкой. Меня обнаружили, когда толстый рыжебородый Соломон Розенблюм снял своё пальто. — Вот он! — сердито сказал Соломон Розенблюм. — Его ищут по всему городу, а он играет в прятки. — Не нужно так резко, господин Розенблюм! Не нужно так резко! — сказала маленькая тётя Эсфирь. — Мальчик теперь сирота. А мама, моя мама, ничего не сказала. Она смотрела на меня скорбными, запавшими глазами. Она так смотрела на меня, что я понял: бог не захотел исполнить мою просьбу. Соломон Розенблюм считался самым богатым евреем в нашем городе. Он был староста синагоги. Он никогда не бывал у нас дома. Моё знакомство с ним ограничивалось одним неприятным событием: Веня Розенблюм проиграл мне орехи и пожаловался отцу; рыжебородый староста, не разобравшись, в чём дело, сильно дёрнул меня за ухо. Оно долго потом болело. А теперь господин Розенблюм как хозяин распоряжается у нас в доме. И все подчиняются ему. Как это случилось? Почему? Но я был слишком расстроен, чтоб суметь разобраться во всём этом. На кладбище собралось много народу. Синагогальный шамес (служка) Дувид Бенцман суетился, то и дело подбегал к Розенблюму, а тот резким голосом отдавал распоряжения. Лопаты с трудом вонзались в каменистую землю, и могилу не успели выкопать до нашего прихода. Я стоял около мамы и заплаканной сестры, смотрел, как срывались с лопат жёсткие комья земли. Мне хотелось убежать отсюда, от этой ямы, от этих чужих людей, от рыжего Соломона Розенблюма. Было жутко среди могил, железных решёток оград, торжественных надгробных надписей, высеченных на камнях. Тёплая рука мамы сжимала мою руку. «Мама! —хотелось крикнуть мне. — Я боюсь этих людей с лопатами. Уйдём, милая мама!.. Я знаю дыру в кладбищенской стене. Мы можем убежать...» — Реб Дувид, — сказал Соломон Розенблюм, — приготовьте мальчика к кадышу. Дайте ему в руки молитвенник. Меня оторвали от матери и дали старый, затрёпанный молитвенник. Реб Дувид раскрыл его на странице, которую я обычно пропускал: там была поминальная молитва об умерших — кадыш. Реб Дувид нагнулся надо мной, и его чёрная борода касалась моих щёк. — Прочти сначала про себя, Сендер, — почти ласково сказал мне шамес. — Реб Дувид, надо было мальчика подготовить раньше, а не в последний момент! — громыхал Соломон Розенблюм. — Когда раньше, господин Розенблюм? Когда раньше? — всплеснула руками маленькая тётя Эсфирь. — Побойтесь бога, господин Розенблюм! Тело отца в белом саване оказалось совсем рядом. Мать вскрикнула, и тётя Эсфирь бросилась к ней. Кто-то громко заплакал. Всё смешалось в моих глазах, я чуть не упал. Опять замелькали в воздухе лопаты. Мама закрыла лицо рукой. Соломон Розенблюм что-то сердито говорил мне, но я ничего не понимал. Ни одно слово не доходило до меня. — Читан же, читай!—ткнул пальцем в молитвенник реб Дувид. — Читай кадыш! — Реб Дувид, — загремел Соломон Розенблюм, — будет этот мальчишка читать кадыш или он хочет, чтобы это сделал я за него? — Сашенька... — нагнулась ко мне тётя Эсфирь, — Сашенька, читай вот эту страницу. Так нужно. И я начал читать. Я стоял над свежезасыпанной могилой, тупо смотрел в молитвенник и читал заупокойную молитву, путаясь и запинаясь на трудных и непонятных мне словах: — «...Да возвеличится и да святится великое имя...» Над свежей могилой отца я славил имя всемогущего бога. — Ну, кадыш был слабоват! — сказал господин Розенблюм. — Ничего, привыкнет ещё... Так, в преддверии девятого года жизни, кончилось моё детство. 2 Соломон Розенблюм оказался прав: я привык. Три раза в день — рано утром, перед закатом и поздно вечером — я спешил в синагогу. Три раза в день в мою жизнь врывался кадыш. Мне уже не нужен был молитвенник. Если бы меня разбудили ночью, я без запинки отчеканил бы: «Да возвеличится и да святится...» Очевидно, он был очень взыскателен и требователен, этот бог, если столько раз на дню приходилось славить и величать его. Но тогда я не задумывался над этим. Это было бы кощунством. Отношения с богом у меня были сложные и запутанные. Среди всех моих чувств к нему преобладал страх. Бог был всемогущий. Он был всевидящий. Ничто не могло укрыться от него. При отце можно было перевернуть несколько скучных страниц молитвенника, чтоб скорей покончить с длинным праздничным молением. Отец бы не заметил. Да, признаться, он смотрел на такие дела сквозь пальцы. «Э... одной молитвой больше... одной меньше...» Но бог... Он всё заметит... Он не простит. И я боялся. Раньше между мной и богом стоял отец. Это было как-то легче и спокойнее. Теперь же я остался с богом один на один. Лицом к лицу. Он мог наказать всех нас — и мою маму, и мою сестру. Я твёрдо был уверен в этом и боялся пропустить в молитве хотя бы одно слово. У меня не было теперь постоянного места в синагоге. Место отца заняли, мать в синагогу не ходила, и во время праздничных богослужений я устраивался где-нибудь сбоку. Никто не следил за мной, можно было убежать во двор и играть в орехи. Но этого бог никогда не простил бы. Я стоял в углу и без конца шептал горькие и тоскливые слова молитв. — «За грех, которым согрешили наши предки в земле египетской!» — громко восклицали евреи и били себя в грудь. Я не чувствовал особой ответственности за старые египетские грехи, но тоже восклицал вместе со всеми и тоже больно, чтоб не обмануть бога, бил себя в грудь. Мало кто замечал меня здесь, в синагоге. Только реб Дувид иногда, проходя мимо, одобрительно помахивал бородой. Я боялся бога, но я и требовал от него. Я был уверен в том, что он всемогущ. Как-то я потерял свою любимую игрушку — маленький никелированный компас. Этот подарок отца был очень дорог мне. Целый день я просил бога, чтобы компас нашёлся. И когда мама, подметая пол, действительно нашла компас, я решил, что бог услышал меня. По вечерам, перед сном, я долго стоял, закрыв глаза, прижавшись к спинке кровати. Я просил бога, чтобы мама не болела, чтобы мне поставили хорошую отметку по чистописанию, и о том, чтобы вырасти и не быть таким маленьким. И хотя бог молчал, я был уверен, что мои молитвы доходят до него. — Сашенька... — говорила мама, — довольно, Сашенька. Ты опять не выспишься. Я ложился и уже в кровати перебирал в памяти, обо всём ли попросил бога. Рано утром, захватив ранец с книгами, я спешил в синагогу на раннюю молитву. Синагога была пропитана затхлым, никогда не выветривающимся запахом старых, пропылённых книг и нюхательного табаку. В полутьме тускло мерцали оплывшие толстые свечи над пюпитром кантора, перед доской с десятью заповедями. Огромные шкафы хранили пожелтевшие, старые книги талмуда и свитки торы в плюшевых и бархатных чехлах. На всём лежал густой, вечный слой пыли. Два десятка евреев в белых с чёрными полосами выцветших покрывалах, с большими чёрными кубиками на лбах и кистях волосатых рук, раскачивались в молитве, протяжно подпевали кантору ноющими голосами, изредка били себя в грудь, ожесточённо плевали на пол и растирали плевки ногой. Я сбрасывал ранец, быстро наизусть произносил слова молитв. Потом подходило время для кадыша. Я пробирался ближе к кантору и вместе с другими сиротами (иногда их собиралось человек пять—шесть, были между ними и солидные, бородатые люди) выкрикивал слова заупокойной молитвы, опять и опять славя имя бога. Так должно было продолжаться целый год. Триста шестьдесят пять дней. И в каждый из этих трёхсот шестидесяти пяти — по три раза. Я кончал читать кадыш. Все говорили «аминь» и расходились по своим делам. Для того чтобы молитва дошла до бога, на ней должно было присутствовать не менее десяти человек — миньён. Бывали дни — евреи запаздывали. Я стоял в синагоге, дрожа от нетерпения: до начала занятий в гимназии оставались считанные минуты. Наконец я скороговоркой выкрикивал молитву и стремглав выбегал из синагоги. ...Самым большим врагом моим был учитель пения, чистописания и немецкого языка — Фёдор Иванович Сепп. Говорили, что он, несмотря на своё немецкое происхождение, состоял в «Союзе русского народа». Я не представлял себе назначения этой организации. Но когда и сейчас вспоминаю Фёдора Ивановича — высокого, худого, с остроконечной бородкой (в классе его звали Козлом),— ненависть закипает во мне. У нас в приготовительном классе было всего четыре еврейских мальчика, попавших в гимназию по процентной норме. Для трёх из этой четвёрки у Фёдора Ивановича была задумана сложная система издевательств. Не трогал он лишь одного — Веню Розенблюма. — Ну, Аронштам, — спрашивал Сепп маленького, худенького Изю Аронштама, сына городского аптекаря, — как дела с касторкой? — и подмигивал классу. Многие приготовишки смеялись. Только плотный, коренастый Ваня Фильков, мой приятель и сосед по парте, сын учителя городской школы, сжимал кулаки и жарко шептал мне: — Вот сволочь! Вот гадина! — Ну и тетрадь! — издевался Сепп, показывая всему классу тетрадку Аронштама, испещрённую бисеринками неровных букв. — Ты что, пером писал или клизмой? ...Швейцар гимназии в расшитой золотом ливрее, глядя на меня, неодобрительно чмокает. Я взлетаю вверх. Высокие коридоры пусты. Занятия начались. В страхе открываю дверь. Первый урок — чистописание. Фёдор Иванович ходит между партами. Он делает вид, что не замечает меня. Я долго стою у двери, не решаясь пройти на своё место. Ваня Фильков сочувственно моргает мне. Я легонько кашляю. Фёдор Иванович оборачивается, словно только теперь замечает меня. Он изумлённо раскрывает глаза и разводит руками: — Ах... господин Штейн!.. Господин Штейн оказал нам честь — посетил наши занятия. Здравствуйте, господин Штейн! Смешки слышатся в разных местах класса. Я вижу, как заливается на первой парте Веня Розенблюм. Мне обидно и горько. Сердце сильно бьётся. Я так бежал! Но я молчу... — Извините, что мы начали без вас, господин Штейн! — продолжает издеваться Сепп. — Вы были так заняты. Вы зажигали свечки в синагоге... И опять смешки... Я прохожу на своё место. Лицо моё горит. — Ничего, Саша, ничего! — тихо шепчет мне Ваня Фильков. — На два часа без обеда! — кричит учитель чистописания. Иногда после занятий мы уходили с Ваней Фильковым на большие песчаные отмели, тянувшиеся вдоль реки. Осень стояла хорошая, тёплая. Мы сбрасывали ранцы, ложились на песок и фантазировали. — Вот было бы хорошо, если бы твой папа был у нас вместо Фёдора Ивановича! — мечтал я. — Ну да, жди! —угрюмо замечал Ваня. — Так его и пустят в гимназию! — А что, если бы Козёл вдруг умер? «Нельзя ли попросить об этом бога на вечерней молитве?» — думал я. Солнце ласково грело. Вода журчала у самых наших ног. Мы скоро забывали и о Фёдоре Ивановиче, и о наших обидах. С увлечением сооружали гигантские, как нам казалось, плотины, выкапывали широкие каналы и возводили над ними мосты. Мы строили города из песка и щепок. Как радовались мы, когда первый бумажный кораблик гордо прошёл по широкому каналу и пришвартовался в главном порту! Солнце на горизонте уже коснулось реки, когда Ваня всплеснул руками: — Саша! Ведь ты опоздаешь на молитву! Ваня любил меня и тоже немного боялся божьей кары. Я в ужасе вскочил и помчался вверх, в гору. Ваня Фильков, схватив наши ранцы, бежал рядом со мной. Позади остался наш чудесный игрушечный город с портами и каналами, наш собственный мир — без синагог, без молитв и без Козла. Холодный осенний дождь лил третий день без передышки. Я сидел с Ваней Фильковым над арифметическим задачником Малинина и Буренина. Молодого, весёлого математика Владимира Андреевича Сенченко мы очень любили и уроки для него готовили всегда с особой тщательностью. С помощью Ваниного отца мы благополучно справились с задачей о встрече пешехода с велосипедистом на перепутье между двумя городами. Выучив наизусть басню Крылова «Мартышка и Очки», мы несколько раз прочли её вслух друг другу и посмеялись над незадачливой обезьяной. Потом просмотрели картинки «Астрономии» Фламмариоиа, лежащей на столе Ваниного отца, и сложили книжки в ранцы. Тогда-то в мирной квартире Фильковых запахло пороховым дымом. Вчера ещё бывший Аустерлицем, большой чёрный стол сегодня стал Бородином. Прославленные герои Отечественной войны, бряцая оружием, выехали на Бородинское поле. Наполеоном Бонапартом был я, Кутузовым — Ваня Фильков. Сотни деревянных фигурок всевозможных форм и размеров — наши великие армии — расположились на столе по всем правилам тактики. Маршал Ней — полосатый колышек от настольного игрушечного крокета — обозревал свои войска с высокого юбилейного тома истории Отечественной войны. Маршал Даву — шахматный конь — скакал перед фронтом моей личной, наполеоновской, гвардии. Блестящие мои войска были готовы к бою. Они ещё ничего не знали о жутком холоде березинской переправы и последних залпах ватерлооского сражения. Наступил день генеральной битвы. Я видел, как на другом конце стола совещался Михаил Илларионович Кутузов со своими генералами. Высокая, тощая фигура Барклая де Толли (кегельный двухголовый король) возвышалась над всеми. И я приказал своим бомбардирам открыть огонь. Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий Французы двинулись, как тучи... Я во весь голос подавал команду, едва успевал менять пистоны в пушках, сложными манёврами направлял войска и тыл противнику. У Кутузова накопился огромный запас кегельных шаров, то есть ядер. Мудрый старик понимал значение ка-лнбра в нашем сражении. Он послал в атаку лучшие свои войска под командой Дениса Давыдова. Партизан Денис Давыдов полюбился мне давно. Читая книги об Отечественной войне (усиленно издававшиеся в 1912 году, в дни столетней годовщины), я больше всего восхищался его подвигами. Хотелось бы иметь его сейчас в своих войсках... Но я был Наполеоном Бонапартом, и даже при согласии генерала Кутузова (я бы его уговорил!) мы не могли столь грубо исказить историческую действительность. Уже, вопреки исторической правде, пал под ядрами мой лучший друг — неаполитанский вице-король Мюрат и валялся с разбитой головой маршал Мармон. И тогда я двинул на Кутузова кавалерию во главе с маршалом Даву. Бой разгорелся с новой силой. Мать «генерала Кутузова» — Анна Семёновна выглянула из соседней комнаты и в ужасе покачала головой. Вам не видать таких сражений: Носились знамёна, как тени, В дыму огонь блестел... Я уже готовился торжествовать победу. Неожиданно в шум схватки ворвался резкий крик кукушки: это били большие старинные часы Фильковых. Девять раз прокуковала кукушка. В девять часов кончалась вечерняя молитва в синагоге. «Наполеон Бонапарт» сегодня забыл о своём кадыше. Я помертвел, бросил свои войска на поле битвы и позорно бежал с Бородинского поля, не надев даже пальто. Ваня Фильков нагнал меня на углу третьего квартала, набросил на мои промокшие плечи серую шинельку. «Генерал Кутузов» помогал «Наполеону Бонапарту»!.. Дождь хлестал меня по лицу. Холодный ветер пронизывал всё тело. Когда я подбежал к синагоге, у меня едва хватило сил открыть тяжёлые, массивные двери. В синагоге темно и пусто. Последняя жёлто-грязная свеча догорает перед доской заповедей. Огонёк дрожит, тень от свечи вырастает на стене до исполинских размеров. Только у задней стены за большим столом сидят несколько человек. Рыжий огонь большой шипящей и чадящей лампы освещает их морщинистые, старые лица, склонившиеся над огромными книгами. Стук двери на мгновение оторвал их от книг. Шамес всплеснул руками. — Сендер... Сендер!.. —сказал он. — Ты опоздал сказать спой кадыш. И такая тревога послышалась в его голосе, что я чуть не расплакался. — Евреи! — встревоженно продолжал реб Дувид. — Евреи, сколько нас? Мальчик должен сказать свой вечерний кадыш. Их было девять. Одного человека не хватало для миньёна. Всемогущего бога нельзя было обмануть! — Реб Дувид, — сказал я дрожащим голосом, — я найду десятого. Я сейчас вернусь. — Мальчик, — нахмурился учитель Шнеерсон, — кого ты найдёшь в этот сумасшедший дождь, в этот потоп? — Я найду, господин Шнеерсон... я найду, только не расходитесь! — умоляюще прошептал я. Дождь, кажется, ещё усилился. Ни живой души не видно на улице. Я побежал, омываемый холодными потоками, безнадёжно вглядываясь в тьму. Небо совсем почернело. Это бог гневается на меня. Бог хочет испытать меня. Я должен найти десятого! Kто-то дёрнул меня за руку. Я в испуге отшатнулся. Ваня! Ваня Фильков! Он дожидался меня. Он беспокоился обо мне. Я крепко сжал его мокрую руку. «Ну как?» — тревожно спрашивали его глаза. — Надо найти десятого, Ваня. Ты иди домой. Я сам... Но он не хотел покинуть меня. Два восьмилетних мальчика, промокших до нитки, останавливали одиноких, случайных прохожих и просили их пойти в синагогу десятым. На нас смотрели с удивлением. Последним прохожим, которого мы встретили, был Василий Андреевич Фильков, вышедший на поиски сына. Он увёл домой грустного, упирающегося Ваню. Я остался один. Мне хотелось заныть, как ноет избитый, заброшенный щенок. Когда отчаяние совсем охватило меня, неожиданно блеснула мысль: у самой синагоги живёт господин Розенблюм. Господин Розенблюм — староста. Он выручит меня. Ему ведь только перейти дорогу. Он будет десятым. Окрылённый надеждой, я вбежал на второй этаж собственного дома Соломона Розенблюма, дёрнул звонок. Долго не открывали. — Тебе кого, мальчик? — изумлённо спросила меня, чуть приоткрыв дверь, прислуга Розенблюма, Настя (она иногда водила Веню в гимназию). — Веня уже давно спит. — Г...господина Р...Розенблюма, — сказал я, заикаясь от волнения. — Он занят сейчас. А зачем тебе господин Розенблюм? — Он мне очень нужен, Настя!—умоляюще посмотрел я на неё. — Господи боже мой, да ты же совсем мокрый! — всплеснула Настя руками и впустила меня в переднюю. — Что там такое? — послышался густой голос Розенблюма. Раскрылась дверь из внутренних комнат. Оттуда хлынули свет и тепло. Там горели лампы и смеялись люди. Сам господин Розенблюм вышел в переднюю, что-то напевая. Лицо его покраснело, маленькие глаза блестели. В руке он держал несколько карт. — Ты к кому пришёл, баловник? — спросил он добродушно. — К Вене? — Господин Розенблюм... — сказал я задыхаясь. — Вы помните, господин Розенблюм, я читал кадыш на кладбище... Господин Розенблюм, не хватает десятого. Я прошу вас! — Ничего не понимаю! — затряс головой Розенблюм. Одна карта вылетела из его рук и упала около меня. Я нагнулся и поднял её. Это был пиковый король. — Ничего не понимаю! — благодушно засмеялся Розенблюм. — Какой кадыш? Какой десятый? — Соломон Исаакович! — закричали из внутренних комнат. — Ваш ход! — Для миньёна, — всё ещё надеясь, прошептал я. — Для миньёна... — Розенблюм засмеялся каким-то кашляющим смехом. — Посмотрите, какой набожный мальчик! Молодец! Хвалю! Ну, съешь сладкую булочку. Ты же сирота, и у тебя нет таких сладких булочек. Настя, принеси ему сладкую булочку. — Господин Розенблюм... разойдутся евреи... Надежда покидала меня. — Мальчик! — внушительно сказал Розенблюм. — Мальчик, гордись! Сам староста будет у тебя десятым! — Соломон! — опять позвали его. Они ушёл и больше не вернулся. Настя вынесла мне сладкую булочку и жалостливо посмотрела на меня. Я дрожал от холода и злобы. Бросив на пол сладкую булочку вместе с пиковым королём, которого я ещё держал в руке, я выругался и выскочил за дверь, В синагоге стало ещё темнее. Все разошлись. Шамес запирал в шкаф огромные книги. Он, очевидно, уже забыл про меня. — Ну... — удивлённо протянул реб Дувид, — ты вернулся? Ты искал десятого?.. А все разошлись. Не дождались тебя. Дождь, слякоть... Ну, бог тебе простит, Сендер! Иди домой. — И он ласково погладил меня по мокрой от дождя и слёз щеке. Когда я пришёл домой, мать стояла в пальто, промокшая, измученная. — Сашенька! — сказала она. — Сашенька, где ты был? Я уже бегала к Фильковым. — Мама!—зарыдал я. — Мамочка, я пропустил кадыш... Я упал на кровать, и мне казалось — сердце сейчас разорвётся, как сердце отца. Мама заботливо раздела меня, насухо вытерла, заставила выпить горячего чаю и долго сидела над кроватью, перебирая мои спутанные волосы. Всю ночь я метался в жару. Всемогущий бог, всемогущий Иегова, казалось мне, посылает на меня все свои громы и молнии. Он не может простить мой грех. Я бредил. Отец печально и горько смотрит на меня. Я его предал. Я пропустил молитву. Ангелы господни, ангелы смерти, пронзают меня своими пиками. И один из них, самый страшный и главный — может быть, это даже не ангел, а сам господь бог, — очень похож на карточного пикового короля. Нет, у него рыжая борода. Это господин Соломон Розенблюм пронзает меня пикой. Я проснулся от собственного крика. Поднялся на кровати в бреду, поднял руки к небу и хриплым голосом стал выкрикивать слова заупокойной молитвы. Я отдавал свой долг богу... ДЖИУ ДЖИТСУ 1 К прачке Ефросинье Тимофеевне, жившей напротив пашей квартиры, часто приходил в гости невысокий, коренастый грузчик с пристани. По воскресеньям он помогал дворнику колоть дрова для всего дома. Грузчика звали красивым и довольно редким именем «Ярослав». Он снимал брезентовую куртку и синюю косоворотку, вышитую по вороту красной гвоздикой, и оставался в матросской полосатой тельняшке. Тельняшка эта была предметом зависти всех мальчишек нашего двора. А когда Ярослав в пылу работы сбрасывал и тельняшку, восхищённым глазам ребят открывалась замысловатая татуировка. Здесь был и орёл, несущий в когтях полуобнажённую красавицу, и сердце, пробитое стрелой, и парусный корабль, взлетающий вверх на гребне морской волны, и два скрещённых боевых кинжала. Целая картинная галерея открывалась перед нами на смуглом мускулистом теле Ярослава. Два скрещённых кинжала казались мне воплощением красоты, мужества и истинного искусства. Утром, после купанья, скептически осматривая свою впалую, узкую грудь, я мечтал о том, чтобы её пересекал парусник, взлетающий на прекрасных темно-голубых волнах, совсем таких, как на груди Ярослава. Когда Ярослав колол дрова, мускулы на его руках надувались, как упругие шары. Ни у кого из мальчишек, даже у чемпиона по борьбе нашей улицы Петьки Рыжего, не было и намёка на подобные мускулы. Иногда Ярослав разрешал избранным потрогать свои мускулы. Они были твёрдыми, как камни. Одной рукой Ярослав мог бы уложить на обе лопатки всех чемпионов во главе с Петькой Рыжим. Мускулы Ярослава снились мне по ночам. Я хотел быть чемпионом, чтоб меня не задирали и боялись все мальчики, чтоб я мог один защищать честь нашего двора, а может быть, даже целой улицы от всевозможных нападений. Я рос очень маленьким. Когда наши первоклассники строились в одну шеренгу на занятиях гимнастикой, я был на самом леном фланге замыкающим и назывался: «двадцать первый неполный». Все — и в классе, и во дворе — смотрели на меня пренебрежительно и при любой возможности угощали тумаками. Однажды, когда на дворе никого не было, кроме меня и Ярослава, я решился. — Дяденька Ярослав, — сказал я, дрожа от волнения, — научите меня Пороться... — Ого-го! — сказал, засмеявшись, Ярослав, с треском раскалывая с одного удара здоровенное полено. — Вот ты какой! А Фрося говорит, что ты только о книжках думаешь, как браток твой Виктор. Приезжавший обычно к нам на каникулы двоюродный брат мой Виктор был студентом медицинского факультета, почти доктором. В нашем дворе его считали самым умным человеком и приходили к нему лечиться и советоваться по всяким медицинским делам. Однако меня его лавры совсем не привлекали. И даже то, что он курит длинные крепкие папиросы, не очень интересовало меня: курить я ещё не пробовал. Брат не испытывал никакого влечения к борьбе и, несмотря на всю свою учёность, ничего не смыслил в искусстве татуировки. — Нет, дяденька, — сказал я умоляюще, — я хочу быть сильным, как вы, чтобы никого-никого не бояться на нашей улице! Это было пределом моих мечтаний. — Ишь ты, — опять засмеялся Ярослав, — никого не бояться... Он положил колун, присел на чурку и вдруг, хитро прищурив свои лукавые глаза, нагнулся ко мне. — Ладно, — сказал он, — я сделаю тебя, пацан, самым сильным борцом в вашем дворе и во всех окружающих дворах. Во всей вашей улице и в прилегающих улицах не будет чемпиёна сильнее тебя! Я стоял растерянный, подавленный, ошеломлённый от счастья. — И всё это будет тебе стоить только одну пачку папирос, которые курит твой брат. Разве я мог не согласиться?.. Рыжий Петька уже лежал посрамлённый у моих ног... — Я научу тебя приёму джиу-джитсу, — загадочно сказал Ярослав, и в больших чёрных глазах его опять запрыгали весёлые огоньки. 2 — Я научу тебя приёму джиу-джитсу, — повторил грузчик. — Только, — добавил он с сомнением, — я не знаю, сумеешь ли ты вынести сильную боль... Мужчина ты или баба?.. — Я мужчина! — взволнованно сказал я, боясь, чтобы он не передумал. — Вы не смотрите, что я такой маленький. Когда меня укусила собака, я даже не заплакал. Спросите у всего двора. Через полчаса я принёс ему коробку папирос с изображением высоких пальм на крышке. Я достал её из шкафчика брата, нарушив одну из самых священных заповедей: «Не укради». Но я совсем не думал об этом и не чувствовал никаких угрызений совести — так заманчива была цель. Мы стали друг против друга, как настоящие борцы. Я засучил рукава на своих руках, испещрённых синими жилками. Ярослав схватил меня за кисть, чуть согнул и сжал мой указательный палец, измазанный чернилами. От адской, нестерпимой боли я едва не лишился сознания. Я не кричал, помня, что я мужчина и что это великое испытание моего мужества. Но сопротивляться уже не мог: я лежал на земле, на обеих лопатках, обливаясь потом от боли. — Ну вот, — чуть посмеиваясь, сказал Ярослав и закурил папиросу из коробки с пальмами. — Теперь ты знаешь, что такое приём джиу-джитсу... А держишься ты, между прочим, молодцом! — похвалил он меня. — Из тебя может выйти толк. Эта похвала окрылила меня. — Ярослав, — сказал я, чуть заикаясь от волнения, -теперь разрешите мне тоже попробовать этот приём. — Конечно, конечно, — сказал грузчик. — Не сомневайся, он действует безошибочно. Зная этот приём, ты можешь положить на обе лопатки не только меня, а и самого Ивана Поддубного, чемпиёна Санкт-Петербурга. Он показал мне, где и как нужно нажимать указательный палец: — Здесь и силы особой не требуется, нужна одна сноровка. Ну и, конечно, привычка... Попробуем ещё раз. Мы опять стали друг против друга. Я схватил его обеими руками за левую кисть, нажал на его грубый, заскорузлый указательный палец, и Ярослав — моему удивлению и счастью не было границ, — что-то замычав сквозь зубы, упал как подкошенный. — Вот это здорово! — сказал я восхищённо. — И вы взаправду не могли удержаться на ногах? — Джиу-джитсу, — с усмешкой сказал он поднимаясь.— Наповал... В ближайший воскресный день Ярослав согласился бороться со мной перед зрителями, чтобы я мог всему двору показать мастерство борца, владеющего тайным и безошибочно действующим приёмом джиу-джитсу. Он даже не просил у меня ещё пачки папирос, этот благородный и добрый человек. Я сам потом принёс их в знак любви, уважения и благодарности. Наступил яркий солнечный весенний день. Все мальчишки собрались на площадке у старого дровяного сарая. Рыжий Петька сидел впереди на обрубке гнилого бревна и насмешливо глядел на меня. И опять мы с Ярославом стали друг против друга. Он был в своей тельняшке и матросских брюках, а я в трусах и старой, застиранной жёлтой майке, на которой, к ужасу мамы, я недавно изобразил тушью щит, кольчугу и два скрещённых кинжала. Это заменяло отсутствующую и недоступную мне татуировку. Очевидно, мы были очень смешной парой: широкоплечий, мускулистый мужчина и маленький, неуклюжий мальчик. Но никто из окружающих нас мальчишек не смеялся, они все с нетерпением ждали предстоящего зрелища. Не часто можно увидеть что-либо подобное на нашем дворе. Конечно, все не сомневались, что грузчик побьёт меня. — Он сейчас покажет этому хвастунишке, пусть не задаётся! — процедил сквозь зубы Петька Рыжий. И слова его мигом облетели весь двор. Я тоже услышал эти слова, и они придали мне силы и злости. «Это я хвастунишка?.. Ладно!.. Вы все сейчас узнаете, что такое страшный приём джиу-джитсу!» И вот сын дворника Васька Рябой, назначенный судьёй, ударил гвоздём в кусок рельса. Я сразу схватил Ярослава за руку и согнул ему палец, как он учил меня,— и он, корчась от боли, пластом упал на землю. Зрители загудели, вскочили с мест, окружили нас. Все были ошеломлены. Никто не мог сразу поверить в мою победу. Васька Рябой считал до десяти. Ярослав не поднимался. Я видел, как удивление сменялось восхищением в глазах ребят. — Пацаны! — сказал, поднявшись наконец, Ярослав. — Пацаны! Слушайте меня. Я, конечно, сильнее маленького Сашки. Но я научил его непобедимому приёму джиу-джитсу, и он, пользуясь этим приёмом, свалил меня и может свалить каждого, кто полезет к нему. Понятно? — Понятно, — ответил двор. И Петька Рыжий тоже хмуро сказал: — Понятно. С этой минуты я стал признанным чемпионом двора и поднялся на самую вершину лестницы славы. 3 Чемпионы всех соседних дворов признали моё превосходство. Они тоже присутствовали на нашем поединке С Ярославом. Слишком очевидна была моя победа, чтобы оспаривать её или пытаться соперничать со мной: я ведь владел таинственным и сокрушительным приёмом джиу-джитсу. После я узнал, что Петька Рыжий пытался уговорить Ярослава открыть и ему тайну этого приёма, но Ярослав был твёрд, как скала, и ничем соблазнить его оказалось невозможно. На нашей улице наступил мирный период. Никто не решался начинать драку, зная, что в любой момент на поле боя могу появиться я. А значит, джиу-джитсу. Я как-то сам поднялся в собственных глазах и стал казаться себе красивее и мужественнее. Это заметили даже домашние. — Что-то у нас Сашка заважничал! — заявила сестра. — Ходит, как надутый индюк. — Лия! — укоризненно говорила наша добрая мама. — Что за сравнения! Научись уважать брата. К тому же в классе появился мальчик ещё ниже меня ростом. И я, хотя продолжал оставаться в последней шеренге, не был уже замыкающим «неполным». Я был почти счастлив. Ни разу после поединка с Ярославом мне не пришлось применять на деле знаменитый приём джиу-джитсу. ...В один из домов на соседнюю улицу приехал новый жилец — маленький вихрастый слесарёк с машиностроительного завода, ростом чуть-чуть выше меня. Усеянное редкими веснушками широкое, курносое лицо его дышало здоровьем и благожелательством. Конечно, говоря о достопримечательностях нашего района, мальчишки сразу рассказали ему обо мне и о приёме джиу-джитсу. И вот случилось непоправимое. Петька Рыжий познакомился со слесарьком, и они целый вечер о чём-то шептались, а на другой день Семён (так звали слесарька) прислал мне с секундантом — Колей Седовым, учеником первого класса ремесленного училища, — вызов на единоборство. Оспаривались мои права чемпиона двора и улицы. Приём джиу-джитсу ставился под сомнение. Но я слишком верил если не в свою силу, то в грузчика Ярослава. Уклониться от боя я не мог, да и не хотел. Я принял вызов Семёна. Если во время моего поединка с Ярославом собрались ребята со всех дворов нашей улицы, то сейчас на нашем дворе находились знаменитые драчуны и чемпионы всего района. «Полный сбор», — многозначительно сказал Петька Рыжий, тётя которого работала билетёршей в городском театре. И ещё он добавил научное театральное слово, смысл которого я тогда не понимал: аншлаг. Несмотря на абсолютную уверенность в приёме джиу-джитсу, я сильно волновался. От природы я был застенчив, а тут приходилось выступать перед десятками мальчишек и девчонок, да ещё в непривычной для меня роли знаменитого борца и чемпиона. И главное, мне не хватало дружеской поддержки и сонета. Ярослав третий месяц не появлялся в нашем дворе. Когда я спросил о нём Ефросинью Тимофеевну, она обидчиво поджала губы и сказала: — Стыдно вам, Шурочка, надсмехаться надо мной... Семён-слесарёк был в синих полудлинных штанах и белой рубашке, а я в трусах и своей знаменитой жёлтой майке со щитом и кольчугой. Мы очутились в кольце оживлённых зрителей. Вокруг шумно обсуждали наши шансы. Большинство гостей ставили на меня: сказывалось магическое воздействие слов «джиу-джитсу». Но нашлись и такие, которые предвещали победу Семёну. Это, конечно, из тех, кто не видел моего поединка с Ярославом. Совершенно естественно, что их поддерживал и Петька Рыжий. Мы по всем правилам пожали друг другу руки и разошлись. Мне придавало бодрости, что Сеня почти одного роста со мной. Правда, мускулы у него были заметней и крепче, но он ведь не знал приёма джиу-джитсу. Мы сошлись. Предупреждая нападение, я схватил его за руку, сжал указательный палец и... с ужасом убедился, что это не произвело никакого эффекта. Я жал всё сильнее. Ярослав, могучий Ярослав, после такого нажима лежал передо мной поверженный, а Семён только удивлённо усмехался. И я начал понимать, что здесь таится моя гибель. Приём джиу-джитсу не действовал. А может быть, его и не существовало, этого приёма? А может быть, Ярослав И не знал его вовсе? Зачем же он посмеялся надо мной? Я весь покрылся испариной. Сеня быстро вырвал свою руку и... Что там говорить! Через две минуты я лежал опозоренный — поверженный у его ног под аплодисменты и громкие свистки моих друзей и недругов. А Сеня спокойно, как профессиональный борец, раскланивался по сторонам. Посрамлённый, покинул я поле боя... Навсегда. Никогда в жизни не выступал я больше в роли борца и чемпиона. Я пришёл домой и зарылся головой в подушку. Может быть, именно тогда, в эти горькие минуты поражения и разочарования, я впервые постиг и сердцем и умом, что во всякой борьбе надо рассчитывать на собственные силы, не бахвалиться и не рядиться в чужие перья. И потом, уже в зрелые годы, когда порой я «заносился» или видел, как «зарывается» кто-нибудь из моих друзей, я говорил себе: «Джиу-джитсу». И я вспоминал наш двор, и своё поражение, и Ярослава, и Сеньку-слесарька, и мою старую, застиранную жёлтую майку с нарисованными тушью щитом, кольчугой и двумя скрещёнными кинжалами... ЦАРСКИЙ РУБЛЬ 1 Однажды вечером, приготовив уроки, мы выбежали с Ваней Фильковым из дому и остановились, поражённые невиданным зрелищем: вдоль всей Гоголевской улицы, прямо на земле горели маленькие факелы. Люди двигались между сплошными рядами факелов, как по диковинной светящейся аллее. Мы подошли ближе. У тротуаров метрах в двух—трёх друг от друга стояли небольшие плошки, в которых горело масло. Вблизи это не казалось так красиво, но в перспективе все огни сливались в сплошную огненную ленту. Важный, толстый, чернобородый городовой, умеющий (как пугали нас, мальчиков) читать человеческие мысли, слегка придерживая длинную шашку, ходил вдоль линии плошек и осаживал чересчур любопытных горожан, главным образом мальчишек. Очевидно, город готовился к какому-то торжеству. — Иллюминация, — сказал встретившийся нам пьяный, как всегда, мясник Капитонов. — Табельные дни... — И, подмигнув, лихо прищёлкнул языком. Такой богатой иллюминации, как сегодня, мы ещё не видели никогда. Электрическое освещение в нашем городе было только в присутственных местах, в гимназии и в богатых . домах. Однажды, приглашённый к Вене Розенблюму на день рождения, охваченный исследовательским пылом, я вставил в отверстия розетки два перочинных ножа и соединил их противоположные концы. Что-то вспыхнуло. Меня ударило током. Весь дом погрузился в темноту. Забегали люди со свечами. Что-то густым басом кричал господин Розенблюм. Больше меня в этот дом не приглашали... Город освещался старыми газовыми фонарями, и почти все улицы, кроме центральных, вечером погружались в полутьму. На Могилёвской площади, окружённой световым кольцом желтоватого, слегка чадящего огня, понесла испуганная лошадь. Седоки закричали. Бородатый извозчик ругался. Лаяли собаки. На тротуарах собрались толпы. В нашем городе не часто случались подобные события. Всё казалось нам необыкновенным, занимательным и фантастичным. ...На следующий день в гимназии учитель истории Алексей Иванович Руденский (за большие рыжие усы его прозвали Тараканом) разъяснил нам, что вся страна отмечает трёхсотлетие дома Романовых. Мы, младшеклассники, ещё не знали истории. Таракан рассказал нам о чудесном спасении царя Михаила, о величии Петра Первого, о воинской доблести Александра Первого, победившего французов, о мужестве и справедливости его брата Николая Первого, спасшего страну от революционной крамолы, о великом милосердии Александра Второго, освободившего крестьян, и о государственном уме Александра Третьего — миротворца, отца нынешнего императора. О доблестях самого императора Николая Второго Таракан сообщить нам не успел — раздался звонок. На уроке пения мой недруг Фёдор Иванович Сепп провёл с нами репетицию царского гимна. Громче всех пел, конечно, Сербиловский. Ему вторил Веня Розенблюм. Ваня Фильков только открывал рот. А я, «отрешённый» от пения, стоял у стены и внимательно следил за тем, как страшно ходит кадык Фёдора Ивановича. В конце урока Сепп, торжественно подняв вверх короткий, словно обрубленный, указательный палец, объявил нам, что в ближайшие дни его императорское величество Николай Второй, самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая, соблаговолит, к радости всех верноподданных, посетить наш город. Мы замерли. Значит, мы увидим царя, самого царя! А с царём, по словам Фёдора Ивановича, приедет и наследник престола, наш ровесник Алексей. Все гимназисты будут выстроены на Соборной площади, и царь будет с нами беседовать, а может быть, даже почтит своим посещением гимназию, которая носит имя его великого прадеда. — Впрочем, — сказал Фёдор Иванович, — очевидно, надлежит произвести существенный отбор. Как поступить с инородцами?.. — Тут он повернулся ко мне и смерил меня с ног до головы уничтожающим взглядом. — Пожалуй, их на парад выводить не стоит. А также смутьянов и до сих пор не пойманных, но подозреваемых зачинщиков последних возмутительных беспорядков в гимназии. При упоминании о беспорядках многие в классе заулыбались и тут же замерли под грозным взглядом Фёдора Ивановича. Совсем недавно произошло два события, взбудораживших всю гимназию. Во-первых, кто-то оторвал металлическую пластинку от двери уборной и прибил её к двери гимназической квартиры Сеппа, а медную дощечку с витиеватой надписью «Фёдор Иванович Сепп. Статский советник» перенёс на двери уборной. Во-вторых, исчезли, как в воду канули, все журналы шестого класса. Отметки учителям приходилось восстанавливать по памяти. К пропаже журналов старшеклассников мы, конечно, не могли иметь отношения. Но что касается истории с уборной... Больше всего меня и Ваню взбудоражили слова о недопущении на парад инородцев. Самое прозвище «инородец» казалось мне до невозможности обидным, да и, кроме того... очень хотелось видеть царя и наследника Алексея. Такое событие ведь случается только раз в триста лет. Вечером я пошёл к Ване Филькову. Опять ослепительно горели огни в плошках. Но я старался не смотреть на них. Они больше не привлекали и не радовали меня: всё это не для меня. Я ведь инородец. На парад меня не допустят. Василий Андреевич Фильков, усмехаясь, выслушал мои жалобы на Сеппа. Филькова называли в нашем городе «неблагонадёжным». В гимназию его не допустили, и он преподавал историю в городской школе. Почему, я, конечно, не знал. Со мною он не откровенничал. Но я видел, что мой недруг Сепп недолюбливает Ваню Филькова, хотя он и не был инородцем, а сын старосты Веня Розенблюм считается любимчиком наряду с Сербиловским. С Ваней Фильковым меня связывала дружба не на жизнь, а на смерть. Я не мог ещё разобраться во всей сложности этих «классовых» противоречий, но Василия Андреевича уважал и любил почти как отца. Василий Андреевич тоже рассказал нам с Ваней о трёхсотлетии дома Романовых, но вовсе не восхищался прошлыми царями, как Таракан, а о Николае Первом, подавившем восстание декабристов, отзывался недружелюбно и резко. И декабристы, которых так ругал Таракан, по рассказам Филькова, представлялись нам сильными и мужественными людьми, совсем такими, как Спартак или Гарибальди (тайно раздобытые книги о них мы с Ваней уже прочли). Ванин отец кое-что рассказал нам и о нынешнем царе, о Ходынке, о событиях 1905 года. По словам Филькова, не стоило стремиться на парад, а тем более близко принимать к сердцу слова Фёдора Ивановича. Сам Василий Андреевич, например, скажется больным и на площадь со своей школой не пойдёт. Но всё же мне было обидно. И очень хотелось посмотреть царя. 2 Фёдор Иванович Сепп напрасно пугал меня: к параду допустили всех. Утром мама старательно выутюжила мой форменный костюмчик, и сам я начистил кирпичом до нестерпимого блеска серебряные пуговицы и поясную пряжку. Мне было только девять лет, я ещё не помышлял ни о какой революции, и общее возбуждение, царившее в городе и в гимназии, захватило меня. На площадь мы шли стройными рядами. Впереди шагали учителя во главе с самим директором, действительным статским советником Никодимом Петровичем Оношко. Все учителя были при шпагах. На шее директора и на груди его блестели звёзды и кресты. На груди Таракана и на вицмундире Сеппа не было звёзд, зато сияли какие-то значки и медали. Учитель закона божия, отец Александр, молодой, очень красивый священник с густыми каштановыми волосами, падавшими на плечи, шёл рядом с директором, и золотой крест на его груди сверкал, как солнце. Два великовозрастных старшеклассника несли большой портрет Александра I Благословенного. Два других гимназиста несли ещё больший портрет Николая Второго и ещё двое подпирали его сзади длинными шестами. Учитель гимнастики, ротмистр в отставке Сергей Павлович Синеухов в полной военной форме с золотыми погонами шагал сбоку колонны и отсчитывал такт. На тротуарах толпился народ. Рассказы Филькова вылетели у меня из головы, и я, стараясь не сбиться с ноги, молодцевато шагал по мостовой в последней шеренге гимназической колонны. И вот мы вышли на Соборную площадь. Звенели колокола. На паперти собора в сверкающих парчовых ризах, шитых золотом и серебром, с хоругвями и крестами, стояло всё духовенство, во главе с соборным настоятелем, седобородым отцом Досифеем. Неподалёку собрались именитые горожане нашего города — фабриканты и купцы. Верноподданные... Впереди с огромным золотым блюдом с «хлебом-солью» — кожевенный фабрикант Немцов, высокий, худой, длинноусый, во фраке и белом жилете; купец первой гильдии Антропов в распахнутой чёрной поддёвке с золотой цепью по животу и... Соломон Розенблюм, в длинном сюртуке, с какой-то медалью на пёстрой ленточке. На фасаде здания Окружного суда, выходившего на площадь, висел большой портрет императора во весь рост. Он стоял, положив одну руку на саблю, а другую простирая куда-то вдаль. Столичный художник (портрет привезли из Петербурга) особенно тонко выписал многочисленные кресты на его груди и не пожалел краски на высокие кавалерийские лакированные сапоги. Сапоги были самой яркой деталью на портрете. Они, казалось, выступали из рамы над толпой, запрудившей тротуар. Чтобы разглядеть лицо императора, приходилось запрокидывать голову. Да, собственно, нам было сейчас не до портрета. С минуты на минуту должен был появиться перед нами сам оригинал. Площадь была окружена цепью городовых. Я узнал среди них и чернобородого, который умел читать человеческие мысли, и другого, производившего когда-то обыск в квартире Филькова. Рабочих немцовского кожевенного завода из осторожности на площадь не пустили. На заводской двор фабрикант выкатил несколько бочонков дарового пива. Полицейские посты у завода значительно усилили. Где-то в конце Виленской улицы раздались крики «ура», и на площадь выехала коляска, запряжённая тройкой коней, белых в яблоках с чёрными пятнами на лбу. Перед коляской скакало несколько офицеров с обнажёнными шашками. В пролётке, лицом к царю, возвышался грузный губернатор Альцимович. Сводный военный оркестр грянул царский гимн. Коляска медленно двигалась по площади вдоль рядов солдат и гимназистов, выстроенных для парада. Мы замерли. Вот она уже совсем близко от нас. В коляске сидел офицер невысокого роста, в таких же, до ослепительного блеска начищенных сапогах, что и на портрете. Рыжеватая не густая бородка. Низкий лоб. Невыразительные, бесцветные глаза. Маленький нос... Николай Второй. Самодержец всероссийский. Царь польский. Великий князь финляндский. И прочая, и прочая, и прочая... Рядом с ним сидел наследник — щуплый мальчик в матросской форме. Он играл с большой собакой, лежавшей у его ног, и не обращал на нас никакого внимания. Царская коляска остановилась у нашей колонны. Ротмистр Синеухов махнул рукой, и мы ожесточённо и вразнобой закричали: «Ура!» Царь вышел из коляски, посмотрел на нас своими бесцветными, студенистыми глазами. Я не отрывал от него взгляда. И мне показалось, что царю очень скучно. От моего утреннего возбуждения не осталось и следа. Вот этот рыжеватый невзрачный офицер, совсем не похожий на царей-полководцев, которых изображали на портретах, — император. Он решает судьбы миллионов людей. Он может сделать знак — и меня схватят и повесят. (В мозгу среди спутанных, лихорадочных мыслей возникали давешние рассказы Филькова.) А может быть, и он читает мысли, как тот городовой... Никаких особенно опасных мыслей у меня нет, но всё же лучше спрятать от него глаза. Кто знает... Толстый генерал с красной лентой через плечо подал царю кожаный мешочек. Царь вынул из него несколько монет. — Царские рубли, — шепнул всезнающий Мишка Тимченко. Царь медленно прошёл по фронту нашей колонны. Директор и Фёдор Иванович Сепп сопровождали его. Он дал по рублю гимназистам, державшим его портрет... Пете Кузнецову, самому красивому воспитаннику пятого класса... Вот он уже стоит перед нашим классом... Вот он уже даёт рубль Лёве Сербиловскому. А Лёва, задыхаясь от волнения, что-то бормочет и... целует руку царя, и царь брезгливо вытирает её своим платочком. Вот он остановился против Вани Филькова. Видимо, крепко сбитая, ладная фигурка Вани привлекла его. Через пять человек мне видно, как волнуется Ваня. Лицо его побагровело. Директор что-то шепчет почтительно царю, и царь, покачав головой, отводит уже протянутую к Ване руку с рублём. Но мне некогда уже думать об этом. Царь стоит передо мною, перед самым маленьким, левофланговым. Чего греха таить, мне очень хотелось получить царский рубль. Как будут завидовать все мальчики нашего квартала! Шутка сказать — царский рубль! Только я не буду унижаться, я не буду целовать его руку, как Сербиловский. Все эти мысли стремительно проносятся в моей голове. Я поднимаю голову и встречаю безразличный взгляд тусклых глаз императора. Дрожа от возбуждения, я протягиваю руку. Сепп что-то шепчет директору, и директор опять почтительно склоняется к царю... «Инородец»... Мне кажется, я опять слышу это слово... Но уже поздно. Царь опускает рубль в мою руку, пожимает плечами и раздражённо бросает директору какую-то непонятную фразу. ...Так вот и произошла моя встреча с императором всероссийским. И вдруг мне стало стыдно. Никакой радости от царского подарка я уже не испытывал. Серебряный рубль жёг мою руку. Сложные чувства волновали меня. Дома, не снимая парадной формы, я бросился на кровать. Мама встревоженно несколько раз подходила, прикладывала руку к моему горячему лбу. Но я молчал. Я спрятал рубль в пенал, несколько раз вынимал его, рассматривал и клал обратно. Я сам ещё не мог разобраться во всём том, что произошло на площади. На следующий день я занемог и на занятия не пошёл. Ваня Фильков, первый раз с тех пор как мы подружились, не навестил меня. Это меня ещё больше расстроило. Я увидел его только через два дня в гимназии. Он показался мне необычно худым и бледным. Как-то повзрослел он за эти дни. На уроках мы не говорили ни о чём. Я пошёл проводить его домой. Он рассказал мне о беспорядках на кожевенном заводе, которые вспыхнули в царские дни, о том, что полицейские стреляли в рабочих и убили двух человек. У Фильковых был опять обыск. Ничего не нашли. Но отца арестовали и целый день держали в участке. «В порядке профилактики», как сказал полицеймейстер. — Ваня, — подавленно спросил я, уже прощаясь, — а почему ты так волновался тогда, в строю? Ты хотел получить царский рубль? — Если бы... — сказал Ваня хрипло, — если бы он дал мне этот рубль, я бы швырнул ему обратно в лицо... Он замолчал. Мы долго стояли возбуждённые, взбудораженные какими-то новыми, неожиданными переживаниями. — Но я не знаю... — продолжал тихо Ваня. — Я не знаю, хватило бы у меня смелости швырнуть этот рубль... Он задумчиво, доверчиво посмотрел на меня, мой друг Ваня Фильков, и я смущённо отвёл глаза. Серебряный царский рубль я не показывал никому, даже маме. В тот же вечер я зарыл его в землю на дворе у дровяного сарая. Зарыл навсегда. ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬД 1 Со второго класса я начал давать уроки, чтобы помочь семье. Первым моим учеником был рыжий Мошка. Он был старше и значительно крупнее меня. Я походил на приго товишку, и это доставляло мне немало страданий в тот, двенадцатый, год моей жизни. Я был учеником гимназии имени Александра I Благословенного. Это звучало очень здорово. Герб нашей гимназии, венчаемый большой императорской короной, с первого взгляда внушал почтение к его обладателю. Надо сказать, герб-то этот был и признаком нашего разъединения: потомки именитых чиновников или фабрикантов, «белоподкладочники», заказывали особый герб — массивный, литой, с серебряной маленькой короной, прикрепляющейся отдельно над кокардой к тулье фуражки, а мы, серячки, носили слитный жестяной герб. Литая серебряная коронка долгое время привлекала меня. Но я дружил с Ваней Фильковым, отец которого считался неблагонадёжным, вёл длительную борьбу с учителем пения Фёдором Ивановичем Сеппом, был одним из редакторов тайного антиучительского журнала «Кнут», и мне не к лицу было брать пример с «белоподкладочНИКОВ». В семье мучного торговца Менделя Глянца, Мошкиного отца, я пользовался большим уважением. Мендель Глянц не особенно разбирался в символическом значении разных гербов. Я вполне устраивал его и со своим жестяным. Нельзя сказать, что все члены этой почтенной семьи одинаково уважали меня. Исключением был сам ученик мой, Мошка, коренастый парень, рыжий вплоть до глазных белков. Первый мой заработок — три рубля — показался мне целым состоянием. Не заходя домой, я решил самостоятельно распорядиться своим богатством. (Да, собственно говоря, в семье я был единственный мужчина и готовился к роли главного кормильца.) Из трёх рублей я мог истратить только два пятьдесят; полтинник шёл на педагогические цели. Я купил масла — его мы не видели давно, — и перчатки — это была моя затаённая мечта. На это ушёл весь мой первый заработок. Оставшийся полтинник я передал самому Мошке. У пас был уговор. Этот гениальный пакт мы заключили с ним в первые же дни. Именно он, Мошка, предложил это двустороннее соглашение. Я принуждён был уступить. Он обязывался слушаться меня и не бить на дворе после уроков (чтоб не ронять моего авторитета). И всё это стоило только пятьдесят копеек. Само собой разумеется, договор сохранялся в тайне. Когда Мошка, которого я учил грамоте, по складам прочёл вывеску над отцовской лавкой, содержание которой он, впрочем, достаточно хорошо знал наизусть, восторгам отца не было предела. Вместо трёх рублей в месяц я стал получать четыре. Щедрость Менделя Глянца не знала границ. Слава о моих педагогических способностях пошла по всему Заречному району, и хозяин лучшего в городе табачного магазина пригласил меня готовить в приготовительный класс своего наследника. Переговоры велись в конторке за магазином. Мой первый меценат, Мендель Глянц, сопровождал меня. Семён Исаакович Вейнбаум, сухощавый мужчина в сюртуке, с недоверием оглядел мою маленькую фигурку, но в разговоре ничем своего недоверия не выявил. Соглашение состоялось быстро. Вейнбаум предложил платить мне за уроки десять рублей в месяц. О таких капиталах я и не мечтал. Я обещал подготовить мальчика на круглые пятёрки. Я был тогда смел и самонадеян... На другой же день утром я стучался в двери собственного дома Семёна Исааковича Вейнбаума. Сердце моё сильно билось, и я едва сумел пролепетать несколько слов. когда открылась дверь и на пороге появилась женщина огромных размеров в шелестящем шёлковом платье. — Так это вы будете учить Иму? — сказала она с явным разочарованием. — А сколько вам лет, молодой человек? Я не любил этих разговоров о летах. Сухо сказал, что мне уже двенадцать и что я не новичок в учительском деле. — Я слышала... как же... О вас хорошие отзывы, — подобрела госпожа Вейнбаум. — Но почему вы такой маленький? Тут я уже не знал, что ответить. В нашей семье таких великанов, как хозяйка дома, и не видывали. Да, пожалуй, сам господин Вейнбаум ей будет по плечо. Я стоял перед ней, как лилипут перед Гулливером, и мучительно краснел. Будь здесь Мендель Глянц, он бы выручил меня. — Има... Има!—закричала госпожа Вейнбаум.— Има, иди сюда! Учитель пришёл... Мальчик мне сразу понравился. Он был маленький, хрупким (в отца, а не в мать). На хорошенькой, точно фарфоровой мордочке выделялись умные лукавые глаза. — Здравствуй, Има, — сказал я внушительным тоном, который в точности перенял от нашего инспектора Евгения Андреевича Селенса. Он доверчиво протянул мне руку. «Э... мы будем друзьями, — подумал я. — Это не Мошка». Мой педагогический опыт обогащался. — Его зовут Эммануил, — сообщила мне госпожа Вейнбаум. — Вы сегодня можете и начинать. Вам никто не будет мешать. Има — мальчик послушный и способный. Вот это будет ваша учебная комната. Сюда утром никто не заглядывает. Она проплыла мимо меня, как корабль, и я вошёл вслед за ней в небольшую комнату — очевидно, гостиную. В комнате стояла зелёная плюшевая мебель. У окон — два высоких фикуса с большими, сочными листьями. В центре комнаты — круглый стол, покрытый зелёной бархатной скатертью. А на столе — это сразу бросилось мне в глаза — лежала книга в синем переплёте. На обложке сверкали золотые буквы: Лорд Байрон ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬД 2 Я никогда не читал Байрона. Краем уха в гимназии от старшеклассников слышал о героическом облике этого английского писателя. Красивого, голубоглазого семиклассника Петю Кузнецова, записки которого я иногда передавал своей старшей сестре, звали почему-то романтическим и заманчивым именем «Чайльд-Гарольд». Я слышал, как шептались о нём собиравшиеся у моей сестры гимназистки, но считал ниже своего достоинства вмешиваться в их разговоры или показывать хоть какую-нибудь заинтересованность в них. Петя Кузнецов очень нравился и мне самому. Поговаривали, что он пишет стихи. Правда, в нашем журнале «Кнут» он не участвовал. Но однажды на гимназическом вечере он действительно прочёл стихи, особенно потрясшие приглашённых гимназисток. Петя стоял на сцене тонкий и бледный, совсем как король экрана Максимов. Читал он протяжно, нараспев, с выражением: Я смеюсь, потому что я плакать хочу. Но не знаю, могу ли рыдать я. Я смеюсь, потому что я вам продаю Свою душу, как старое платье. Я не совсем понимал, как это можно продавать душу, как старое платье, и кому, собственно, Петя Кузнецов продаёт свою душу. Два первоклассника, сидевшие около меня, хмыкнули на весь зал. Но на них зашикали. Учитель русского языка Илья Петрович Штыковский, руководивший литературным вечером, грозно помахал пальцем, а гимназистки, и среди них моя сестра, бешено захлопали. С этого-то вечера Петю Кузнецова и стали звать Чайльд-Гарольдом. Признаться откровенно, я тоже писал стихи. Не такие, конечно, как Петя, но всё же стихи. И в одном из номеров журнала «Кнут» было даже помещено моё стихотворение. Оно начиналось так: Кнут по-французски — Le fouet. Дерёт он больно по спине. И кнут, и хлыст — исход один, Всему плохому господин... Стихи мне представлялись боевыми и сатирическими. Они показывали огромную эрудицию автора и знание языков. И даже псевдоним у меня был французский — Le poisson. Я думал тогда, что это значит яд... Только много позже я узнал, что одна лишняя буква «s» превращала меня из зловещего «яда» в мирную, безобидную «рыбу». Несмотря на всю идейную направленность моих стихов, они не вполне удовлетворяли меня. Я был здоров и краснощёк, никому продавать своей души не собирался. Но мне хотелось подражать Пете Кузнецову. Я тоже хотел, чтобы обо мне шептались девушки и называли меня Чайльд-Гарольдом. Из всех моих одноклассников никто не знал, кто такой Чайльд-Гарольд. На уроке рисования я решил спросить об этом у нашего классного наставника Витта Модестовича Лозанцева. И тут я сделал крупную тактическую ошибку. Мы срисовывали торс какого-то мощного грека. Не закончив рисунка, я поднял руку: — Витт Модестович... кто такой был Чайльд-Гарольд? В классе грохнул оглушительный смех. Мощный торс неизвестного грека зашатался и едва не опрокинулся. Витт Модестович сначала широко раскрыл глаза, потом медленно начал багроветь. Человек он был вообще добрый, но очень нервный и вспыльчивый. — Вон из класса! — разъяснил он громовым голосом. — Останешься на два часа после уроков. Я выходил из класса, сопровождаемый раскатами сочувственного смеха. Авторитет мой в классе, несомненно, поднялся. От двухчасовой отсидки меня освободили: гнев Витта Модестовича проходил так же быстро, как возникал. Вскоре я установил, что Чайльд-Гарольд — герой поэмы Байрона. Кое-что узнал я и о самом писателе, но в гимназической библиотеке мне, второкласснику, выдать Байрона отказались. Там ведь не знали, что я уже педагог... Мне и до сих пор неясно, знал ли Витт Модестович что-либо о Чайльд-Гарольде... Скорее всего, не знал — он ведь преподавал только рисование. ...И вот передо мной на столе лежит эта великолепная книга. На первых занятиях я не мог даже прикоснуться к сочинениям лорда Байрона. Госпожа Вейнбаум сидела в углу, что-то вязала и прислушивалась к моим педагогическим откровениям. Има оказался смышлёным, понятливым мальчиком. Заниматься с ним я любил больше, чем с Мошкой Глянцем. Мы читали букварь. Потом я диктовал Име рассказ о мальчике, который бросил вишнёвую косточку, и о поскользнувшейся тёте. Изредка госпожа Вейнбаум поднимала глаза от вышивания и с умилением смотрела на сына. Потом я чинно раскланивался и уходил. Кажется, мною были довольны в этом доме. ...На четвёртом занятии мы остались одни. Госпожа Вейнбаум, очевидно, вполне убедилась в моей добросовестности и благонадёжности. Сочинения лорда Байрона влекуще смотрели на меня. Каждая золотая буква звала. Искушение становилось непреодолимым. И я пал... Я и сейчас поражаюсь своей смелости. Глухие отзвуки голоса госпожи Вейнбаум доносились откуда-то из кухни. Я отменил диктант и предложил Име самому списывать с книги историю о тёте и вишнёвой косточке. А сам небрежным жестом подвинул к себе великолепную, соблазнительную книгу, открыл тяжёлый переплёт. ...Ах, Витт Модестович, неужели вы никогда не читали «Чайльд-Гарольда»?.. Я забыл об Име, о госпоже Вейнбаум, о тёте и о вишнёвой косточке. Жил юноша в Британии когда-то, Которым добродетель мало чтил. — Он дни свои влачил в сетях разврата— И ночи за пирами проводил... Эти стихи звучали заманчиво и таинственно. Не то что стихи Пети Кузнецова. Я уверен, что ни трезвый, уравновешенный господин Вейнбаум, ни внушительная мать Имы никогда не раскрывали этой книги. Иначе разве оставалась бы она лежать в гостиной на зелёной бархатной скатерти... Пресыщен всем, утратив счастья грёзы, Он видеться с друзьями перестал. В его глазах порой сверкали слёзы, Но гордый Чайльд им воли не давал. Объят тоской, бродил он одиноко, И нот решился он свой край родной Покинуть, направляясь в путь далёкий... Я его видел, этого человека, одинокого и мятущегося, гордо поднимающего красивую, как у Пети Кузнецова, голову. Спохватился я только, когда заметил, что Има удивлённо смотрит на меня. Он давно кончил списывать и терпеливо ждал, когда я вспомню о нём. В тот день я возвращался домой, опьянённый Байроном. И даже мимо огромного чернобородого городового, читающего человеческие мысли, я прошёл, высоко подняв голову, как Чайльд-Гарольд. Он был и твёрд, и холоден, как сталь... Дома я загадочно глядел на сестру и делал какие-то двусмысленные намёки, за которые был назван дураком. Изумительные картины раскрывались передо мною. Я видел, как скитался Чайльд-Гарольд по морям. Я слышал шум сечи, в которой бился он за свободу греков. Госпожа Вейнбаум перестала сидеть на моих уроках. Има молчаливо принял мой новый педагогический метод. Он списывал с книги, а я путешествовал с Чайльд-Гароль-дом. Я вместе с ним рубил грозных турецких тиранов, восхищался греками и вместе с Байроном обращался к ним: Сыны рабов! Не знаете вы, что ли, Что пленные оковы сами рвут, Когда их вдохновляет голос воли!.. И нужна была теперь редкостная смелость, чтобы гордо проходить мимо городового, читающего мысли... Но долго так продолжаться не могло. Однажды Има робко спросил меня, будем ли мы ещё когда-нибудь писать диктант. Я ещё не кончил читать «Чайльд-Гарольда» и не мог бросить героя в пути. Попросить разрешения взять книгу с собой я не решался. И тогда я нашёл но-вый хитроумный выход. Я решил диктовать Име не про вишнёвую косточку, а про Чайльд-Гарольда... Мальчик покорно писал абсолютно непонятные ему слова. А госпожа Вейнбаум, которая опять стала наведываться к нам, иногда даже начинала дремать под мерный ритм стихов Джорджа Гордона Байрона. Конец наступил неожиданно. Однажды днём вернулся из магазина сам Семён Исаакович Вейнбаум. Я заметил его, когда было уже поздно. Има прилежно водил пером по бумаге. А я вдохновенно вещал: Амур оставил след перстов небрежных На ямках щёк испанки молодой, Её уста — гнездо лобзаний нежных, Что может в дар лишь получить герой... Господин Вейнбаум надвинулся на меня незаметно и грозно, как ангел смерти. Он взял из моих рук Байрона, посмотрел. Потом взял тетрадь сына, прочёл последнюю страницу диктанта и спокойно, чересчур спокойно, зловеще спокойно, спросил: — Это входит в программу испытаний для приготовительного класса?.. Что я мог ответить? — Или это ваша собственная программа, господин учитель?! Он слегка повысил голос. Взволнованная мадам шелестела уже платьем около нас. — Что такое, Семён, чем ты недоволен? — Один месяц остался до экзаменов, — всплеснул руками Семён Исаакович Вейнбаум, — один месяц! ...Надо отдать ому справедливость — он был сдержанным человеком. И он, очевидно, не совсем понял, какую роль играл Байрон во всей этой истории. Никто не смог бы обвинить господина Вейнбаума, если бы он взял меня за шиворот и выкинул с чёрного хода своего собственного дома. Нет, он не сделал этого. Он заплатил мне в окончательный расчёт шесть рублей тридцать три копейки и выразительно посмотрел на меня. И я бежал, не простившись даже с несчастным, покорным Имой. ...Нет ...Кто любил, тот знает, что прощанья Усугубляют муку расставанья... Лишь горестней нестись с разбитым сердцем вдаль... Теперь я был настоящим изгнанником, настоящим Чайльд-Гарольдом. — Молодой человек... — сказал мне Мендель Глянц, — молодой человек, в такой дом я вас определил, в такой дом... а вы... — И он сокрушённо махнул рукой. А рыжий Мошка гнусно ухмылялся. СЫН ЧЕСТИ 1 25 февраля 1917 года мне исполнилось тринадцать лет. В этот знаменательный для меня день я становился совершеннолетним — бар мицво, сыном чести. С этого дня я был обязан точно и беспрекословно выполнять новые, многочисленные и — увы! — нелёгкие обязанности на службе у всевышнего. Таков был старинный еврейский закон. Между тем мои отношения с богом за последние годы значительно испортились. Я бы не сказал, что между нами пробежала чёрная кошка, но прежней страстной и суровой, почти мистической веры у меня не было и в помине. Я не любил бога давно и не совсем доверял ему. Но я ещё боялся его. И этот страх заставлял меня скрепя сердце выполнять все обряды, просиживать в синагоге на своём сиротском месте длинные праздничные богослужения и честно поститься в судный день. Никто меня не принуждал к этому. Тень отца не являлась ко мне по ночам, а мать, моя добрая мать, сама не прочь была подложить мне вкусные куски в день поста. Но лжи в этом я не допускал. Отношения мои с богом были сугубо официальные, холодные, я бы даже сказал — неприязненные, и я тем более не мог опуститься до обмана и лицемерия. Я с восьми лет стал главой семьи, отвечал за всю семью перед суровым богом. И я старался добросовестно, хоть и без всякого воодушевления, выполнять свои обязанности перед ним, перед вездесущим. А существовал ли он вообще, бог? Вопрос этот последний год всё чаще занимал меня. Среди гимназистов был создан нелегальный кружок. Руководил им отец Вани Филькова. Назывался кружок сложно и вычурно — КПИОЖ. что значило: кружок по изучению общественной жизни. Впрочем, дальше рассказов о французской революции и чтения политэкономии Железнова дело в кружке не шло. И было в нём всего человек пять—шесть. Но само пребывание в этом «подпольном» кружке возвышало всех нас в собственном сознании. У нас была своя тайна. Разговоры в кружке и беседы с отцом Вани Филькова расширяли мой гимназический кругозор, бросали тень на вседержителя, отдаляли меня от него, но я ещё не хотел задумываться над вопросами религии — я боялся, я не имел права ставить под удар семью и старался оттянуть окончательное: и неизбежное решение. Тяжёлая война с немцами в тот год подступила к нам вплотную. Прифронтовой город наш был наводнён беженцами. Много новых учеников прибыло в нашу гимназию. Процентная норма была сорвана, и — шутка сказать! — в гимназии имени Александра I Благословенного обучалась добрая сотня еврейских детей. Влиянием среди богатых евреев города пользовалась сионистская организация. Во главе её стоял верноподданный Соломон Розенблюм, а среди гимназистов сионистскими вождями считались Веня Розенблюм и Изя Аронштам. Я не любил сионистов, и они отвечали мне тем же. Моим лучшим другом в классе по-прежнему был Ваня Фильков, а маленькие сионисты считали меня отщепенцем. Но с 25 февраля 1917 года я становился сыном чести — получал право надевать на голову кубики со священными молитвами и семь раз окручивать руку чёрными лакированными ремешками. — Ну, — сказала мне мама, — ты уже большой, Саша... Бар мицво. Она погладила мою руку, оплетённую ремнями, и заплакала. Большое испытание предстояло мне в субботний день. Как равный среди равных, должен был я прийти в синагогу к чтению торы. В этот знаменательный день раввин должен был вызвать меня на возвышение, а мне полагалось прямо вслед за старостой Соломоном Розенблюмом прочитать нараспев молитву перед главой из священного писания. Это считалось высокой честью. К чтению торы приглашались наиболее уважаемые члены общины и мальчики в день тринадцатилетия. При одной мысли о субботнем дне сердце моё начинало учащённо биться. Я ждал и боялся этого торжественного и страшного дня. У меня не было никакого слуха. Учитель пения Фёдор Иванович Сепп при каждой ноте, которую я пытался пропеть, болезненно морщился. Сколько издёвок пришлось мне перенести на уроках пения! Сепп запретил мне участвовать в общем хоре, и весь урок пения я должен был стоять в углу, на виду всего класса, и служить мишенью остроумия Фёдора Ивановича. И вот теперь я должен пропеть молитву перед всей синагогой. В субботний день синагога была полна. Господин Розенблюм, староста, важный, как царь Соломон, занимал самое почётное место, рядом со старым раввином Исроэлом Каханом. Шёлковое покрывало Розенблюма блестело, как солнце. Рыжая пышная борода (говорили, что он красит её хной) пылала. Да, это был староста! И хотя все евреи знали, что наш староста отъявленный плут и выматывает все соки из рабочих на своей лесопилке, и хотя весь город говорил о десятках тысяч, заработанных им на мошеннических строительных подрядах, молящиеся с уважением смотрели на господина Соломона Розенблюма. Да, этот человек был угоден богу! Ведь да-же генерал-губернатор Альцимович пожимал ему руку. Только старый грузчик Гилель Меерзон, сидевший ря-до со мной на последней скамейке, каждый раз со злобой сплёвывал, когда вызывали к торе Розенблюма, и выходил «подышать воздухом» в синагогальный притвор. Но кто считался с мнением грузчика Меерзона! Итак, в этот субботний день синагога была полна. Заняты были и все женские места на хорах. Даже моя мать, никогда не ходившая в синагогу, пришла со старым, потрёпанным молитвенником и близорукими глазами искала внизу, среди взрослых евреев, своего сына. Конечно, трудно было объяснить такой наплыв народа желанием послушать моё чтение торы. В тот день по городу ползли слухи, что в Петрограде неспокойно. Передавали о каком-то значительном выступлении Родзянко. Шёпотом говорили об отъезде царя в ставку. На некоторых отдалённых скамьях даже исподтишка шелестели газетами. Где ещё, как не в синагоге, можно было поговорить об этих животрепещущих вопросах! Я пришёл в синагогу к самому началу службы. — А, Сендер! — сказал шамес Бенцман. — Тебя сегодня вызывают к торе?.. Ну, поздравляю, Сендер, поздравляю! Ах, как идут годы! — И шамес, глубоко вздыхая, пошёл ставить свечи. Мой сосед, грузчик Меерзон, ничего не сказал. Он только неопределённо хмыкнул и уставился в свой молитвенник. Это даже обидело меня. — Вы не знаете, какая сегодня будет читаться глава из торы? — спросил я его совсем равнодушно. — Кажется, меня сегодня вызывают на возвышение. — Поздравляю, парень, поздравляю!.. — иронически поклонился он мне, не отвечая. Первым, как всегда, поднялся на возвышение раввин. Он снял с торы праздничный плюшевый чехол. Облако пыли взвилось вверх, и раввин закашлялся. Он развернул пергаментный свиток и начал читать молитву нараспев, дрожащим, стариковским голосом. Все слушали его. Вторым был приглашён к чтению староста — Соломон Розенблюм. Он читал громко и раскатисто. Священные слова, казалось, пробивались сквозь пламенные заросли его бороды. Когда же вызовут меня? Уже читал молитву мучник Мендель Глянц, уже прошёл на возвышение табачный торговец Вейнбаум. Даже аптекаря Аронштама пригласили сегодня к торе. Сердце моё сжималось. Глаза наполнились слезами. Неужели они забыли про меня? Мне захотелось крикнуть: «Совершается несправедливость: забыли вызвать меня, сына чести! Что скажет бог?» Гилель Меерзон иронически смотрел на меня. И в тот миг, когда я решил, что всё уже потеряно, раздался трубный голос с возвышения: — Приглашается Сендер бен реб Эли!.. Я не сразу понял, что речь идёт обо мне. Шёл к возвышению, как в тумане. И вот я около торы. Дрожащими губами прикоснулся к пергаменту. Сначала даже не различал букв. Но я знал текст наизусть. Звуки моего голоса показались мне чужими. В первый раз я на виду у всех беседовал с богом. Я завывал хриплым, чужим голосом и не видел, как страдальчески поднял седые брови раввин Исроэл Кахан, как смеялся в бороду Соломон Розенблюм. Я выкрикивал слова молитвы, точно сам Моисей перед народом израильским. Тихий шёпот Дувида Бенцмана едва донёсся до меня: — Тише, Сендер, тише!.. Тут же нет глухонемых. Я не помню, как кончил. Шатаясь от усталости и напряжения, я, не замечая никого, шёл к своему месту. Гилель Меерзон встретил меня раскатами смеха. Этот угрюмый, молчаливый человек внезапно стал весёлым и общительным. — Аи, Сендер! — грохотал он. — Ой, Сендер!.. Ну, молодец!.. Ну, спасибо!.. Это же цирк!.. Это же лучше цирка!.. — Он задыхался от смеха. — Наш кантор может теперь спокойно умереть. 3 Смех Гилеля Меерзона до сих пор стоит в моих ушах, когда я вспоминаю об этом дне. — Для кого... — жарко говорил я вечером Ване Филькову, — для кого я был сегодня клоуном? Для бога? Для Соломона Розенблюма? Для всей синагоги? Ведь надо мной смеялись, как в цирке. Ваня... ты понимаешь, Ваня? Я готовился к этому дню, а надо мной смеялись... Бог?.. Где он, этот бог?.. Вот твой отец говорил нам, что его выдумали, этого бога... Я боялся даже подумать об этом. Но, может быть, твой отец прав... Ваня сочувственно слушал меня. Он давно уже не верил в бога и не ходил в церковь. Очень помог мне в этот вечер мой самый близкий друг, Ваня Фильков! На другой день я не вынул из мешочка чёрных кубиков со священными молитвами и не обернул семь раз чёрный ремешок вокруг своей руки. Это было восстание. Против кого? Против Соломона Розенблюма? Против раввина? Против самого бога? Да, самый молодой член еврейской общины нашего города, сын чести, восстал против бога. В понедельник вторым у нас был урок пения. В этот день у меня с утра ныло сердце. Я предчувствовал какие-то неприятности, но уже не просил бога, как бывало, предотвратить их. Как только Фёдор Иванович вошёл в класс, раскрыл журнал и посмотрел на меня, я приготовился, как всегда, отправиться в угол. Но сегодня он выкинул новый номер. Он глядел на меня и улыбался. Это была зловещая улыбка. Острая бородка его поднималась и опускалась. Он снял пенсне в золотой оправе и подмигнул (это видел весь класс) сидевшему на первой парте Лёве Сербиловскому, своему первому помощнику и жестокому антисемиту. Потом он опять посмотрел на меня. Класс приготовился к представлению. Лёва Сербиловский уже тихо ржал, согнувшись над партой. Ваня Филь-ков что-то яростно бормотал сквозь зубы. Веня Розен-блюм смотрел на учителя покорными глазами. — Ну, Штейн, — сказал наконец Сепп, — поздравляю вас! Вы, кажется, в субботу стали бар мицво. (Он так и сказал это слово по-древнееврейски: «бар мицво».) Растём, Штейн, растём! Лёва Сербиловский не выдержал и прыснул со смеху. Сепп притворно строго посмотрел на него и продолжал: — Слухом земля полнится: говорят, вы блестяще пели в синагоге, Штейн... Я стоял бледный и злой. Я сжал в руке свою любимую хрустальную ручку, подарок тёти Эсфири, и сломал её. — Что же это, Штейн? У нас петь не хотите, а в синагоге поёте лучше кантора? Нехорошо! Обидели нас, господин Штейн: и меня, учителя, и товарищей... Ты обиделся, Сербиловский? Сербиловский с готовностью вскочил: — Обиделся, Фёдор Иванович! Класс ещё не понимал, куда клонит Сепп, и насторожённо ждал. — Но ты ещё можешь исправить свою ошибку, Штейн! Повтори-ка нам сейчас твой номер в синагоге! Я молчал. — Молчите? — пожал плечами Сепп. И вдруг, переменив тон, закричал на меня: — Немедленно! Я приказываю! Штейн, не испытывай моего терпения! Приказываю петь! Мелкая дрожь пробежала по моему телу. Как страстно ненавидел я в эту минуту своего мучителя! Весь класс смотрел на меня. Угнетённый, одинокий, я молчал. Сепп раздражённо подбежал к моей парте. Бородка его взъерошилась, глаза покраснели от ярости. — Мальчишка!—закричал он.—Мальчишка! Ты у меня будешь петь! Он схватил линейку, ударил ею по парте. Линейка треснула. Испуганный класс замер. И тогда внезапно в тишине взлетел вверх ломающийся детский голос. Сын аптекаря Изя Аронштам, маленький, жёлтый, поднялся над своей партой, выкрикнул какие-то непонятные слова и заплакал. Фёдор Иванович оторопело уставился на тихого и скромного Аронштама. Потом он оставил меня и побежал к Изе, но вдруг в ужасе остановился: Ваня Фильков запел «Марсельезу». Каждый звук этого гимна здесь, в стенах гимназии имени Александра I Благословенного, потрясал основы, означал бунт. У Вани был не по годам сильный басок. Кое-кто в классе подтянул. Недаром изучал наш КПИОЖ историю французской революции! Звучные молодые голоса подхватили песню французских санкюлотов. Какие это были потрясающие минуты! Сепп рванулся обратно к нашей парте. Он подбежал к Ване Филькову и схватил его за руку. И тогда прямо в лицо Сеппу я запел, подтягивая Ване: Вставай, подымайся, рабочий народ! Вставай на борьбу, люд голодный! Наверно, я фальшивил, выкрикивал слова надрывно и исступлённо. Но никто не смеялся надо мной, никто не пытался остановить меня. Сепп отшатнулся. Он понял, что надо как-нибудь помешать нам, заглушить наши голоса. И тогда он, кивнув Сербиловскому, сам затянул своим великолепным, густым басом: Боже, царя храни! Некоторые поддержали Сеппа. Мне показалось, что Веня Розенблюм тоже пел «Боже, царя храни!» Были и такие, что сумрачно молчали, уставившись глазами в пол. Мы не сдавались. Изя Аронштам печально сидел, закрыв лицо руками. А мы пели, заглушая порой могучий бас Фёдора Ивановича Сеппа, который вырывался из класса и проникал во все уголки гимназии. Внезапно с шумом открылась дверь, и на пороге появился директор. Он был в парадном мундире, с орденами и при шпаге. Седая борода его двумя пышными кустами расходилась в стороны. — Воспитанники! — Директор поднял руки. — Воспитанники!.. И все замолкли. И мы, и они. Только Сербиловский в последний раз с разбегу рявкнул: ...царя храни! — Воспитанники!.. — раздражённо повторил директор, но тут же махнул рукой и сказал сокрушённо и глухо: — Его императорское величество государь император Николай Второй отрёкся от престола... ЛИСТОВКИ Огромный портрет царя, висевший в табельные дни на здании Окружного суда, передали нашей гимназии. Ходили разговоры, что местному художнику Шварцу предложили сделать уменьшенную копию с этого портрета. Но Шварц отказался, о чём было доложено генерал-губернатору Альцимовичу. Портрет занял целую стену в актовом зале. Чтобы повесить его, сняли портреты Пушкина, Гоголя и Аксакова. Всезнающий Мишка Тимченко рассказывал, что учитель литературы Илья Петрович Штыковский пытался отстоять великих писателей, но только нажил неприятности. Когда в актовом зале совершались торжественные молебствия и отец Александр становился под самым портретом, казалось, что император попирает своими роскошными сапогами пышную каштановую шевелюру нашего священнослужителя. Портрет царя сняли в тот же день, когда директор сообщил нам о перевороте. Заодно прихватили и нашего августейшего шефа, Александра I Благословенного. А многие гимназисты — и, конечно, мы с Ваней — выломали с гербов коронки и царские инициалы. Из библиотеки опять принесли портреты писателей. Теперь рядом с Пушкиным, Гоголем и Аксаковым водрузили Льва Николаевича Толстого, а вскоре, к ужасу Таракана, повесили неизвестно где раздобытый портрет декабриста Кондратия Рылеева. Значение февральской революции (Таракан называл её почему-то «пертурбацией») мы почувствовали через два дня, на открытом заседании педагогического совета Впервые на совет пригласили представителей учащихся. Делегат седьмого класса Кузнецов, тихий и томный Чайльд-Гарольд (и кто бы мог ожидать от него такой прыти!), вынул из кожаного портсигара папиросу, подошёл к самому директору и попросил у него прикурить. И гром не грянул в актовом зале. Директор настолько растерялся, что сам щёлкнул перед Кузнецовым своей массивной серебряной зажигалкой. Впрочем, на этом же заседании совета он перестал быть директором. Председателем педагогического совета избрали Илью Петровича Штыковского. Против него голосовали Фёдор Иванович Сепп и Таракан. Мы, младшеклассники, большого участия в школьном перевороте не принимали. Но делегатов в ученический комитет посылали и мы. Недолго ломали мы голову над тем, кого выбрать: просто устроили в классе французскую борьбу. Два чемпиона, победившие всех остальных, считались избранными. Так первыми нашими депутатами оказались Ваня Фильков и... Лёва Сербиловский. Да, Лёва Сербиловский, любимец Сеппа, стал первым нашим депутатом. Между тем исторические события развивались своим чередом. В общественной жизни нашего города отражались события, происходившие в стране: в городской думе шли бесконечные митинги и заседания. Приезжали разные партийные лидеры из самого Петрограда. Борьба обострялась. В центре всех вопросов, волновавших и старых и малых, стоял вопрос о войне. Война, длившаяся уже четвёртый год, всё ближе подступала к нашему городу. Сотни семейств уже потеряли на полях сражений своих кормильцев. Совсем недавно наша соседка прачка Ефросинья Тимофеевна, всхлипывая, рассказала мне о том, что убит грузчик Ярослав, когда-то «научивший» меня приёму джиу-джитсу. Теперь фронт был совсем рядом. Иногда в тихие, безветренные ночи мы слышали отдалённые звуки артиллерийской канонады. Однажды над самым городом, совсем низко, пролетел огромный сигарообразный цеппелин. В город прибыли для отправки на фронт новые солдаты. Вид их был необычен: широкие скулы, узкие глаза; длинные пёстрые халаты; цветные тюбетейки и мохнатые бараньи папахи. Их пригнали из Средней Азии. Раньше их не брали в армию. Нам рассказывали о них всякие страхи. Но вели они себя очень скромно, тихо и никого не обижали. Городские казармы оказались переполненными, и новых солдат разместили по квартирам на окраине города. К нам тоже поставили одного. Мама беспокойно приглядывалась к нему. А мне он понравился. Наш гость был небольшого роста. Смуглое лицо его казалось мне красивым. Глубокие, чуть раскосые глаза, прямой нос. Чёрные с сединой усы. Целыми днями он просиживал над какой-то не по-нашему написанной книгой, думал, качал головой, делал какие-то записи в толстой тетради. В городе стало тревожно... По неизвестным причинам вспыхнуло несколько пожаров. В каждом квартале в помощь народной милиции организовали ночные дежурства. Несмотря на упорные возражения мамы, я добился, чтобы и меня включили в список часовых. Наконец наступила и моя очередь. Обязанности ночного дежурного казались мне почётными и ответственными. С большой ржавой шашкой, знаком достоинства часового, я шагал по ночной пустынной улице. Шашка дребезжала, волочась по мостовой. Я изредка вынимал её из ножен, пробовал на палец зазубренное остриё. Проходя мимо каждой тёмной подворотни, клал руку на эфес. Казалось, везде подстерегала меня опасность, и я готов был встретить её, как настоящий мужчина, как настоящий воин. Но никакие бандиты из подворотни не выскакивали, пожары не возникали. И я вернулся на завалинку своего дома, чтобы закусить бутербродом, положенным мамой в карман моего пальто. На завалинке сидел наш постоялец и тихо напевал что-то низким гортанным голосом. Он посмотрел на меня ласковыми, добрыми глазами. Я сел рядом, развернул бутерброд и застенчиво предложил ему половину. Он улыбнулся и отрицательно покачал головой. Потом он тронул мою великолепную шашку и тихо засмеялся, приоткрыл мелкие, очень белые зубы. Это мне не понравилось, и я хмуро отодвинулся. Тогда постоялец вынул из широкого кармана халата книжку, раскрыл её и поманил меня пальцем. Две страницы книжного разворота занимала географическая карта. Свет большой, круглой луны падал прямо на книгу. Я сразу нашёл наш город и показал постояльцу. Он кивнул головой и повёл пальцем на юго-восток, к большому голубому озеру. По его жестам я понял, что это его родина, но прочесть название города на незнако-мом языке не мог. Видел, что это далеко, за Каспийским морем, которое я легко узнал на карте, очень далеко от нашего города. Постоялец развёл руками, вздохнул и сказал: «Ташкент». Потом, указав на себя, добавил по-русски: «Учи-тел», и, помолчав, опять развёл руками и сказал странную фразу: «Цар. Война. Зачем?» Очень странный разговор произошёл у нас с этим человеком. Но я понял его. Он учитель из далёкой Азии. Там у него, наверно, такие же ученики, как я. И пригнали его сюда, за тысячу вёрст, чтобы воевать. Зачем?.. Над такими сложными вопросами я ещё не задумывался. Я знал, что идёт большая война. Николай против Вильгельма. Русские против немцев. Я читал о подвигах Козьмы Крючкова и восторгался его героизмом. Правда, в прошлом году убили дядю Вани Филькова, и я слышал однажды, как Василий Андреевич разговаривал о войне с Ваниной мамой и ругал царя Николая, по-сылавшего на убой тысячи людей. «Бойня, — говорил Фильков, — беспощадная бойня». Но ведь царя Николая больше нет. Почему же война продолжается? И почему этот учитель из далёкой Азии тоже идёт на войну?.. На другой день нашего постояльца перевели в казармы. Новые маршевые роты отправлялись на фронт. А Василий Андреевич, которому я рассказал о своём ночном разговоре, объяснил мне, что мой ночной собеседник — узбек, сын большого народа. Узбеки живут за Каспием, они создали прекрасные памятники искусства. Царь довёл их до последней степени нищеты и унижения. Я вспомнил умные и печальные глаза узбекского учителя и пожалел, что разговор наш был так скуп и немногословен. Но почему всё-таки продолжается война? «Война до победного конца», — как писал в газете «Речь» министр иностранных дел Милюков. В гимназии продавались разные петроградские газеты. Я читал и кадетскую «Речь», и эсеровское «Дело народа» и не мог найти ответа на вопросы, волновавшие меня. В большевистской «Правде», которую читал Фильков, писали, что рабочим и крестьянам война не нужна. Ни нашим, ни немецким. Надо войну кончать. «А почему бы, — думал я, — немецким рабочим не скинуть своего Вильгельма, как мы скинули Николая? Тогда бы мы скорее договорились. Как хорошо, если бы и там вспыхнула революция!» Но у нас-то революция произошла, а в городе хозяйничали фабрикант Немцов и господин Розенблюм. Шли даже разговоры о том, что Фильков опять сеет смуту и нужно его арестовать. Хлеба выдавали по карточкам всё меньше, и у хлебных магазинов стояли день и ночь тысячные очереди. Восемнадцатого июня в наш город приехал Милюков. Отцы города устроили ему пышную встречу. Нам объяснил Ваня, что Милюков уже не министр иностранных дел, но всё же видная шишка в Петрограде. Милюков выступал на той же Соборной площади, на которой когда-то встречали царя. Он стоял на трибуне. Высокий, худой, в пенсне с чёрным шнурочком, похожий на старого сибирского кота, с пушистыми седыми усами. Он говорил о необходимости продолжать войну. В этот день газеты напечатали приказ нового премьер-министра Керенского о наступлении. — Я — политический противник Керенского, — сказал Милюков, — но сегодня я преклоняюсь перед Александром Фёдоровичем Керенским. И фабрикант Немцов, и господин Розенблюм, и городской голова купец Антропов, и табачный торговец Вейн-баум, и даже известный актёр эсер Закстельский нсисто-во захлопали в ладоши. А солдаты, заполнившие площадь, засвистели и закричали: «Долой!» Неожиданно пошёл дождь. Милюков пытался продолжать речь; Антропов и Вейнбаум раздобыли зонтики и подняли их над бывшим министром. Он как-то сразу потускнел. Слушатели стали расходиться. Весь торжественный церемониал нарушился. Солдаты продолжали кричать: «Долой!.. Долой министров-капиталистов!..» Я скрылся от дождя под навесом Окружного суда, и мимо меня прогрохотала по мостовой пролётка, в которой между Антроповым и Розенблюмом сидел Милюков. Пышные седые усы его опустились книзу. Фильков рассказывал, что положение на фронтах всё ухудшалось. Назревали новые революционные события. Керенский издал указ о введении смертной казни за антивоенную пропаганду. Вопрос о смертной казни решили обсудить на заседании городской думы. Большевистская фракция думы, возглавляемая Фильковым, готовилась к бою. Незадолго до заседания думы я зашёл к Ване Филько-ву. У него я застал Мишку Тимченко и коренастого паренька, лицо которого показалось мне очень знакомым. Я присмотрелся. Да ведь это Семён-слесарёк, развенчавший знаменитый приём джиу-джитсу и положивший меня на обе лопатки! Как же он окреп и возмужал! Мы переглянулись и засмеялись. Я крепко пожал руку Семёну. — Сашка, — сказал мне Ваня, — ты, конечно, мой друг, но человек, можно сказать, беспартийный, поэтому я на тебя не рассчитывал. Однако я тебе доверяю. Сегодня нам предстоит боевое задание: надо проникнуть в театр и разбросать листовки. Дело, конечно, небезопасное: могут схватить и избить. Ну, как ты? Согласен? Значит, Мишка Тимченко — партийный. А я беспартийный? Сильно обиделся я на Ваню. Но надо было отвечать. Я нахмурился и сказал независимо и угрюмо: «Согласен». В театре мы с Ваней были своими людьми. Администрация не раз нанимала нас для расклейки театральных афиш по городу. Зная все входы и выходы, мы проникли в театр ещё до начала заседания думы и притаились в разных концах галёрки. За пазухой у нас лежали листовки. На одной стороне большие буквы кричали: «Долой войну! Долой смертную казнь!» На другой была напечатана статья, подписанная Лениным. Статью я, правда, прочитать не успел, но целиком доверял Ване Филькову. Театр быстро заполнялся. Депутаты думы сидели в партере. В ложах, амфитеатре, бельэтаже, ярусах — публика: рабочие, служащие, солдаты. Солдаты со всех сторон окружали нас и на галёрке. Заседание открыл городской голова купец Антропов. Мы плохо прислушивались к речам: думали о своём опасном задании. Сверху мы видели пышные шевелюры, колючие бобрики — многие теперь стриглись под Керенского — и блестящие розовые лысины в первых рядах. Выступали представители всех партий. В разных местах зала вспыхивали аплодисменты. Говорил Фильков, и ему долго аплодировала наша галёрка. Потом вопрос о смертной казни поставили на голосование. Голосовали поимённо. Сквозь шум я расслышал знакомый твёрдый голос Василия Андреевича Филькова: «Я — против». Последним назвали фамилию правого эсера адвоката Якушевича. Он сидел как раз подо мной, и я хорошо видел его. Якушевич поднялся, картинно простёр правую руку и сказал неожиданным для его массивной фигуры звонким, почти визгливым голосом: — Я против смертной казни! Но когда гибнет родина... (он помедлил), я воздерживаюсь... В этот момент Ваня дал знак. Мы разом выбросили листовки. Синие, красные, зелёные, белые листки взметнулись над залом и стали плавно, точно разноцветные го-луби, опускаться вниз — на сцену, в партер, в ложи, в бельэтаж, в ярусы (на галерею запустил листовки Мишка Тимченко). Мы не могли долго любоваться этой картиной: приходилось со всех ног бежать по лестницам вниз... До нас донеслись крики и свистки (очевидно, всполошился милицейский наряд), когда мы уже достигли подъезда. Запыхавшись от бега, мы собрались на заднем дворе и, задыхаясь, перебивая друг друга, захлёбываясь, обменивались впечатлениями. Задание было выполнено. Мы получили боевое крещение. СТРОИТЕЛЬ 1 После Октябрьской революции в нашем городе возникли многочисленные ученические организации: школьная кооперация, совучдеп — как легко понять, совет ученических депутатов; ЦУК — здесь уже догадаться значительно труднее: центральный ученический комитет; ученический журнал «Луч из мрака», ещё один ученический журнал — «Юный горн»; и, наконец, губкомтрудуч, что означало — губернский комитет по привлечению учащихся к трудовой повинности. Зачем он существует, я не понимал, хотя и был одним из его комиссаров. Помню .только, что в воскресные дни мы составляли отряды по собиранию шишек в пригородном лесу. После горячих лесных сражений шишки из метательных снарядов превращались в топливо, мы сваливали их в мешки и доставляли в губтоп. О серьёзной учёбе, конечно, не могло быть и речи. Заседания, слёты... В класс «общественные деятели» попадали в лучшем случае раза два в неделю, но и там мало вникали в премудрости науки. Мне исполнилось четырнадцать лет. Государственные заботы не оставляли меня даже по ночам. Я не завидовал теперь лаврам старшеклассника поэта Пети Кузнецова, бледного юноши, похожего на Байрона. Я писал стихи, как и Петя Кузнецов. Про них говорили: «Стихи проникнуты гражданскими мотивами и высоким пафосом». В первую годовщину Октябрьской революции я напечатал в ученическом журнале «Луч из мрака» стихотворение о новой школе. Оно начиналось так: Школу великую, школу единую Мы получили, друзья. Школу прекрасную, школу свободную, Школу святого труда. В стихотворении было двенадцать строк, а слово «школа» повторялось двадцать семь раз. Рифмы звучали невпопад. Но всё это я понял уже значительно позднее. А в те дни стихи казались мне великолепными и безусловно значительными. Омрачало мою политическую и литературную деятельность одно весьма немаловажное обстоятельство: после смерти отца я считал себя обязанным содержать семью. Журнал «Луч из мрака», к сожалению, гонорара не платил. Мама всё чаще болела и вынуждена была оставить свою работу в школе. Сестра давала уроки, но приносила гроши. Надо было спускаться с Парнаса и искать службу. Я записался на биржу труда. Мой номер был 17163. Это в нашем-то небольшом городе! Мать изобретала всякие средства, чтобы кормить нас бутербродами с повидлом. О пшеничном или ржаном хлебе мы уже забыли. Хлеб пекли из овса, ячменя, кукурузы, и острая солома, выпиравшая из ломтей, больно вонзалась в нёбо. Нужно было во что бы то ни стало найти любую работу. Однажды мне и Ване Филькову поручили расклейку по городу театральных объявлений. Я взял свиток больших синих афиш, а Ваня — ведро с клеем. Мы ходили по городу, надвинув низко на лоб форменные фуражки без гербов. На перекрёстках улиц я поспешно разматывал огромный лист, Ваня быстро смазывал его клеем. И вот уже красуется объявление о гастролях известных актёров — Валерии Феликсовны Драгиной и Алексея Прокофьевича Кудрина. Так я впервые прикоснулся к искусству. При встрече со знакомыми мы поспешно переходили на другую сторону улицы. Я чувствовал, как падает мой авторитет председателя совучдепа и члена ЦУКа. Но мы получили за один день расклейки двадцать пять рублей и две контрамарки в театр. В театр я, впрочем, не попал: у меня было заседание КПИОЖа. Номер 17163 был очень далёкий номер. Я соглашался на всякую временную работу: бегал по городу, проводя продовольственную перепись, сидел в статистическом бюро, подсчитывая какие-то лесные дачи за 1893 год и количество свиней и баранов по земским сведениям за 1889 год. Это было одуряюще уныло и случайно, а мне хотелось настоящей, надёжной, большой работы. Я похудел, вытянулся. Даже общественная деятельность не так уж привлекала меня. ...Но вот и ко мне пришла долгожданная путёвка с биржи! «Александр Штейн направляется в Комитет государственных сооружений на должность табельщика». Табельщик — это звучало солидно и даже торжественно, хотя я не знал, что означает это слово, и мне почему-то вспоминались табельные дни, флаги, зажжённые плошки на улицах... Первым моим начальником оказался маленький лысый техник Семён Андреевич Буков. Молчаливый и хмурый, он сидел в огромной комнате, уставленной столами. За ними работали люди, старые и молодые. Они что-то чертили, рисовали, высчитывали. Это было строительное управление. Буков назывался производителем работ. Я приобщился к новому миру, становился строителем. Обязанности мои оказались несложными — ходить по постройкам и отмечать палочками в табелях вышедших на работу мастеровых. Но работа мне нравилась. Я не. сидел на одном месте в душной комнате: постройки располагались по всему городу. Я раздобыл старый брезентовый портфель для своих табельных ведомостей и деловито шагал с ним по улицам. Встречая товарищей по классу, я снисходительно кивал им головой и принимал озабоченный вид. Я забыл и думать о школе. Особенно полюбил я постройку нового дома на набережной. Там вкусно пахло свежими опилками, речной сыростью, махоркой, которую курили плотники. Я избирался высоко на леса, и весь город открывался мне оттуда. Старый печник Израиль Слив угощал меня чёрным хлебом с селёдкой, а маляр Фалкин давал кисть и позволял несколько раз мазнуть по недокрашенной переборке. В обед я рассказывал рабочим городские новости, читал им газеты. Мне нравилось следить день за днём, как вырастает здание, как возводятся стены, кладутся печи. Вот стена, вчера ещё обнажённая, перекрещенная дранками, заштукатурена и блестит голубоватой краской. Я постигал тайны ремесла. Печник Слив объяснял мне, как кладут печи в два и в три дымохода, маляр Фалкин вводил в тонкости малярной работы, а плотник Горелов поручал строгать доски. Я научился владеть инструментами. Чувство счастливого удовлетворения испытывал я, когда простой кусок дерева принимал под моей рукой нужную форму. Вскоре я уже мог сам произвести точный расчёт материалов для постройки и даже составить предварительную смету. Иногда со мной на постройку ходил Буков. Он объяснял мне, как производят обмеры. Измеряя объём цилиндpa железной утермарковской печи, я впервые понял, зачем изучают в школах геометрию. Через полгода меня назначили десятником. Буков доверил мне две постройки. Я приобрёл круглую рулетку, сам делал расчёты материалов, из моего кармана постоянно торчал металлический складной метр. Я руководил настоящей постройкой. Это было интереснее даже, чем работа в совучдепе. Старый мастер Слив часто помогал мне советами. Когда исполком решил предпринять ремонт рабочих квартир в нашем городе, мне доверили руководить этим ремонтом в Заречном районе. Мне было почти пятнадцать лет, и меня звали в районе «молодой инженер». 2 Рано утром, когда я ещё потягивался в постели, в передней нашей маленькой квартиры начинались какие-то таинственные разговоры. В мою комнату доносились приглушённые голоса: — Молодой инженер ещё спит? Посетители — рабочие и ремесленники, хозяева ветхих окраинных хибарок — приходили просить о срочном ремонте. Я ничего не мог для них сделать: очерёдность ремонта устанавливал сам начальник строительства. Но мне нравилось чувствовать себя столь значительной фигурой. Это уже не игра во взрослых, которой мы чистенько занимались в наших ученических организациях. Это — настоящее дело. Вся тяжесть переговоров с посетителями падала на маму. В одно прекрасное утро мне принесли взятку. Мамы в этот день дома не оказалось. Дверь открыла сестра. Я слышал только чей-то гортанный голос. Потом что-то с шумом упало и хлопнула дверь. Когда я выбежал в переднюю, там никого не было. В руках у сестры переливался зелёным цветом гранёный пузырёк духов, а на полу стоял средних размеров мешок с картошкой. На мешке белела записка: «Запрудная, 24. Шлойма Мошкович, Большая прозьба». Я побледнел не столько от негодования, сколько от смущения. Минуту я растерянно стоял в передней. Потом вырвал у растерявшейся Ани пузырёк, схватил мешок с картошкой и полуодетый выскочил на улицу. Мошкович уже исчез. Я стоял на крыльце с мешком и флакончиком в руках, и сердце моё разрывалось от ужаса. Я стал взяточником! В тот же вечер «молодой инженер» Штейн шагал тёмными переулками с мешком за плечами в поисках дома № 24 по Запрудной улице. Мне было тяжело и обидно. ...Я ничего не сказал Шлойме Мошковичу. С возмущением бросил мешок. Картошка высыпалась, застучала по земляному полу. Сразу на душе стало спокойно: я не поддался искушению, оказался достойным своего звания. Вскоре меня ожидало новое испытание. Я услыхал знакомый кашель в передней. Реб Дувид Бенцман, шамес. — Заходите, реб Дувид, будьте гостем. Как он постарел, реб Дувид! И борода его начала седеть. — Ну, Сендер, — сказал шамес, — странные времена пришли. Ты совсем забыл синагогу. Ты — занятой человек. Но надо найти время и для бога... А, Сендер? Все мои дела с богом я давно считал поконченными и не хотел спорить на эту тему. Мы помолчали. «Зачем он пришёл?» — старался понять я. Он принёс с собой затхлые запахи синагоги. И сразу ожили все пережитые мною в этом доме обиды. Я сумрачно смотрел на Бенцмана. Он кашлянул. Потом вынул свою старенькую табакерку, понюхал, чихнул несколько раз. Он был явно чем-то смущён. — Сендер, — сказал он, наконец решившись, —у меня развалилась печь. Надо починить, Сендер. Наступают холода... К этому я никак не был подготовлен. Я нервно теребил кисти скатерти. Он смотрел на меня выжидательно и жалобно. — Реб Дувид... — дрожащим голосом сказал я, — товариц Бенцман, — повторил я решительнее,— я не могу починить вашу печь. Мы не производим ремонт в домах служителей культа. Это слово я вычитал в газетах, и оно очень нравилось мне: служитель культа... Никогда ещё мне не приходилось применять это слово в разговоре. Бенцман затряс бородой: — Сендер... побойся бога! Какие слова ты говоришь! Я же сам был слесарем. Ты не хочешь помочь шамесу? Подумай, Сендер... Я оставался непреклонным. Я видел в окно, как он шёл, что-то беспрестанно шептал и горестно покачивал головой. 3 Самой крупной постройкой, порученной мне, была баня. Наша старая, полуразвалившаяся баня. О бане этой не следовало и упоминать, если бы ей не суждено было сыграть некоторую роль в моей жизни. Начальник строительства инженер Энгельгардт вызвал меня к себе. — Вы ещё очень молоды, — сказал он мне, — но я решил поручить вам серьёзное дело. — И он развернул передо мной чертежи. — Сейчас август. Мы должны отстроить баню к годовщине Октябрьской революции. Понятно, Штейн? — Есть, товарищ начальник... — Я любил щеголять своей военной выправкой. Недаром к старой гимназической фуражке на место герба я прикрепил красную звезду. ...В тот же вечер я прибыл на арену новой деятельности, взяв с собою своих учителей: печника Слива и рыжебородого плотника Горелова. Мы пробыли в старой бане несколько часов, осмотрели стены, потрогали все крепления. По нескольку раз вымеряли площадь, шагали по цементному полу, и шаги наши гулко отдавались в пустом здании. Всю ночь я сидел над чертежами. Вскоре работа закипела. Привозили лес, кирпичи, тавровые балки. Прибывали рабочие. С утра до ночи я находился на рабочей площадке. Мне казалось, я создаю не баню, а нечто необычайное — Форум! Колизей! Я ещё более похудел, щёки ввалились, но глаза горели вдохновенным огнём. Не хватало материалов. Я бегал в управление, ожесточённо ругался из-за каждого болта, из-за каждой бочки цемента... Наступила осень. Давно уже оголились деревья, и земля вокруг бани покрылась тусклыми жёлтыми листьями. Мы приступали к реконструкции центрального зала. Половину его большого пространства занимал старый, потрескавшийся бассейн — миква. Вода в бассейне была непроточная. Она менялась раз в год. Здесь совершали священные омовения благочестивые евреи. Здесь они смы-нали свои грехи. Видно, много грехов накапливалось у благочестивых — вода в бассейне постоянно была тёмная и мутная. — Товарищ Штейн, вас спрашивают, — окликнул меня грузчик Меерзон, работавший на стройке. Я поднял голову и обомлел. На пороге стоял старый раввин. Длинный праздничный сюртук, чёрная плисовая ермолка. Седая борода аккуратно расчёсана, голубые глаза источают святость. — Сендер, — сказал он, — дитя моё! Вот я, старый раввин, пришёл к тебе. Я хочу знать, как будет расположена миква в вашей новой бане. И он медленно провёл рукой по своей волнистой бороде. Всё детство я благоговел перед этим человеком. Думал, что он святой, представитель бога на земле. Огромное расстояние отделяло нас всегда друг от друга. Я стоял на самой низшей ступеньке лестницы, на самом верху её возвышался раввин. Никогда ни одного слова не было сказано между нами. И вот он стоит передо мною, старый раввин, и спрашивает о микве, которую я, Александр Штейн, «молодой инженер», четырнадцати лет от роду, собираюсь разрушить. В сметах и чертежах новой бани не нашлось места для старого, грязного бассейна. В моих планах значилось: «Разобрать кирпичный, оштукатуренный бассейн (так называемую микву)». Но что я скажу старому раввину? Впервые в жизни я с глазу на глаз разговариваю с наместником бога. И я не мог найти слов. Раввин ждал. Я оглянулся. Плотник Горелов прятал улыбку в рыжую бороду. Грузчик Меерзон иронически смотрел на меня. Он смеётся надо мной, грузчик Меерзон, он опять смеётся надо мной! Это взорвало меня. — Гражданин Кахан, — сказал я со всей суровостью своих четырнадцати лет, — мы разрушим эту микву. В новой бане не может быть никакой миквы... Он, кажется, сначала даже не понял моих слов. Потом поднял руки к небу и крикнул: — Властитель мира! Прости этому мальчику нечестивые его слова! Он не ведает, что говорит. Он простёр ко мне сухую, сморщенную руку с толстой суковатой палкой. — Подумай, Сендер Штейн, что собираешься ты сделать! Десятки лет стояла здесь священная миква, и ты хочешь разрушить её! Ты идёшь против религии отцов своих... Меня начинал раздражать этот старик. Обаяние святости исчезло. Надрывный крик его казался мне фальшивым. — Прошу вас, гражданин Кахан, не мешайте нам работать, — сказал я решительно. Старый раввин на мгновение замер. Потом сильно ударил палкой об пол. Голубые его глаза потемнели от гнева. — Если миква будет разрушена, я прокляну тебя в синагоге перед всеми евреями! Он стремительно повернулся, и палка его застучала по цементному полу. Длинные полы его сюртука запачкались известью. А мне совсем не было страшно. Мне стало даже весело. — Знаете, товарищ Штейн, — сказал мне с уважением грузчик Меерзон, — вы очень интересно разговаривали с ним. — Меерзон обнажил свои жёлтые зубы. — Он теперь пожалуется на вас богу. Рабочие окружили меня. Они слышали мой разговор с наместником бога. — Ломайте! — крикнул я во весь голос так, чтобы услышал ещё не успевший далеко уйти раввин. — Ломайте микву! Схватив лом, я первый ударил по старому, грязному священному бассейну. ТЕАТР 1 Артист Владислав Закстельский, белокурый красавец с выправкой гвардейского офицера, появился в нашем городе в февральские дни 1917 года. Дебютируя в роли Отелло, он завоевал весь город и затмил нашего старого любимца Алексея Кудрина. К игре Кудрина мы уже привыкли. Он был слишком прост, немного старомоден и не любил эффектных романтических ролей. Не хватало ему настоящего сценического блеска, присущего Закстельскому. Играл, однако, новый премьер редко. Большую часть своего времени Закстельский уделял политике. Числился он в партии социалистов-революционеров, и наши эсеры пользовались им как приманкой для публики. Могучий голос Закстельского великолепно звучал на митингах, и трудно было иногда различить, где Закстельский говорит свои слова, а где читает монолог из какой-либо классической мелодрамы. После Октября Закстельский сразу признал советскую власть и часто разъезжал по сёлам и красноармейским частям, выступая со специальным репертуаром. А разъезжать по уездам прифронтовой губернии было далеко не безопасно. Октябрьская революция прошла в нашем городе почти бескровно. Адвокат Шемшелевич, комиссар Временного правительства, устранился без сопротивления. Органы советской власти в городе возглавил отец Вани — Василий Андреевич Фильков, учитель истории, председатель комитета большевиков. Однако борьба ещё далеко не закончилась. Бывший губернский начальник милиции эсер Никитин-Черкасский организовал в уезде банду. Никитинцы сжигали деревни, убивали коммунистов, грабили крестьян, жестоко расправлялись с захваченными в плен красноармейцами. Несомненно, у никитинцев имелись связи и в городе. Все попытки настигнуть банду и уничтожить её терпели неудачу. В девятнадцатом году мы с Ваней Фильковым особенно увлекались театром. Режисаером городского театра Пыл Андрей Андреевич Барков. Он принадлежал к режиссёрам-новаторам, пропагандировал левые театральные идеи и даже сделал однажды публичный доклад об уничтожении рампы. Нам всё эго казалось заманчивым и прекрасным. Мы сочувствовали Баркову, а он давал нам бесплатные контрамарки. Театр ставил Островского и Шиллера. Мы по десятку раз смотрели «Коварство и любовь», влюблённые по уши в актрису Валерию Феликсовну Драгину. Но она, прекрасная и далёкая, даже не замечала нас, известных, как нам казалось, всему городу вождей совета ученических депутатов. В поисках революционных пьес Андрей Андреевич Барков наткнулся на пьесу Ромена Роллана «Дантон». Он перечитал её несколько раз. Это была находка. 2 Роль Дантона в пьесе Ромена Роллана, конечно, поручили премьеру труппы Владиславу Закстельскому. Роль пришлась ему по вкусу. Здесь было чем блеснуть. Барков при постановке решил обойтись без рампы. Обвинитель, защитник Дантона и присяжные заседатели в сцене суда должны быть избраны самими зрителями. Посвящённые в замыслы Баркова, мы с нетерпением ждали спектакля. В городе становилось всё беспокойнее. В самый канун постановки «Дантона» банда Никитина схватила и растерзала председателя губчека матроса Зубова. Ваня Фильков совсем не видел своего отца. Дни и ночи Василий Андреевич сидел в губревкоме или разъезжал по уездам. Однако он нашёл время пойти с нами в театр. Мы удивились и обрадовались. Старый городской театр был переполнен. В ожидании спектакля говорили о банде Никитина, о налогах, об отсутствии сахара, об измене командира Горохова, бежавшего к Деникину. И вот поднялся занавес... Прекрасная Люсиль Демулен (Валерия Драгина), женственный, мятущийся, противоречивый Камилл, генерал Вестерман, одетый почему-то во френч и галифе с кавалерийскими лампасами, и неподкупный Максимилиан Робеспьер (Алексей Прокофьевич Кудрин), решительный, волевой Сен-Жюст — все прошли перед нами на сцене. Мы глубоко переживали каждое слово. Казалось, действие происходит сегодня, в наши дни, и не сто двадцать пять лет отделяют нас от той суровой эпохи. Спектакль вёл Закстельский. Театр дрожал, когда Дантон, огромный, монументальный, с головой бульдога, произносил свои монологи. Состав зрителей был необычайно пёстрый — рабочие, служащие, лавочники, учителя, школьники, адвокаты, красноармейцы... — Во имя родины, Робеспьер, — декламировал Закстельский, потрясая огромными кулаками, — во имя родины, которую мы обожаем одинаково пламенно и которой мы всё отдали, дадим полную амнистию всем друзьям и врагам, лишь бы они любили Францию... А между тем дни Дантона были уже сочтены. Мы с Ваней знали это. Мы прошли уже эпоху французской революции по учебнику новой истории. Василий Андреевич Фильков ещё в кружке рассказывал нам о Дантоне, Марате, Робеспьере. Но большинство сидящих в театре не знали судьбы Дантона. Не меньше половины театра было заполнено красноармейцами. Они с напряжённым вниманием следили за развитием исторического спора между Робеспьером и Дантоном. Они не могли решить, кто прав. Громкие речи Дантона-Закстельского туманили их. Но вот появился на сцене молодой Сен-Жюст. С фронта. Прямо из-под огня. Этот решительный, волевой человек сразу завоевал симпатии красноармейцев. Сен-Жюста играл наш приятель, молодой актёр Вениамин Лурье. Мы знали, что он долго готовился к роли, перерыл всю городскую библиотеку и даже заставил Василия Андреевича оторваться от ревкомовской работы и дать ему консультацию. Он не декламировал, как Дантон. Он говорил о чести революции, о добродетели, о народе и его врагах, клеймил предателей и изменников. — В республике, — сказал Сен-Жюст, — раскрыт организованный за границей заговор, цель которого — путём подкупа помешать установлению свободы... Он сказал это просто, слишком просто, так естественно, словно выступал не на сцене и произносил не слова, заученные по пьесе, а будто сам он, комсомолец Вениамин Лурье, выступал свидетелем в Революционном трибунале. Он указал рукой на скамью подсудимых. — Дантон, — сказал он, почти не повышая голоса, — ты был сообщником Мирабо, д'Орлеана, де Бриссо. Ты изменил Республике! Он обернулся к публике, и мы не узнали нашего приятеля, тихого веснушчатого Вениамина Лурье. Это был суровый Сен-Жюст, друг неподкупного Робеспьера. Голос его звучал твёрдо и резко. — Мы решили не медлить больше с виновными. Мы объявили, что уничтожим все заговоры. Они могут снова оживиться и снова стать опасными. Я говорю, — требовал Сен-Жюст: — если друг твой развращён и развращает Республику, отсеки его от Республики... Если брат твой развращён и развращает Республику, отсеки его от Республики... Республика должна быть чистой!.. Судьба Дантона была решена историей. Но половина зала ещё не знала этого. К последнему акту — заседанию Революционного трибунала — весь зал находился в необычайном напряжении. Не в конце XVIII века — сегодня решалась судьба Дантона. В перерыве Василию Андреевичу Филькову принесли пакет из Чрезвычайной комиссии. Он быстро прочёл его. Усмехнувшись, посмотрел на соседнюю ложу, где беседовал с поклонницами отдыхающий Дантон-Закстельский, и спросил нас: — Ну, ребята, как вам нравится Сен-Жюст? — Отец, разве можно сравнить новичка Веню Лурье с Закстельским? — сказал Ваня Фильков, стараясь говорить авторитетно, как старый театрал. Василий Андреевич опять усмехнулся и забарабанил пальцами по барьеру ложи. 3 Наконец антракт кончился. Перед поднятием занавеса к публике вышел Андрей Андреевич Барков и предложил зрителям выделить обвинителя, защитника и шесть присяжных заседателей. Предложение Баркова встретили шумным одобрением. Защитником Дантона вызвался быть адвокат Шемшелевич. Он руководил объединённой меньшевистской организацией в нашем городе, считал себя старым социал-демократом и любил рассказывать о том, как много лет назад за границей встретился с самим Карлом Каутским. При упоминании имени Каутского Шемшелевич многозначительно поднимал бровь, давая понять всю важность этой встречи. После Февраля Шемшелевич выступал на многочисленных митингах. Свой длинный чёрный сюртук он сменил на щегольской френч с каким-то непонятным значком над левым карманом. Некоторое время Шемшелевич был комиссаром Временного правительства и даже волосы подстригал бобриком по примеру своего шефа — Керенского. Теперь блестящая звезда Шемшелевича закатилась. Он вернулся к частной адвокатуре, сменил бобрик на стандартную причёску с пробором и только изредка писал желчные статьи в меньшевистской газете. Итак, защитником Дантона вызвался быть адвокат Шемшелевич. А обвинять... Удивлению нашему не было границ: обвинять согласился председатель губревкома Василии Андреевич Фильков. Занавес поднялся. Председатель суда — Андрей Андреевич Барков — сурово допрашивал обвиняемых. Закстельский тут показал себя. Да, это был актёр! Он ревел так, что тряслись кресла в театре, а у коменданта суда слетела плохо приклеенная борода. — Подсудимый, — спросил Закстельского председатель Барков, — ваша фамилия, имя, возраст, звание и место жительства? — Место жительства, — отвечал Дантон-Закстель-ский, — скоро будет небытие. Имя моё — в Пантеоне... В зале раздались аплодисменты. Закстельский упивался успехом. — Дантон, — продолжал председатель, — Национальный комитет обвиняет вас в том, что вы состояли в заговоре с Мирабо и Дюмурье, знали их планы удушения свободы и тайно их поддерживали. Закстельский встал. Он зловеще захохотал н ударил кулаком по бархатной обивке барьера. Ветхий театральный бархат лопнул. Облако пыли поднялось над судьями. — Свобода в заговоре против свободы! — сказал Закстельский. — Дантон злоумышляет против Дантона. Мерзавцы!.. Посмотрите мне в лицо! Свобода — она здесь! — Он обеими руками взял себя за голову. — Возьмите же мою голову, пригвоздите её к щиту Республики! Подобно медузе, она своим видом будет повергать в прах врагов свободы! Это было сказано сильно. И хотя мои симпатии при изучении курса истории склонялись к Сен-Жюсту и Робеспьеру, я едва не зааплодировал Закстельскому, как многие его поклонники, сидящие в зале. Я посмотрел на Василия Андреевича Филькова. Он иронически глядел на актёра. Синяя жилка дрожала на его виске. И я почувствовал, что Фильков волнуется, что для него тоже нет прошедших ста двадцати пяти лет, что он будет сейчас обвинять живого, сегодняшнего Дантона. Не раз грохотал бас Закстельского. Потрясённый игрой актёра, я не пропускал ни одного слова. Акт подходил к концу. В ответ на предложение Вестер-мана поднять народ Дантон размашистым жестом указал на театр и сказал: — Эта сволочь? Брось!.. Публика комедиантов! Они забавляются зрелищем, которое мы им устраиваем. Они здесь для того, чтобы рукоплескать победителям. Слишком привыкли, чтобы я за них действовал! С каким презрением произнёс эти слова актёр! Неужели он так ненавидел свой народ, Жорж Жак Дантон? Речей обвинителя и защитника не было в пьесе Ромена Роллана. Их ввёл сам Барков. Василий Андреевич Фильков вышел на авансцену. Многие, сидящие в зале, знали его и приветствовали хлопками. Дантон-Закстельский выжидающе-презрительно смотрел на прокурора, опустив на барьер свою огромную голову. Фильков говорил кратко. В нескольких словах он рассказал о роли Дантона в революции, о его предательстве и привёл факты этого предательства и измены. — Дантон, — сказал Фильков, — много и красиво декламировал на суде и в жизни, но он связался с генералом Дюмурье, он изменил Республике! Прав гражданин Сен-, Жюст... — сказал Фильков и указал на Вениамина Лурье, — прав, говоря: «Горе тому, кто предал дело народа!» Прав и гражданин Робеспьер, сказавший с трибуны Конвента: «Те, кто готовит войну против народа, против свободы, против прав человека, должны преследоваться не просто как противники, а как убийцы, как негодяи и предатели!» Граждане судьи! — Фильков слегка возвысил голос, обращаясь к присяжным. Я сидел на сцене, в группе присяжных заседателей, и чувствовал себя по меньшей мере депутатом Конвента. Это, однако, не мешало мне искать в зале одну близко знакомую девушку — Нину Гольдину. Смотрит ли она на меня? — Граждане судьи, не будьте чувствительными. Истинный гуманизм состоит не в том, чтобы даровать жизнь одному предателю, а в том, чтобы, уничтожив этого предателя, спасти сотни и тысячи жизней! Во имя счастья человечества, — взволнованно сказал Фильков, и тут он, к неудовольствию Баркова, несколько вышел из роли, — мы будем беспощадно уничтожать бандитов и изменников! Это уже никак не вязалось с текстом Ромена Роллана. Но Фильков тут же поправился: — Граждане судьи! Я требую смертной казни для гражданина Дантона и его сообщников! Весь зал зашумел. Дантон вздрогнул и пошатнулся. Он здорово играл, Закстельский! Всё это было совсем как в жизни. Потом говорил защитник Шемшелевич. Он побледнел и от волнения заикался. Он говорил о заслугах Дантона, о жестокости якобинцев, требовал сострадания. — Гражданин председатель и граждане судьи! — поднял Шемшелевич свой указательный палец. — Объявляя смертный приговор Дантону, вы вынесете смертный приговор Республике!.. С каждым словом он терял самообладание. Он истерически выкрикивал отдельные слова. Председатель суда Барков, смущённый, испуганный, подал ему стакан воды. Всё смешалось на сцене, и нельзя было разобрать, где история и где действительность. Всё это называлось в нашем театральном мире «уничтожением рампы». — Граждане судьи, я требую свободы для Жоржа Жака Дантона, — совсем тихо сказал Шемшелевич и, обессиленный, сошёл со сцены. Суд удалился на совещание. 4 Никогда в истории не происходило столь изумительного совещания присяжных заседателей. Судьбу французского депутата Конвента и министра, гражданина Жоржа Жака Дантона из департамента Арси Сюр Об, проживающего в Париже, на улице Кордильеров, должны были решить: гражданин Соломон Розенблюм — бывший подрядчик, ныне производитель работ Комитета государственных сооружений, гражданин Фёдор Сепп — учитель чистописания, пения и немецкого языка, бывший заместитель председателя «Союза русского народа», гражданин Степан Войнович (под псевдонимом «Степан Алый») — поэт и фельетонист, гражданин Аронштам — аптекарь, гражданин Василий Снегирёв — красноармеец, и я — гражданин Александр Штейн, десятник, ученик пятой группы и председатель совучдепа. Мы сидели в уборной Дантона — Владислава Закстсльского. Зеркала отражали наши фигуры, а на стульях валялись разнообразные парики, пышные бутафорские костюмы и оружие. Нашего решения ждал весь народ, весь театр. По сценарию Баркова, заседание присяжных должно было длиться всего только три минуты. Вышло, однако, не так. — Я предлагаю, — сказал Фёдор Иванович Сепп, избранный старшиной, — вынести оправдательный приговор. Дантон невиновен. Это самая светлая голова Республики! Если бы Дантон остался жив, Республика не погибла бы. Граждане присяжные, мы должны быть гуманными! Сепп явно вкладывал в слово «гуманизм» другой смысл, чем Фильков. Я переживал мучительные минуты. Я сомневался в необходимости судить Дантона, жалел его. Всё-таки Закстельский сильно подействовал на меня своей игрой. Может быть, Дантон ошибался, но он был героем. Разве можно его сравнить с Вениамином Лурье или даже с суховатым Кудриным, игравшим Робеспьера! Соломон Розенблюм поддержал Сеппа. В какой-то мере я понимал, что, оправдывая осуждённого народом и историей Дантона, Розенблюм и Сепп бросают вызов и Филькову, и всем большевикам. Я понимал, что мне (а себя я считал представителем большевиков на этом необычайном совещании), нужно добиться осуждения Дантона. По я не мог послать этого замечательного человека под нож гильотины. Вот уже и Степан Алый, из соображений гуманности и из дружеских чувств к Закстельскому, присоединился к Сеппу. Вот уже и аптекарь Аронштам голосует за оправдание. Надо спешить. Уже стучат в дверь и напоминают, что это всё-таки театр и зрители ждут. А неизвестный красноармеец в большой папахе, Василий Снегирёв? Он ещё не высказался. Снегирёв встал, оправил гимнастёрку, пригладил рыжеватые усы. — Товарищи... — жёстко сказал Снегирёв. — То есть граждане! — поправился он. — Неправильно. Я считаю так: товарищ Фильков доказал ясно — Дантон помогал белому генералу. Значит, не может быть пощады! А что говорил он красно, так это пустяки. Предлагаю: расстрелять Дантона! — И он тяжело сел, решительно махнув рукой. Сепп что-то шепнул Розенблюму. Пришла очередь и мне сказать своё слово. Я хотел произнести большую политическую речь, блеснуть своими познаниями из области истории французской революции. Но опять стукнули в дверь. Сепп торопил меня. И я не мог ничего решить. Всё смешалось в моём разгорячённом мозгу. Гуманность. Жестокость. Прекрасная Люсиль Де-мулен. Василий Андреевич Фильков. Вениамин Лурье. Дантон-Закстельский. «Свобода в заговоре против свободы». Слишком тяжёлую ответственность возлагала история на мои плечи. И я не мог убивать Дантона. — Я... я... воздерживаюсь, — задыхаясь и презирая себя в ту минуту, сказал я. Красноармеец Снегирёв сокрушённо посмотрел на меня. Я понял, что совершил непростительную ошибку. Но было уже поздно. Сепп, усмехнувшись, сказал: — Итак, четыре против одного при одном воздержавшемся. Гражданин Дантон оправдан. Соломон Розенблюм легонько похлопал. Остальные молчали. Так через сто двадцать пять лет после осуждения Дан-тона ему опять была возвращена жизнь. За кулисами я увидел бледного, усталого Сен-Жюста. Узнав о приговоре, он презрительно смерил меня глазами и сразу отошёл. Мы вышли на сцену. Смущённый и обескураженный, я искал глазами Филькова. Он никогда не простит мне этого предательства. Но Филькова не было. Многие стулья в зрительном зале опустели. Шёл третий час ночи. Дактон-Закстельский нервно ходил по сцене. Приговор, видимо, мало интересовал его. Известие о том, что ему дарована жизнь, он встретил холодно и безразлично. Сразу же после спектакля я пошёл в губревком. Я хотел видеть Василия Андреевича, рассказать ему о приговоре, покаяться... Столкнулся я с Фильковым в дверях. Его ждала машина. Он спешил. — А, Саша!—остановился он. — Ну как? Оправдали Дантона?.. А ты что горюешь, нервничаешь?.. (Он ничего ещё не знал, Василий Андреевич.) Ну, не падай духом, Сашок... Суд ещё не закончен. — Он посмотрел на меня в упор и засмеялся. — Едем вот пьесу доигрывать. Эту самую пьесу, о Дантоне... . Через два дня мы узнали из газет, что по приговору Военного трибунала арестован и расстрелян непосредственный вдохновитель и участник банды эсера Никитина — актёр Владислав Закстельский, исполнитель роли гражданина Жоржа Жака Дантона из департамента Арси Сюр Об. БЕТХОВЕН 1 Большим торжеством, организованным в нашем городе в суровые дни девятнадцатого года, было открытие памятника Песталоцци. Председатель губревкома Василий Андреевич Филь-ков издавна уважал знаменитого педагога. Кроме Филькова, в президиуме губревкома вряд ли кто-нибудь чувствовал особую близость к прославленному швейцарцу. Но мысль Филькова о водружении памятника понравилась всем. Значительно позднее мне пришлось увидеть протокол этого заседания президиума нашего губревкома. В повестке дня стояло тридцать три вопроса. Первым шёл вопрос о трудгужналоге, вторым — о ремонте красноармейского госпиталя и третьим — о Песталоцци (докладчики тов. Фильков и тов. Шварц). Появление городского художника Шварца на заседании губревкома, да ещё в роли содокладчика, было само по себе случаем удивительным и необычайным. Шварц был всегда очень далёк от политики. Он был прекрасным жанристом и писал картины, посвящённые городскому быту. Но Василий Андреевич, высоко ценивший его талант, несколько раз и подолгу беседовал со Шварцем, привлекая его внимание к новой тематике. Пожалуй, памятник Песталоцци и был рубежом, знаменовавшим перелом в твор честве художника. Скульптурой он почти не занимался, но над проектом памятника Песталоцци поработал любовно и основательно. Памятник, сооружённый из гипса, был недолговечен. В нашем маленьком прифронтовом городе, откуда каждый день уходили на поля сражений отряды коммунистов и комсомольцев, в городе, вокруг которого были вырыты окопы и сооружены бойницы для отражения белогвардейских банд, — именно здесь был установлен в 1919 году памятник известному педагогу Песталоцци. Мы думали о будущем, мы стремились к культуре. Я всегда с уважением, любовью и болью вспоминаю о высоком длинноусом товарище Филькове, председателе губревкома. Памятник водрузили на горке, над рекой. В воскресный погожий день собрался большой митинг. Товарищ Фильков произнёс речь. Школьники проходили весёлыми шеренгами, приветствуя товарища Филькова и величественного старца на пьедестале. Вескою, когда зеленели деревья, юноши и девушки приходили к реке на пригорок, к памятнику Песталоцци, и не одну задушевную тайну узнал мудрый педагог. ...А Фильков уже обдумывал новый, ещё более грандиозный план — организацию в нашем городе народного университета. Город жил тревожной и напряжённой жизнью. Фронт был совсем близко. Военные госпитали переполнены ранеными. Молодая республика отбивалась от наседающих врагов. Городские заборы ежедневно оклеивались огромными зелёными плакатами Роста: «Оперативная сводка», «Полевой штаб республики». Слова были тяжёлые и суровые. Они говорили о борьбе, о сражениях, о героизме. Каждый из нас сознавал тяжесть и величие этих дней. Я продолжал заниматься своими строительными делами. Ранним утром выходил из дому и спешил на постройку. По дороге лихорадочно искал на заборах последние оперативные сводки. Плакаты Роста, за неимением клея, прикреплялись к заборам мукой, и, случалось, у нас на окраине козы начисто съедали и оперативные сводки, и приказы полевого штаба, и стихи нашего городского поэта Степана Алого. На медной дощечке, прибитой к дверям комнаты служителя муз, которую мне пришлось ремонтировать, было выгравировано: «Степан Алый — поэт Зорь», Самой сокровенной моей мечтой было увидеть своё стихотворение напечатанным в местной газете. Я не один раз уже направлял в редакцию свои произведения, но ни одно из них не увидело света. Степан Алый — поэт Зорь заполнял целые страницы, а мне не отвечали даже в «Почтовом ящике». Я старался придумать себе яркий, звучный псевдоним, такой псевдоним, чтобы он обратил внимание редакции. Но ничего у меня не получалось. В области художественной литературы мне не везло. Зато авторитет мой среди строительных рабочих рос с каждым днём. Меня уже выбрали секретарём рабочего комитета, и производственные дела отодвигали от меня служение музам. Аполлон не требовал поэта к священной жертве... Баня, самая главная моя постройка, была уже давно закончена. Баня без миквы, без священного бассейна. Конфликт мой с раввином не имел никаких последствий, и я скоро забыл о своём «героическом» поступке. Проблема «бога» больше не тревожила меня. 2 В связи с обострением обстановки на фронте наше строительство военизировали. Нам поручили производство важных военных построек и весь технический персонал зачислили на красноармейский паёк. Я раздобыл старую будённовку с неимоверно грязной подкладкой и высоким шишаком, а на бекешу (там, где предполагались ордена) пришил окантованную золотым шнуром красноармейскую звезду. Я считал себя доблестным бойцом Красной Армии и мечтал о славе Будённого. На подступах к городу шли бои. По улицам проезжали, тарахтя, тачанки. Тяжело гремели по мостовой орудия. На грузовиках привозили с фронта раненых. Мои технические знания к тому времени значительно возросли. Мне поручили срочно сделать пристройку к военному госпиталю. Госпиталь помещался на крутом берегу реки, в здании бывшей женской гимназии. Как недавно мы состязались в футбол на огромном гимназическом дворе и старались ловким ударом мяча покорить сердце самой лучшей и самой недоступной! Как недавно мы ждали здесь последнего урока, чтобы встретить её, проводить домой, а может быть, посидеть вместе над рекой у памятника Песталоцци! Теперь тяжёлые запахи крови, йодоформа, извести, цемента стояли на дворе. Война не ждала окончания ремонта. Прибывали всё новые и новые партии раненых. И часто мы бросали работу на лесах и помогали переносить больных, безжизненно раскинувшихся на носилках. Особенно много было тифозных. Мама с ужасом каждое утро провожала меня на работу. В мешочек, где когда-то лежали «молитвенные кубики», она насыпала нафталина и повесила мне на шею. Но мешочек стеснял мои движения, и я снимал его тотчас же за воротами дома. Мы построили большой сарай — мертвецкую. Я никогда ещё не видел столько трупов. Они мне снились по ночам. Я метался и кричал во сне: мне казалось, что я лежу в мертвецкой и трупы заваливают меня. Однажды в госпиталь принесли на носилках молодого, раненного в живот парня. Лицо совсем белое, большие глаза открыты. В уголках тонких губ запеклась кровь. Он был немного старше меня. Вечером я заглянул в его палату. Он пришёл в сознание и безнадёжно смотрел в потолок. Я взял его руку. Он поглядел на меня. — Мальчик... — сказал он мне, — мальчик, я тебя видел утром во дворе... Мальчик, я, наверно, умру. И мама даже не узнает об этом. Надо ей написать. Мне очень больно... — застонал он. — Очень больно... Я ему дал напиться. В госпитале говорили, что черноглазый парнишка пошёл добровольно на фронт с отцом-шахтёром. Отец пропал без вести. А юноша смелой разведкой спас целую роту. Этот черноглазый юноша был героем. Слёзы катились по моим щекам. «Какая жестокая жизнь!» — думал я. Мне хотелось быть таким, как он. — Мальчик, — опять заговорил он, — когда я умру, можешь взять в моём мешке ручку из гильз. Я сам делал. На память... Возьми её себе. Я выбежал из палаты, безудержно плача... На другой день мы снесли труп героя в мертвецкую. Я поцеловал его в высокий лоб. Я не знал даже его имени. Но память о нём и ручку из медных гильз я храню до сих пор. Иногда по вечерам я ходил далеко за реку, к Нине Гольдиной. Ни одного слова о любви ещё не было сказано между нами. Обо всём говорилось намёками. Но мы знали, что любим друг друга. Нина жила почти на окраине города с младшей сестрёнкой и старым отцом-музыкантом. Я приходил, снимал свою бекешу со звездой и рассказывал городские новости. Я приносил с собой запах йодоформа, но к нему привыкли в этом доме. Нина в углу стучала на швейной машине. Сестрёнка раскладывала кубики. Отец решал какую-то шахматную задачу из старой «Нивы». Морозные узоры украшали окна. Я выходил в сенцы, колол дрова, разжигал печку, чувствуя благодарный взгляд Нины. Потом я играл со стариком в шахматы. Играл я плохо, не знал никаких гамбитов, и он неизменно бил меня. Иногда старик вынимал свою скрипку и играл. Нина переставала стучать на машине. Я садился рядом с ней, брал её маленькую холодную руку. Отец Нины играл печальные мотивы. Я вспоминал больных, раненых, умирающих... Мне становилось очень грустно. — Брамс, — тихо говорил отец, отрываясь от скрипки. — Брамс, — повторял он многозначительно и качал старой, седой головой. Но мне ничего не говорило это имя. Потом я шагал через весь ночной город. На мосту дул пронзительный ледяной ветер. С берега открывался вид на наш госпиталь, и прямо на взгорье чернел мрачный сарай мертвецкой. Нина Гольдина уехала в Петроград на высшие курсы. Я проводил её на вокзал, усадил в теплушку. Боялся, что она заметит, как мне тяжело, погладил по белой пушистой заячьей шапке и ушёл. Надо было спешить на работу. В эти дни Красная Армия разбила белые отряды, подступавшие к нашему городу. На центральной площади состоялся парад. Проходили красноармейцы — чёрные, усталые, в рваных шинелях, в потемневших от пороха и грязи бекешах, в худых сапогах, рыжих обмотках. Но глаза у всех были радостные. Бородатый командир на коне поздравлял бойцов с победой, а бойцы кричали «ура». И я тоже кричал вместе со всеми. Легкораненые бойцы из нашего госпиталя тоже пришли на площадь. Я стоял рядом с ними в своей бекеше со звездой и шлеме с гигантским шишаком. Наконец мы закончили пристройку к госпиталю/ В один счастливый день меня послали по делам строительства в командировку в Петроград. Впервые в жизни я ехал в большой город. Я увижу исторические улицы, встречусь с Ниной... Я чувствовал себя счастливейшим из людей. Мне было пятнадцать лет, и большая жизнь раскрывалась передо мной. 3 Волнение охватило меня, когда утром, подъезжая к Петрограду, я увидел высокие трубы заводов, облака дыма над великим городом. Величественная панорама Невского проспекта... Сколько раз вставал этот проспект в моём воображении, когда я читал Пушкина, Гоголя, Достоевского! Монументальная, тяжёлая туша Александра III возвышалась на привокзальной площади. На пьедестале были высечены хлёсткие слова Демьяна Бедного: Мой сын и мой отец при жизни казнены, А я пожал удел посмертного бесславья. Стою здесь пугалом чугунным для страны, Навеки сбросившей ярмо самодержавья. Редкие машины катились по торцам Невского проспекта. Порой, посверкивая голубыми искрами и переваливаясь с боку на бок, проходил трамвай. Пешеходы куда-то спешили, не глядя по сторонам, угрюмо подняв воротники пальто и шинелей. Осенний дождь пронизывал насквозь. Длинные очереди стояли у магазинов. На спинах людей расплывались крупные белые цифры: 137, 138... 201... Сумрачно и сурово встретил меня Петроград. Никому не было никакого дела до Александра Штейна, десятника военно-строительных работ, пятнадцати лет от роду, при ехавшего с особо важными поручениями от западного фронтового строительства. Я шагал по Невскому проспекту в своей бекеше с красной звездой, в шлеме с огромным шишаком, чувствуя себя очень одиноким. Но город постепенно покорил меня. Я восхищённо рассматривал огромных коней на Аничковом мосту. У Казанского собора . великие полководцы Отечественной войны бесстрастно глядели на меня своими бронзовыми глазами. И я вспомнил наши детские игры: как я был Наполеоном Бонапартом, а Ваня Фильков — Кутузовым... Как недавно и как давно мы были детьми! Через Морскую, через арку Главного штаба я вышел на Дворцовую площадь и замер. Я смотрел на Зимний дворец, и в лёгком тумане как будто вставали предо мной матросские и рабочие отряды. В ночном свете факелов, с гранатами в поднятых руках, они неслись через площадь, чтобы победить или умереть. Мне казалось, что я слышу залпы «Авроры». Я забыл обо всём: и об одиночестве, и о том, что я голоден, и даже о Инне Гольдиной. Я стоял в своём старом шлеме перед Зимним дворцом и, казалось, сам бежал с матросами через площадь, арестовывал Временное правительство, сам командовал артиллеристами «Авроры»... Облокотившись на перила Дворцового моста, я не мог оторвать взгляда от Невы. Милиционер уже с подозрением поглядывал на меня: не собираюсь ли я броситься в волны? Но моё румяное лицо под гигантским шлемом рассеяло его подозрения. У подножия Медного всадника я читал вслух пушкинские строки. Я казался самому себе Евгением и слышал звонкое цоканье бронзовых копыт. Великие исторические события, люди, годы — всё смешалось в моих мыслях. Наконец я вернулся в настоящее, и любовь к Нине Гольдиной вспыхнула во мне с небывалой силой. Нина жила на Шестой роте. Я вскочил в трамвай. Он шёл неимоверно медленно и часто останавливался. Люди суетились, что-то чинили, потом мы опять трогались. Не выдержав, я решил соскочить. Трамвай в этот момент неожиданно рванул, и я растянулся на мостовой. Было больно и обидно. Кто-то из прохожих попытался сострить по моему адресу. Я обнаружил вдруг, что при падении разорвал полу бекеши. Настроение моё омрачилось. Явиться к Нине с измазанными лицом и руками, в грязной и изодранной бекеше, — кто бы мог веселиться при таких обстоятельствах? Однако выхода не было. Я поднялся на седьмой этаж. Хмуро позвонил. Дверь не открывали. Опять позвонил. В отчаянии стал стучать кулаком. Всё то же. Я пустил в ход ноги. Наконец старческий голос спросил из-за двери: — Кого нужно? — Гольдина здесь живёт? — закричал я. — Уехала. Вчера уехала, — прошамкал голос. — Кончила курсы и уехала. Домой. Я сел на холодную ступеньку лестницы. Такого безысходного отчаяния я никогда ещё не испытывал. На верхней площадке хлопнула дверь. Я вскочил и выбежал на улицу. Грязный, голодный, ободранный, шагал я среди мрачных высоких домов Шестой роты. Исторические памятники уже не привлекали меня. И всё же в широких коридорах Смольного, где так гулко отдавались мои шаги, история, совсем недавняя история, опять заговорила со мной. Забыв о своих огорчениях и обидах, забыв о разодранной бекеше, я долго стоял, замерев, у двери, за которой ещё так недавно жил и работал Владимир Ильич Ленин. ...Получив в Петросовете разъяснение по делам, связанным с моей командировкой, я там же приткнулся в углу, выпросил у секретарши иголку и зашил шпагатными нитками полу бекеши. Мне очень хотелось есть. В канцелярии Совета я узнал, что обед уже кончился. Немолодая секретарша с добрыми, усталыми глазами посмотрела на мою грязную физиономию, на огромный брезентовый портфель, на будёновку и сказала тепло, по-матерински: — Завтра приходите пораньше, товарищ. Потом подумала, порылась в ящике стола и вынула маленький свёрток. — Вот, — сказала она, — возьмите. Обязательно возьмите. Скушайте на здоровье. Я не мог отказаться. Взял бутерброд, аккуратно завёрнутый в обрывок газеты «Беднота». Что-то сдавило горло, и я, кажется, даже не поблагодарил добрую женщину. Я уже был в дверях, когда она окликнула меня, протягивая какую-то бумажку: — Вечером в Мариинском театре интересный концерт. Исполняют Девятую симфонию Бетховена. Сходите, послушайте. Музыка мало привлекала меня в те минуты. Я хотел есть. Но билет взял, на этот раз поблагодарил и вышел на улицу. Наступил вечер. В общежитии для командированных я помылся, достал кружку горячей воды и съел скромный бутерброд. Делать было больше нечего. Командировочные дела начинались завтра. Я нахлобучил шлем, туго подтянул кушак и пошёл в Мариинский театр слушать Девятую симфонию Бетховена. 4 Девятую симфонию Бетховена я никогда не слышал, как и все предыдущие. Я знал кое-что о композиторе от художника Шварца, написавшего его портрет. Но отец Нины Гольдиной никогда не играл Бетховена. Впрочем, для меня не существовало никакого различия между Бетховеном и Брамсом. В наши суровые военные годы музыка казалась мне буржуазным предрассудком, забавой. К тому же учитель пения Фёдор Иванович Сепп сделал всё возможное, чтобы внушить мне неприязнь к музыке. Но мне некуда было деваться в этот вечер. Хотелось быть среди людей. И к тому же я испытывал некоторую гордость при мысли о том, что буду сидеть во втором ряду знаменитого оперного театра. В театре было холодно, и никто не раздевался. Я снял шлем и, осторожно ступая, прошёл во второй ряд. Оказалось, театр переполнен. Рядом со мной сидел высокий седобородый старик в пенсне с золотой оправой. «Наверно, профессор», — с уважением подумал я. В ложах и на балконе сидела молодёжь, в партере много красноармейцев, в шинелях, в бекешах, опоясанных солдатскими ремнями. Значит, все они любят и находят время слушать музыку? Значит, так... От дыхания сотен людей облака пара поднимались в воздух. Театр поразил меня. Золотые узоры на барьерах лож, бархат, блеск огромных люстр, сверкающих тысячами кристалликов. Такое великолепие я видел первый раз в жизни. Как жаль, что вместо профессора рядом со мной не сидит Нина Гольдина! Как обидно, что она уехала! Дирижёр взмахнул палочкой, и симфония началась. Сначала я никак не мог сосредоточиться, ёрзал, смотрел по сторонам, и сосед несколько раз недовольно качал головой. Наверху в ложе я увидел седоволосую секретаршу и улыбнулся ей, как старой знакомой. Неподалёку от меня сидела, закрыв глаза, белокурая женщина в потёртом пальто. Меня поразило её измождённое и усталое лицо. Она дремала. Во сне её веки вздрагивали. Понемногу сонливость начала одолевать и меня. Глаза слипались... И вдруг, даже не знаю, с какого места, звуки покорили меня. Сколько раз я потом слушал Девятую симфонию, и всегда мне хотелось вспомнить, найти это место, но никогда не удавалось. Словно я был безнадёжно слепым и вдруг прозрел. Звуки лавиной обрушивались на меня. Я видел борющихся людей, видел, как они шли на приступ, падали, гибли, истекали кровью, но побеждали. Нет, это не тихие мелодии Брамса, которые играл отец Пины Гольдиной. Новый мир раскрылся предо мной. Ураган то затихал, то опять мощными раскатами ударял в степы театра. И я видел моего черноглазого друга, имени которого я даже не знал, друга, умершего в госпитале за рекой. Он бежал в атаку среди других бойцов, глаза его горели... Он падал на белый снег. «Мальчик... — говорил он мне, — мальчик, я не отступил». Я видел красноармейцев в рыжих обмотках, которые проходили по нашей центральной площади, слышал звуки оркестров, которые играли победу. Звуки поднимали меня. Я забыл обо всём — и о том, что одинок, и о том, что голоден, и о том, что уехала Нина Гольдина. Я был счастлив. Профессор снял пенсне, и мне показалось, что глаза его мокры от слёз. Я оглянулся вокруг и увидел много счастливых лиц. Сейчас, вспоминая этот вечер, я склонен думать, что далеко не все слушатели так же восприняли симфонию. Многие скучали, думали о своих будничных, невесёлых делах. Но тогда я был уверен, что все счастливы, как я. Белокурая женщина сидела теперь, вся подавшись впе-ред. Восторг и огорчение застыли в её широко раскрытых глазах. Я пожалел, что не разбудил её вовремя, что ей не удалось услышать всей этой неожиданной для меня, такой необыкновенной музыки. Симфония кончилась. Замерли в воздухе последние звуки. Я выходил из театра в толпе взволнованных слушателей. На многих пальто белели нестертые цифры очередей. В общежитии, среди спящих людей, не раздеваясь, я сел на свою койку, вынул ручку из патронных гильз — подарок черноглазого парня — и начал писать письмо Нине Гольдиной. «Как жаль, — писал я, — что ты не могла вместе со мной послушать музыку, которая называется Девятой симфонией Бетховена. Это такая симфония...» Но передать свои впечатления от симфонии я не мог — не хватало слов. Я так и уснул над письмом, одетый, не выпуская пера из пальцев, счастливый, взволнованный, потрясённый звуками, рождёнными много лет назад великим композитором Бетховеном, которого впервые узнал в этот вечер и полюбил навсегда. "ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ" В конце девятнадцатого года мы избрали Ваню Филькова секретарём губернского комитета комсомола. Несмотря на молодость, он пользовался большим авторитетом в организации. На работу в губком перевели и меня. Ребята постарше ушли на фронт. Белые подступали к самому нашему городу. С Ваней я в те дни не разлучался. Работали мы, как взрослые. Дни и ночи. Спали на жёстких губкомовских диванах. В губкоме всегда толпилась молодёжь. Нам, пятнадцатилетним юнцам, ещё незнакомым с бритвой, приходилось организовывать укомы, формировать отряды ЧОНа [1 ЧОН — часть особого назначения.], агитировать, убеждать, воспитывать, бороться с бандитизмом, с меньшевистско-эсеровскими вылазками. К нам в губком приходили молодые парни и девушки за пищей для тела и для души. Домой забегал я раз в три—четыре дня. Нам было не до семьи. Мы и о еде вспоминали, только когда голод совсем уж донимал нас. Иногда это бывало в разгар бесконечного ночного заседания. И тут связка ржавой воблы, которую кто-нибудь приносил в перерыве, казалась райской пищей. Все мы писали заметки, статьи, а иные сочиняли рассказы и даже поэмы. Писали нам ребята из уездов и деревень, с фронта, писали в стихах о своей нелёгкой жизни. Но наши творения не видели света. Даже «руководящие» статьи Вани Филькова с трудом удавалось напечатать в губернских «Известиях». А между тем в этих же «Известиях» то и дело появлялись произведения старых журналистов, в своё время сотрудничавших ещё в жёлтом меньшевистском листке. Мы не раз говорили об этом в губкоме партии. — Что же... — начинал политпросвет Миша Басманов, только что вернувшийся с фронта, — что же, всякие буржуазные спецы будут в газетах пописывать, а нам своего молодёжного журнала не даёте?.. Бумаги нету? Да мы её сами, бумагу, из центра выхлопочем. Комсомол требует журнала. Больше не можем сдерживать творческих порывов. Миша был старым агитатором и говорил напористо. Но в ответ всегда поднимался губернский редактор Пётр Андреевич Громов и возражал Мише сухими, тоскливыми словами. Очки редактор носил с тёмными стёклами, и никогда нельзя было угадать, на кого он смотрит. Громов считался самым учёным человеком в городе: и газету редактировал, и тезисы писал, и читал всякие лекции. В губпарткоме ценили его больше, чем нас с Мишей и Ваней Фильковым вместе. Спас нас Василий Андреевич Фильков. Мы посвятили его в наши журнальные планы. — Действуйте, — сказал Василий Андреевич, — поддержу. На ближайшее заседание губкома мы явились нагруженные ворохом стихов, рассказов, статей, рисунков. — Вот, — сказал Миша, — дайте выход нашему творчеству. Только лишь хотел редактор взять слово, выступил Фильков-старший. Блеснул улыбкой из-под русых усов и сделал стратегический ход: — Я с положением детально ознакомился. Действительно, на журнал нет бумаги. — Вот тебе и защита! — мрачно шепнул мне Миша. — Но я предлагаю, чтобы в губернской газете еженедельно давали страницу для молодёжного творчества. Места хватит. На губкоме было много вопросов: и о несобранной продразвёрстке, и о бандитизме, и отчёт губпрофсовета. Не успел Громов возразить, приняли предложение товарища Филькова. Ушли мы победителями. Редактором молодёжной странички был назначен я. — Смотри там, Сашка, — инструктировал меня Миша-политпросвет,— не подкачай! Первую страницу в Це-ка пошлём. Пусть посмотрят, как липерский комсомол работает. Всё складывалось как нельзя лучше. С самыми возвышенными чувствами ввалился я в редакцию, добыл себе стол и написал плакат: Редактор странички „ЮНОЕ ТВОРЧЕСТВО" Приём от 2-х до 5-и А потом с независимым видом заглянул в кабинет редактора. Договорились мы, что первая «страничка» пойдёт на днях. Эту ночь я не спал: обдумывал будущую «страничку». Прямо надо сказать, мысли приходили заносчивые и тщеславные. Как-то в губкоме, выступая по докладу руководителя клуба, я привёл цитату из Сен-Симона, где-то случайно прочитанную, меня сочли большим философом. Это польстило мне, к каждому событию я стал подходить с философским анализом и стремился выйти за пределы нашего липерского губкомольского мира. Иногда в короткие часы отдыха, сидя с Ниной Гольди-ной на скамеечке у памятника Песталоцци и глядя в небо, на мириады звёздных миров, я мечтал вслух. Наши губ-комольские будничные дела, наши споры, обед из воблы — всё это оставалось далеко позади. Мне мало было Липерс-ка. Мне мало было нашей бренной планеты. Я улетал мечтой в заоблачные миры, организовывал комсомол на Луне. Я был поэтом... Как раз в эту неделю я закончил большую поэму, где строго научно доказывал возможность путешествия на Луну и описывал борьбу с лунными белогвардейцами. Мне было тогда неведомо, что путешествие на Луну уже давно описано Жюлем Верном и Уэллсом. Все мои познания о Луне ограничивались книгой астронома Флам-мариона. Философия поэмы была необычайно туманна, научная достоверность весьма зыбка, а качество стихов сомнительно. Но мне казалось, что это исключительно глубокое, необычайно талантливое произведение. ...И вот в эту ночь пришла мне в голову гениальная мысль — сделать сюрприз губкому: напечатать поэму в первой же «страничке». Вскочив с постели, я стал лихорадочно перечитывать своё произведение. Она была поистине прекрасна, эта поэма. Вот обрадуется губкомол! А потом прочтут поэму в Москве. Конечно, на неё сразу обратит внимание Максим Горький. А Луначарский? Пожалуй, и Луначарский обратит внимание. Меня вызывают в Москву... Дальше... Я уже спал и видел во сне свой собственный триумф. Меня чествуют. Я приезжаю, увенчанный лаврами, в родной город, и товарищ Громов говорит: «А ведь ты, дорогой товарищ, был прав насчёт создания журнала. Признаю свою ошибку». ...Поэма заняла почти всю полосу. Редактор неодобрительно поглядывал на свёрстанную страницу, но мне ничего не говорил. «Завидует, — думал я. — А ещё подпольщик!» Первый оттиск свёрстанной, ещё сырой полосы, на которой чёрными буквами отпечатана моя поэма, казался мне великолепным. Застучала печатная машина. В стопку ложились свежие номера губернских «Известий», и на третьей странице под шапкой «Юное творчество» — страница губкома РКСМ, жирными буквами шёл заголовок: «Путешествие на Луну» (поэма). Наступила ночь. Я взял номеров десять газеты и побежал домой. Спал я крепко. Под подушкой лежало моё первое напечатанное произведение Рано утром, бодрый и радостный, с газетами под мышкой, я помчался в губком. Там никого ещё не было, кроме старушки сторожихи Пелагеи. Я не мог ждать ребят. — Бабушка! Вот видишь, в газете мою поэму напечатали!— сказал я и ткнул пальцем в большие буквы заглавия. — Дай-ка я тебе почитаю. В утренней тиши губкомольского клуба я громко читал неграмотной старушке стихи о революции в лунном мире. Не дождавшись секретаря, я умчался по делам в губ-продком. Через два часа я снова вбегал по лестнице губ-комола. Из комнаты секретаря доносился шум. Я разобрал слова своей поэмы. «Эге, читают уже...» С торжественным видом я открыл дверь в кабинет. Мигом наступило молчание. В кабинете сидели Ваня Филь-ков, экправ [ Экправ — член комсомольского комитета, занимавшийся защитой экономических прав молодёжи.] Валя Грекова, политпросвет Миша Басманов, ещё человек пять. На столе перед Мишей лежала моя поэма. — Ну как, ребята, недурно? — скромно спросил я. Молчание начало меня тревожить. -— Ну и сукин же ты сын, Сашка!.. Ну кто бы мог подумать... Я почувствовал, что дело неладно. И тогда заговорили все. Я давно не слыхал такого потока бранных слов. С тревогой смотрел я на своего друга Ваню Филькова. Наконец Ваня остановил на мне свой тяжёлый взгляд и заговорил. Век не забыть мне слов Вани Филькова! Он не кричал, как Миша Басманов. Он говорил тихо и даже скорбно. — Ты что же подрываешь авторитет комсомола?.. — начал он. — Тут дел по горло. И о продразвёрстке подумай, и в Пирловской волости неладно, и Митю Алекса-шина, члена укома, бандиты убили. И ребята, отрываясь от борьбы, пишут... можно сказать, кровью пишут и о своих ячейках, и о Красной Армии, а ты, редактор, комсомольское творчество под сукно, а сам на всю страницу философию о Луне размазываешь! Тебе уже земли мало. Для этого мы тебя в газету послали? Эх, Сашка, Сашка... Не оправдал ты комсомольского доверия... Все молчали. Я горестно смотрел на плоды своего творчества. В этот день губком вынес мне выговор за Луну и с редакторской работы снял. Послали меня в уездный комитет комсомола, в город Дреслу. А о моём «Путешествии на Луну» ещё долго шли разговоры по всей губернии. РАССТРЕЛ 1 Перелески становились всё гуще. Сверху — казалось, с самого чёрно-свинцового неба — садился туман, и трудно было разглядеть что-нибудь вокруг, кроме строгих седых деревьев. Нарушая тишину сумрачного леса, сквозь свинцовую пелену тумана, откуда-то издалека, из-за реки, доносились приглушённые расстоянием раскатистые взрывы. Почти безостановочно трещали пулемёты. Где-то за лесом, за рекой кипит бой, а мне даже неизвестно, в чьих руках теперь мой родной город. Уже три недели я не видел никого из своих и не знаю даже, живы ли они... Я всё ускорял и ускорял шаги, машинально потирая совсем оледеневшие уши, едва прикрытые вытертым каракулем старой шапки. Ещё не остыло чувство, с которым, прощаясь, я пожимал руки комсомольцев порохового завода там, в белогвардейском тылу. Это чувство не покидало меня первые часы пути. Я ещё и ещё раз вспоминал дни, проведённые с лоржинскими комсомольцами в подполье, их лица, их голоса... Горячие слова товарищей я нёс за рубеж — передан, своим ребятам, своему комсомольскому комитету. Тяжёлый взрыв опять расколол морозную тишину. Я вздрогнул. Я нёс в город товарищам отчёт о трудном поручении, а может быть... некому будет выслушать мой отчёт. Может быть, снаряды, сделанные ещё так недавно в Лорже, смели с лица земли мой город. И нет уже на свете уездного комитета, секретарём которого являюсь я — Александр Штейн. Впереди стало светлеть. Перелесок кончился, и сквозь туман из-за реки тускло замерцали два—три далёких, рассеянных огонька. Бой, видимо, затихал и шёл далеко за рекой, за городом. В чьих же руках город? Я опушкой далеко обошёл городские окраины, вышел к реке и припал к сугробу зернистого обледенелого снега. Ветер гулял по речному простору, и сквозь размётанный снежный покров во многих местах синел обнажённый лёд. Река была границей. Одним рывком я скатился вниз и, сгибаясь, то и дело ожидая услышать окрик часового и свист пули, перебежал узкую полосу реки. На самом берегу стоял угольный сарай. С неожиданной силой я сорвал замок и, захлопнув за собой дверь, упал на мешки с углём, задыхаясь от тревоги и волнения. Немного погодя, отдышавшись, я поднялся. Сквозь щели сарая пробивалась тусклая зимняя заря. Отыскав трещину пошире, я прильнул к ней и стал осматриваться. В ту же секунду я отскочил, как от удара. Прямо на меня через пустырь шёл высокий человек в офицерской шинели с черепом и скрещёнными костями на рукаве. Опомнившись, я снова приник к щели. Высокий рыжий офицер остановился среди пустыря, видимо что-то соображая и рассчитывая. «Эх, револьвер бы!» — подумал я. Но эта мысль сразу же сменилась другими. Что с моими товарищами, с которыми три недели назад я простил-, ся в городе? Офицер ушёл. Опять опустело снежное поле. Я чувствовал, что замерзаю, голод мучил меня. Я не ел целые сутки. Сильно хотелось пить. Я уже решился выползти на пустырь и захватить пригоршню снега, когда из города показалась группа людей. Она направлялась прямо к сараю. Тут же, возле щели, я завалил себя мешками. Вскоре снег захрустел под ногами десятков людей. Отыскав между мешками щёлочку, я впился глазами в приближающуюся группу. Окружённые солдатами, шли мои товарищи. Не менее двадцати человек. Среди них все приехавшие на Дресленскнй фронт липерские губкомовцы во главе с Фильковым. Высоко подняв голову, шагал Василий Андреевич. На щеке его запёкся кровавый шрам. «Били... — подумал я, в бессильной злобе сжимая кулаки. — Били, сволочи!» Секретарь губкома Тарасов то и дело нервно снимал и снова надевал очки с треснувшим левым стёклышком. Шмидт, председатель уездного ревкома, Моисеев... Все..." Я уже не сомневался в том, куда гонят моих товарищей солдаты, и еле сдерживал себя, чтобы не выскочить из сарая. Но что мог я сделать, один, безоружный, против взвода солдат! Вот уже у самого сарая захрустели шаги. Я замер за мешками. Широкая волна света вместе с ледяной морозной струёй ворвалась в распахнутую дверь. Людей впускали по списку. Потом опять стало темно. Щёлкнул замок. И в ту же минуту я выскочил из-за мешков и бросился к товарищам. — Саша! Смотрите, товарищи, Саша Штейн! — удивлённо воскликнул Фильков и сразу же перешёл на шёпот: — Когда же они тебя успели захватить? — Саша в натуральную величину, — пошутил, ощупывая меня, Моисеев. Я радостно жал руки друзьям. — Как же ты попал сюда?! — повторил свой вопрос Фильков. Я сбивчиво рассказал, как вернулся из вражеского тыла и спрятался в этом сарае. — Ну, парень, — сказал, сразу снижая голос до шёпота, Фильков, — напрасно ты так шумно выскочил. Как бы не прослышал конвой... — А я с вами всё равно останусь. Никуда не уйду... Фильков сурово поглядел на меня из-под своих мохнатых бровей. — Здесь не театральное представление, Саша, а революция, — тихо и строго сказал он. — Никакого показного геройства! Что с нами будет — неизвестно. А ты нужен там. Понял? Надо быть большевиком, а не романтическим мальчишкой. — А с вами что сделают, Василий Андреевич? — спросил я, сразу потускнев. — Кто их знает... — задумчиво повёл Фильков бровями. — Я думаю, что отправят в штаб — судить будут. А может быть, может быть... — Голос Филькова дрогнул, он обвёл глазами рассевшихся на угольных мешках людей и махнул рукой. — Впрочем, зачем гадать? Видно будет. — Ты хотел сказать — расстреляют, Василий? — спросил, протирая очки, Тарасов. — Нечего гадать, говорю! — сердито отрезал Фильков. — А готовым надо быть ко всему. Не в бирюльки играем... Вот такие дела, Саша, — развёл руками Василий Андреевич. — А Ваня в Москву уехал. В Цека. Это хорошо... Да... — Он помолчал, подумал. — Там я из губернии бумагу привёз: делегацию вашу на съезд комсомола вызвали, тебе доклад делать. Только на съезд ты едва ли проберёшься. Едва ли... — задумчиво покачал он головой. Потом присел на мешок рядом со мной и зашептал: — Ежели нас... убьют, ты, Саша, расскажи, как было дело. Расскажи, что до последней минуты боролись. Надо выбить белых из Дреслы. Мы сдали город потому, что у нас не было пушек, не хватало пулемётов. — Они били вас, Василий Андреевич? — Э! — Фильков махнул рукой. В сарае наступила тишина. Дыхание двадцати человек вздымалось клубами и таяло в морозном воздухе. Я угрюмо смотрел на товарищей. Фильков сказал очень просто, словно вдумывался в свои слова: — Сорок лет жил на свете Василий Фильков. Кто из нас не любит жизни! Трудно её прожить. Нелегко и отдавать... Он вынул часы, щёлкнул крышкой, посмотрел на них и медленно стал заводить. — Вот ещё Ваню увидишь — скажи ему... И маленькому Маке расскажешь когда-нибудь... У сарая опять захрустели шаги. Я умоляюще посмотрел на Филькова. — За мешки! — сухо приказал мне Фильков. Он крепко обнял меня и толкнул в угол. ...Их приставили к самой стене сарая. Чья-то широкая спина закрыла щель, в которую я смотрел. Несколько минут длилось молчание. Громко, с надрывом, закашлялся Тарасов. Послышался лязг затворов, слова команды. Потом, один за другим, три беспорядочных залпа. Пули защёлкали о брёвна, некоторые влетели в сарай, просвистев совсем близко от меня, впились в мешки с углём и обдали меня угольной пылью. И в открывшуюся снопа щель я увидел солдат — они опускали на землю ещё дымящиеся винтовки. Поздно ночью я вышел на пустырь. Тела убитых товарищей уже убрали. Весь снег у сарая пропитался кровью. В стороне что-то поблёскивало. Я нагнулся и поднял старые серебряные часы Василия Андреевича Филькова. 2 Застывший в холодном молчании лес опять со всех сторон окружил меня. Тяжёлые, мохнатые сучья переплелись над моей головой, словно цепкие лапы каких-то доисторических животных, о которых я читал в учебниках географии, когда ещё был учеником гимназии имени Александра I Благословенного. Учеником... Парты... Классная доска... Мел... «Штейн, как звали коня Александра Македонского?..» — Как же, действительно, звали этого коня? В каком-то полузабытьи я брёл по лесу. Василий Фильков... Предревкома, мой учитель. Прощаясь перед моим уходом за рубеж для связи с лоржинскими комсомольцами-подпольщиками, Фильков пристально посмотрел на меня и коротко сказал: «Важное дело поручаем тебе, Саша. Смотри не задерживайся». Большая, сильная и тёплая рука его крепко сжала мою Руку. А теперь Фильков убит. Только часы его я сжимаю в кармане полушубка коченеющей рукой. С треском обломился сук и упал, обрушив на меня целый сугроб колючего снега. Совсем обессиленный, я опустился на колени и стал хватать пригоршнями и жадно есть обжигающий и тающий во рту снег. Стало как будто легче. Куда я иду? Какой сегодня день? Сколько времени прошло с тех пор, как я ушёл с Лоржинского завода? Я машинально щёлкнул крышкой часов, вздрогнул и уронил их в снег. Часы шли... Двигались колёсики, огибала циферблат секундная стрелка. Часы, заведённые рукой убитого предревкома, продолжали жить. Подняв часы, я бережно положил их в карман и неожиданно почувствовал прилив сил, словно эти заведённые Фильковым часы принесли мне весть о нём и напомнили о его последнем горячем рукопожатии. «Важное дело поручили тебе, Саша...» Нет больше уездного комитета, секретарём которого состоял Саша Штейн. Нет больше Василия Филькова. Я пойду в губком к Вале Грековой. Расскажу о лоржинских комсомольцах, передам их привет и письмо, зашитое в подкладке вытертой каракулевой ушанки, а потом пойду в отряд, чтобы отомстить за Филькова и товарищей, чтобы освободить Дреслу. Лесная тишина начинала тревожить меня. Не сбился ли я с пути? Почему прекратилась перестрелка? А может быть, они уже заняли губернский город и я не найду губернского комитета, как не нашёл уездного? А может быть, Валя Грекова тоже убита? И снег вокруг неё покрыт пятнами крови... А письмо... А горячие слова комсомольцев Лоржинско-го порохового завода... Белка перебежала с дерева на дерево. И опять тишина. Я терял последние силы. Всё медленнее и медленнее передвигал ноги. Кажется, сейчас я опущусь на мягкий снег и засну. Василий Фильков подаёт мне руку... «Не задерживайся, паренёк!» — говорит он. Почему у Филькова голос Вали Грековой? Нет, это не Валим голос, это чей-то чужой, незнакомый и грубый... Блестит штык. Откуда здесь штык? Неужели они окружили лес и хотят расстрелять меня и всех товарищей? — Не стреляйте! Не смейте стрелять! Сжимая до боли в руке часы Филькова, я падаю в снег, прямо под ноги выбегающим из-за деревьев людям в шлемах с красными звёздами. Липерский губернский съезд комсомола подходил к концу. Половина делегатов отсутствовала. Полгубернии было занято белыми. Многие делегаты погибли в боях, убитые вражескими пулями, отметившими кровью почётные делегатские мандаты. Другие на подступах к губернскому городу защищали город от белогвардейцев. Последним в повестке съезда стоял доклад секретаря Дресленского комитета комсомола Александра Штейна о командировке. Но Дреслу захватили белые, и некому было докладывать от дресленской организации. — Товарищи, — глухо предложила Валя Грекова, ведущая съезд, — последний вопрос нужно снять. Получены сведения, что в Дресле расстреляны двадцать два человека — руководители партии и комсомола. Среди них председатель губренкома Василии Андреевич Фильков. Секретарь Дресленского комитета комсомола Штейн не сможет сделать свой доклад... Она обвела потемневшими глазами притихший зал — и вздрогнула: я стоял в дверях... Ощущая на себе взгляды всех делегатов и чувствуя, как тепло проникает во все поры тела, я прошёл через весь зал и, подойдя к столу президиума, рассказал надтреснутым, промёрзшим голосом о лоржинских комсомольцах, о расстреле товарищей, о Дресленском комитете... — От имени дресленской организации вношу предложение всему съезду — на фронт! Шестьдесят три делегата было на съезде, шестьдесят три руки с мандатами — красными листочками из папиросной бумаги — поднялись за моё предложение. Шестьдесят четвёртый делегат голосовал без мандата красной, обмороженной рукой: я не успел ещё получить мандат. На следующий день на двери губкома появилась надпись на той же красной папиросной бумаге: «Губком РКСМ закрыт по случаю ухода на фронт». Один край объявления отклеился, и ветер трепал красную наклейку, как маленькое боевое знамя. ПЕСОК Батарея закрепилась на новых позициях. На тщательно укатанной снеговой площадке стояло орудие. Содрогаясь всем телом, оно выбрасывало в облаке дыма и огня горячий металл, летящий далеко над поляной. Оттуда, из-за далёкого кустарника, где, также укрытое и невидимое, стояло вражеское орудие, слышались выстрелы. Снаряды взрывали блестящий снежный покров, обнажая бугристое тело земли. Шрапнельный дождь веером разлетался в воздухе, осыпая бойцов батареи, выводя их из строя и бросая на холодную, мёрзлую землю. Зернистый слежавшийся снег окрашивался молодой горячей кровью. Осколки снарядов срезали верхушки седых деревьев, со свистом проносились мимо большой сосны, на мохнатом, разлапистом суку которой сидел я, пристально вглядываясь в даль, коченеющими руками держа полевой бинокль помкомбатра Павла Черненко. Вторую неделю отступала батарея. Сколько хороших бойцов оставила она на снежных полях... — Э, ребята, — говорил запевала и первый шутник Алексей Пальнов, — до чего горячих щец похлебать хочется! Так бы, кажется, и разлилось тепло по жилам! А потом опять воевать... По его огрубевшему и покрасневшему от мороза лицу бродила мечтательная улыбка. — Щец? — пытался поддержать разговор арттехник Зилов. — Тебе бы, Лёша, ещё вот эдакого согревающего! — И он выразительно щёлкнул себя по выступающему кадыку.-—Ах, Лёша, Лёша!—сокрушённо качал он белокурой головой, пощипывая отросшую курчавую бородку. Я не принимал участия в шутках, мне казалось святотатством шутить, когда кругом смерть. Иногда во время недолгой передышки собирались бойцы вокруг орудий, и Лёша Пальнов запевал любимую песню батареи: Степь да степь кругом, Путь далёк лежит, В той степи глухой Умирал ямщик. Пел Алексей мастерски, за душу брал. Собирались вокруг бойцы, забывали про холод, про тяжесть похода, глядели в таящую сотни опасностей тёмную, густую ночь и тихо подпевали Алёше. И ещё была у Лёши песня. Никто не знал, кто сложил её. Говорилось в этой песне про арестованного белыми рабочего, который сквозь решётки тюремного окна глядит на восток и ждёт прихода Красной Армии. Была эта песня протяжна, грустна, и пел её Лёша, полуприкрыв глаза. Крепкие решётки у тюремных окон, Ходят часовые, смотрят зорким оком, Стерегут тюрьмы покой. Пётр прильнул к решётке — мысль его далеко, Он глядит с надеждой в сторону востока. Под окном затвором лязгнул часовой... Эту песню я очень любил. Я рассказывал товарищам по батарее, что лоржинские комсомольцы ждут нас, что они обещали помочь. Помочь... Как помочь? С каждым днём этот вопрос всё больше мучил меня. Когда же они помогут? Когда всю батарею уничтожат? «Когда же? Каким образом? — неотрывно думал я. — Эх, отступаем!.. Опять отступаем!» И зачем я пошёл в артиллерию? Разве столкнёшься здесь с врагом грудь с грудью? Снаряд опять просвистел над самой моей головой и упал далеко в лесу, с грохотом расчищая себе место среди деревьев. — Огонь! — протяжно командовал Черненко, получив новые координаты с наблюдательного пункта. Но орудие молчало. Я с недоумением глянул вниз. Упав головой на орудие и окрасив его своей кровью, лежал запевала Алексей Пальнов. «Щец бы теперь горяченьких!..» — вспомнил я. ...Я заменил Пальнова у орудия. Огонь с вражеской стороны всё усиливался. Снаряды в первой батарее были на исходе. Помкомбатр Черненко приказал беречь снаряды. И батарея только изредка отвечала на беспрерывный смерч осыпающей нас шрапнели. Жёлтый дым стлался на поляне, закрывая солнце. Соседнее орудие давно умолкло, сбитое противником. Я с тревогой поглядывал на помкомбатра. Окоченевшие руки саднило от гильз. Щит орудия раскололи снаряды, но, тяжело содрогаясь, оно всё ещё отвечало на огонь противника. Из леса неожиданно вынырнула фигура верхового. «Приказ отступать», — решил я, и как будто треснула натянутая до отказа боевая пружина. Всадник легко соскочил с коня: я узнал под большим козырьком шлема широкоскулое лицо Вали Грековой. Она ласково взглянула на меня, и что-то расплавилось в моём окоченевшем сердце. — Товарищ командир батареи, — глухим, простуженным голосом сказала Валя,— командир полка приказал держаться до последней возможности. Без приказа не отступать. Черненко оторопело поглядел на Валю, обвёл глазами трупы, усеявшие лесную опушку, небольшую горстку оставшихся бойцов и глухо ответил: — Передайте командиру полка, что приказ будет выполнен. Валя поняла долгий взгляд помкомбатра. Хотела что-то сказать, но промолчала и только, проезжая мимо меня, тихо бросила: — Прощай, Сашко!.. И мне показалось, что она совсем, навсегда прощается со мной. Все бойцы батареи знали, что у помкомбатра Павла Черненко дома остались жена и маленький сын Пашка. В походной сумке, в кожаном бумажнике его, лежала карточка: бравый, статный, усатый Черненко в расшитой украинской рубахе стоит у кресла, на котором сидит молодая черноглазая женщина со смеющимся мальчонкой на руках. Осколок ударил в бок помкомбатра, сорвав сумку. — Товарищ командир!—рванулся к нему арттехник Зилов. Черненко тяжело сел на землю. Он сам скинул шинель и старался рукой остановить бьющую кровь. — Ца-рапина! — хрипло заикаясь, сказал помком-батр. — Царапина... Он глубоко вздохнул и засмеялся, радуясь тому, что остался жить, что он только ранен, что смерть ещё раз миновала его. Поднявшись с земли, глубоко вдыхая густой морозный воздух и, видно, по-новому ощущая радость жизни, он широко и как бы несколько виновато улыбнулся своим встревоженным бойцам. В этот момент новый снаряд разбил орудийное колесо и с грохотом врылся в землю у моих ног. «Конец!» — мелькнула мысль, и, закрыв глаза, я откинулся на лафет орудия. Конца не было... Я открыл глаза. Снаряд спокойно лежал в яме и дымился. Он не разорвался. Бледные и изумлённые, стояли бойцы. — Ну, не иначе, как мы в сорочке родились, — облизывая пересохшие губы, сказал арттехник Зилов. И тут же второй снаряд упал у самой опушки, и опять батарейцы увидели смерть в лицо. С шумом, цепляясь обледенелыми ветвями за соседей, упала подрубленная снарядом седая сосна. Но разрыва опять не последовало. Снаряды ложились один за другим. Никто из бойцов не помнил такого случая, чтобы десять снарядов подряд упали и не разорвались. Ещё не прошёл страх смерти: каждый раз устало шарахались красноармейцы. Но в земле только дымились глубокие дыры и пахло горячим, расплавленным металлом. Моё сердце никогда ещё не билось так тревожно. Десять снарядов! Десять раз смерть, как хищный зверь, бросалась на меня и сворачивалась у моих ног, непонятно кем усмирённая, непонятно почему успокоенная и в этой своей тайне загадочная и ещё более страшная. Каждую секунду могли взорваться эти десять снарядов... Огонь утих. Я не мог дальше выдержать, бросился к чёрной воронке, но чья-то рука рванула меня назад, злой голос арттех-ника Зилова хлестнул: — Назад! Не лезь! Смерти хочешь?.. — Уже спокойней он добавил: — Умеючи надо смотреть. Тронешь её, гранату, — она и взорвётся. Переждать надо. Коченели руки. Скрипели сапёрные лопаты о мёрзлую землю. Бойцы батареи откапывали неприятельский снаряд. — А ну, ребята, — вздохнув, громко сказал Зилов, — отойди на тридцать шагов! Без разговоров! Отвинчивать буду. Мало ли что... — Почему ты? — запальчиво крикнул я. — Товарищ командир, — не отвечая, обернулся Зилов, — прикажите отойти. Черненко задумчиво и тревожно глянул в яму, где к самому телу снаряда прильнул Зилов, провёл рукой по заиндевевшим густым усам и, махнув рукой, увёл за собой бойцов. Мы стояли в отдалении от ямы, не отрывая глаз от рук Зилова. Он отвинчивал головку снаряда. Зилов высыпал порох на ладонь. Не ожидая распоряжения помкомбатра, мы кинулись к яме. На красной, огрубелой ладони Зилова горкой высились мелкие чёрные зёрна. Бойцы непонимающим взглядом смотрели на эти зёрна. Почему не взорвался снаряд? Но в серых глазах Зилова уже мелькала весёлая искорка. Он, быстро пригнувшись, высыпал порох на край ямы, зажёг спичку и поднёс к горке. Она не вспыхнула. И тогда все мы поняли, почему не взорвались снаряды. — Песок! — крикнул я громко и радостно. — Песок! Зилоз... Товарищ командир... Лоржинские комсомольцы!.. На застывшей снежной поляне у самой опушки опять взорвался вражеский снаряд. — Да!.. — сказал многозначительно Черненко. — Да!.. — повторил он. Больше ничего не сказал командир, но мы поняли его. С НП указали новую цель. — К орудию! — скомандовал Черненко своим прежним суровым голосом, словно не десять человек, а вся батарея слушала его приказ. — По белякам — огонь! Я заложил новый снаряд в патронник последнего уцелевшего орудия. ЗОЛОТЫЕ КУВШИНКИ 1 Белые отступали, очищая занятые ими города нашей губернии. Деревни и местечки были разрушены, дома разбиты снарядами и сожжены, электрические провода сорваны. Жизнь приходилось начинать сначала. После возвращения с фронта я работал в Липерском губкоме комсомола. Ведал культурой и просвещением. Однажды меня вызвал к себе товарищ Громов, сменивший Филькова на посту председателя губревкома. — Надо нам на местах культурную жизнь налаживать. Поезжай, Штейн, в командировку, в Дреслу. Ты там знаешь все места, сделаешь доклад на уездном съезде, да и газету нам нужно наладить. А по печати ты, можно сказать, спец... — Чуть заметная усмешка скользнула по его хмурому лицу. Я понял, что он вспомнил злополучную лунную поэму. Но мне было сейчас совсем не до луны. — Есть, товарищ Громов!.. Я шагнул к двери. Громов остановил меня. — Оттуда, — сказал он, — только-только белых выгнали. Местность пограничная, беспокойная. Так что смотри там, поосторожней. Дело военное. Лет мне тогда сравнялось ни много ни мало — шестнадцать. И я считал себя старым, закалённым воякой. Поручение Громова польстило мне. Шутка ли, еду налаживать власть на местах! ...В канцелярии губревкома выдали мне трёхаршинный мандат, десять миллионов рублей, пропуск на право проезда по железной дороге, всякие инструкции... Набил я свой многострадальный портфель — и на вокзал. Поезд до Дреслы шёл восемь часов. Я сильно волновался, подъезжая рано утром к городу. Вспоминал, как год назад уходил отсюда по снежным сугробам сквозь густой лес. Улицы городка превратились в огромное пепелище. Только в центре сохранилось несколько домов, и на окраине в разных местах чёрными грибами высились уцелевшие избушки; между ними — полуразрушенные трубы. Но город уже начинал жить. Работала почта. На почерневшем от копоти кирпичном доме развевался красный флаг и золотом светились большие буквы: ДРЕСЛЕНСКИИ УЕЗДНЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ Председателем уездревкома оказался маленький, худой печатник. Я предъявил ему свой мандат и завёл разговор о культуре. Мы столковались быстро: о моём приезде его уже предупредили. К десяти часам в «красный зал» уездревкома уже приглашены все культурные силы уезда—учителя, избачи, политпросветработники—послушать мой доклад о культуре. Мы пошли с председателем в «красный зал». Во всю длину небольшой комнаты стояло около десятка деревянных скамей. На стенах кое-где остались обрывки прежних темно-красных обоев. Перед скамьями возвышалась трибуна — старый жёлтый пюпитр. До начала съезда осталось два часа. Я простился с председателем и отправился побродить по городу. 2 Много радостных и горьких воспоминаний связано было у меня с этим городом. Сюда приезжала ко мне в гости из Липерска Нина. Здесь вот, на пригорке над рекой, сидели мы с ней и строили планы будущей жизни. В этом же городе я перенёс самое большое горе. Я спустился к реке и узнал место, где стоял угольный сарай. Сарай снесли. Ничто вокруг не напоминало того страшного зимнего утра. Большая ветвистая ива склонилась над самой водой. Здесь их расстреляли... «Это не театральное представление, Саша, а революция...» — сказал мне Василий Андреевич Фильков. Вот его часы. Сколько минут отсчитали уже они после смерти своего владельца... Тогда кругом лежал снег. А сейчас пышно зеленели деревья, пели птицы. Старый, замшелый челнок покачивался на воде у самых моих ног. На скамейке среди многочисленных обрезанных длинных стеблей желтели кувшинки, выпавшие, видно, из большого букета. Я подтянул челнок, спустился в него и присел на скамейку. Портфель с мандатом и инструкциями лежал на дне челнока. А я... писал стихи. Лирические. О любимой. И тихий шум реки, И волны берегов Так сладко дороги, И там из-за валов Я слышу милый, нежный зов... Сижу в челноке, покачиваюсь, пишу, вслух декламирую. Долго ли сидел так — не знаю. Вдруг слышу — кричат. Кому бы это? Гляжу вверх: стоит красноармеец, винтовкой машет и кричит: — Товарищ, а товарищ! Вижу: вокруг никого нет. Значит, мне. И сразу вспомнил, что я представитель губернии, поднял портфель, выскочил из челнока. А красноармеец зовёт: — Товарищ! Подь сюда! — и сам спускается ко мне. С ним ещё один. — Что вам, товарищи, нужно? — говорю внушительно, «по-губернски». — С кем разговаривал на том берегу? — Разговаривал? Ни с кем не разговаривал. — Ну ладно... Аида в Особый отдел... Признаться, у меня даже под ложечкой засосало. Вот так штука! Вот тебе и «представитель центра»! — Зачем это в Особый отдел? У меня съезд, я из губернии. Вот мой мандат. — Иди, иди! Там разберутся. Бумажки не растеряй. Стали красноармейцы по обе стороны и повели меня наверх. А наверху, в маленьком домике, помещался Особый отдел. По дороге я пытался разъяснить недоразумение, убеждал товарищей, доказывал им. — Ну, — говорю, — задаст вам комиссар перцу за дискредитацию авторитета! Я вам потом покажу... Необычайно спокойные люди попались. Привели меня в комнату, посадили и заперли на ключ. Положение создавалось трагическое. Собирается съезд. Ждут докладчика о культуре. А докладчик сидит под замком в Особом отделе. Сидел я взаперти минут тридцать и рисовал себе самые мрачные картины. То будто попал я в руки переодетых бандитов и меня идёт освобождать весь съезд. То будто меня, не расспросив, сразу расстреливают. А потом запросы из губернии... но уже поздно... Много подобной чепухи передумал я за эти полчаса. Наконец щёлкнул замок, вошли те же два красноармейца и повели меня к комиссару. Комиссар, молодой ещё человек, в пенсне на длинном носу, внимательно посмотрел на меня и, не дав мне сказать ни слова, спросил в упор: — С кем вы разговаривали на том берегу? Весь мой апломб, все приготовленные речи как ветром сдуло. — Товарищ комиссар, — сказал я, чуть не плача, — да не разговаривал я ни с кем, честное большевистское слово! Вот мой мандат. Я — из губернии. Комиссар удивлённо приподнял бровь. Видно, я действительно мало походил на шпиона. Он посмотрел бумаги, потом вскинул на меня глаза и спросил: — Что же вы делали на берегу? Сдавленным голосом я прохрипел: — Стихи писал. Морщины на лбу комиссара сразу разошлись. Видно было, что он еле удерживается от смеха. — А ну-ка, покажите стихи... Мне казалось, если сейчас ударит гром, если блеснёт молния и убьёт меня — это будет самое большое счастье. Из вороха инструкций я вынул тетрадь со стихами и подал комиссару. Он повертел её в руках и сказал: — Неразборчиво. А ну-ка, прочтите сами. Что тут говорить!.. Сгорая от стыда, я стоял в комнате Особого отдела и вслух читал любовно-лирические стихи. Мне казалось, что долгожданный гром грянул, когда захохотал — нет, загрохотал! — комиссар. Увы, он не был поэтом, и мои лирические чувства не нашли в его душе отклика. Он долго, с расстановкой, басисто смеялся. Потом встал, отдал мне мой мандат и инструкции, протянул руку и сказал: — Ну, идите на съезд, товарищ... Стишки, впрочем, не особенно значительные. Но будет время — перепишите мне на память. Только другой раз для вдохновения выбирайте более укромное место, чем на самой границе. Не могу передать, как вылетел я из Особого отдела. До съезда оставалось десять минут. Я торопливо зашагал к зданию ревкома. На съезде я был уже солидным представителем центра и с настоящим «губернским» видом встал в «красном зале» за жёлтый пюпитр, чтобы начать свой доклад... Я пробыл в городке несколько дней. С комиссаром Особого отдела я больше не встречался. Товарищ Громов выразил мне благодарность и сказал, что я оправдал возложенные на меня надежды. Политпросветработа в Дресленском уезде налаживалась, а об эпизоде со стихами товарищ Громов так ничего и не узнал. И только одно неразрешённое сомнение терзает меня всегда, когда я вспоминаю о суровом комиссаре. На комиссарском столе, рядом с письменным прибором и горкой револьверных патронов, стоял букет золотых кувшинок, таких же точно кувшинок, как те, что лежали в старом, замшелом челноке. МУЗЫ 1 Мою литературную судьбу решило стихотворение, посвящённое трёхлетию Октябрьской революции. Степан Алый, заведующий литературным отделом липерской газеты, стоял несокрушимой преградой между мною и газетным листом. Презрительно оглядывая мою невзрачную фигуру, он всегда возвращал мне стихи и говорил: — Чувства мало... Глубины нет, молодой человек! Учиться надо. Статейки писать ещё можете, а стихи... Нет, стихи не каждый может. Изучайте поэта Тютчева. Советую прочесть мою последнюю поэму «Раннее утро» в журнале «Грёзы». Или: — Нету настоящей идейной нагрузки. Мало гражданского пафоса. Изучайте поэта Некрасова. Советую прочесть мою последнюю поэму «Вперёд» в журнале «Искусство». Я задыхался от бессильной злобы. Это у меня, старого общественного деятеля и борца, мало идейной нагрузки! Между тем, кроме печальной памяти поэмы о Луне, стихи мои не видели света. Я читал и Тютчева, и Некрасова, изучал и Степана Алого и, по правде говоря, не понимал, чем его стихи лучше моих. Но никто не мог мне это объяснить. Наконец плотина была прорвана. В предпраздничные дни трёхлетия Октябрьской революции Степан Алый уехал в командировку, и редакция осталась без юбилейных стихов. А у меня как раз к этому времени родились, казалось мне, замечательные строчки. Я отнёс их прямо редактору. Громов, скептически относившийся к моим литературным опытам, несколько раз с начала до конца хмуро прочёл стихи и, когда я уже был уверен в провале, сумрачно сказал: — Ничего стишки. Подходят. Когда я вприпрыжку выбегал из редакции, меня нагнал мой старый приятель по гимназии, комсомолец Тимченко, и, озорничая, крикнул: — Товарищ Пушкин, редактор говорит, чтоб ты завтра прочёл стихи на вечере! Это была настоящая победа. На следующий день вернулся Степан Алый. Первую полосу газеты уже украшало моё стихотворение. Называлось оно «Три года». Стихотворение получилось идейно выдержанное и вместе с тем очень лирическое. Степан Алый мне всё же отомстил. Вечером в театре редакция выпускала «Живую газету». Впервые и меня привлекли к этому делу. Театр заполнили красноармейцы. Вначале редактор прочёл передовую статью на политическую тему. Потом шёл иллюстрированный фельетон. На диапозитивах нарисовали историю борьбы Красной Армии с белогвардейцами на протяжении трёх лет советской власти. На экране появились карикатурные изображения Деникина, Мамонтова, Краснова, Корнилова. Подписи к диапозитивам, сочинённые Степаном Алым, читал сам автор. Он стоял перед экраном и не видел того, что показывалось на полотне. Зная порядковые номера диапозитивов, он читал, не оглядываясь. Всё шло хорошо. Вдохновенно потрясая длинными волосами, он кричал на весь зал: И вот на сцену в этот миг Геройски вылетел комбриг. Неожиданно в зале раздался хохот. Степан Алый не понимал, в чём дело. Вместо комбрига весь экран занимала плотная фигура Деникина: Миша Тимченко спутал диапозитивы. — Не тот диапозитив! — послышался за сценой зловещий шёпот редактора. Но диапозитив заело. Он не вылезал из рамки. Все увидели, как огромное (на экране) лезвие Мишиного ножа вытаскивает из рамки упирающегося Деникина. Но Степан Алый не смутился. Он не такое видал. Вот потрясатель всех основ — Разбитый нами ген. Краснов, — читал он с убийственной иронической интонацией в голосе. Опять громкий смех. Автор уверен, что это реакция на его замечательную иронию. Но опять зловещий шёпот доносится из-за сцены: — Вниз головой, сукин сын!.. Вниз головой! И опять нож Миши Тимченко выковыривает генерала, появившегося на экране вверх ногами. В общем, фельетон всё же имел успех. Степан Алый вошёл в боковую ложу и презрительно, как всегда, оглядел меня. Я понял, что мне следует ожидать какого-то подвоха. Я начал читать при полной тишине: Три года... Как гордо звучит это слово! Три года... Как гордо звучит этот звук! Три года прошло, и сегодня мы снова Справляем наш праздник мозолистых рук. Мне казалось, что весь зал замер, покорённый силой этих строк. Три года... Как гордо звучит это слово! Три года... Как гордо звучит этот звук! мастерским рефреном начал я вторую строфу. И в этот миг приглушённый бас Степана Алого прозвучал из боковой ложи: — Товарищ Штейн... Три года — это два слова, а не одно... В зале засмеялись. Я пошатнулся. Вот он, подвох, которого я боялся! Завистники! Но я даже не взглянул в сторону Степана Алого. Я дочитал до конца стихотворение и ушёл за сцену, упиваясь звуками аплодисментов. С того дня я окончательно вошёл в редакционную семью «Известий» губисполкома: Степану Алому пришлось потесниться. В газете всё чаще стали появляться мои стихи, подписанные всевозможными псевдонимами: «Леонид Ледяной», «Владимир Ленский». Лучшие свои произведения я подписывал настоящей фамилией — Ал. Штейн. Не «А.», а «Ал.». Это казалось тоньше и поэтичнее. В наш прифронтовой город часто приезжали столичные актёры на гастроли. После двух—трёх выступлений они возвращались к себе, нагруженные мукой и пшеном фронтовых пайков. Когда выступал король экрана Максимов, приехавший из Петрограда, пришлось вызвать конные наряды, чтобы сдерживать «безбилетных». Он вышел на сцену, высокий, томный, в изрядно вытертой визитке, — первый любовник десятков захватывающих старых фильмов. Он читал стихи Блока, Бальмонта, Игоря Северянина и малознакомого нам в то время поэта Владимира Маяковского. Нина Гольдина, попавшая в зал по моей редакционной контрамарке, дрожала от восхищения. После вечера я пошёл за кулисы. Я представился Максимову как поэт. Он тонкими пальцами пожал мою руку, изобразив на своём усталом лице некоторое подобие поощрительной улыбки. Мы заговорили об искусстве. Максимов говорил вяло, лениво — видимо, я мало интересовал его. Я преподнёс Максимову последний номер комсомольского журнала «Юный горн» с моим стихотворением «Наша юность». Он рассеянно пообещал обязательно прочитать его. — Очень заинтересован моими стихами, — сказал я Нине Гольдиной. И она ещё ласковее, чем обычно, поглядела на меня. Я пришёл провожать Максимова на вокзал. Его окружали поклонницы. Кругом цветы... какие-то кулёчки... коробки конфет. Меня он заметил уже с подножки вагона, когда поезд трогался. — Прощайте! — крикнул он мне. — Стихи понравились. Буду читать на концертах... Это слышали все... Об этом узнал весь город. Король экрана Максимов будет читать мои стихи на концертах в столице! Степан Алый сгорал от зависти. Вскоре меня избрали председателем союза поэтов нашего города. 2 Лето 1921 года в нашем городе ознаменовалось расцветом литературы и искусства. Особенно гордились мы театром революционной сатиры. Художественным руководителем Теревсата был Кудрин, режиссёром — Барков, литературным вождём — Степан Алый, а идейным вдохновителем — я. Мы сочиняли сатирические скетчи, комедии, инсценировки, фельетоны. Привлекали лучших молодых актёров города. Даже хмурый меланхолик и скептик Вениамин Лурье оказался у нас на положении первого комика. На знамени театра красовались слова: Со ступеньки на ступеньку Не катитесь вы к былому, К дням неволи и тоски. Не живите помаленьку, А живите по-большому, Как живут большевики. Всё это было порой сумбурно, примитивно, часто наивно. Но — молодо. Энтузиазма у нас было хоть отбавляй. Мы разъезжали по клубам, по красноармейским частям. Нас уже узнал весь город. Вот на дребезжащем грузовике въезжаем мы в рабочий посёлок. Перед нами огромный барак. Самодельная деревянная эстрада. В сторожке приготовлено скромное угощение для актёров: несколько ломтиков хлеба, намазанных — шутка сказать! — кетовой икрой. Мы быстро поглощаем угощение, расставляем нехитрую декорацию. Поднимается занавес. Сотни зрителей приветствуют нас, а весь коллектив наш—даже я, Степан Алый и Миша Тимченко, ставший главным директором и администратором театра, — выезжает на мётлах и запевает боевой марш собственного сочинения: Пусть развесёлым задирой Будет наш Теревсат! Пусть искромётной сатирой Клеймит он тех, кто хочет назад! Мы победим скуку серую — Веруем в то горячо! Мы с нашей радостной верою Мётлы возьмём на плечо... Мётлы в наших руках играли символическую роль: мы выметали всевозможный хлам и нечисть. В интересах исторической правды должен, впрочем, сказать, что пели все, кроме меня... Мне, учитывая особенности моего вокального дарования, Кудрин разрешил только раскрывать рот — так сказать, мимически изображая пение. А в союзе поэтов у нас протекали сложные и бурные дискуссии. Почти каждый член союза представлял самостоятельную секцию. Футуристы. Акмеисты. Имажинисты. Мы со Степаном Алым были ядром союза и назывались пролетарскими поэтами. Особенно много неприятностей доставляли нам футуристы (один) и имажинисты (один). Поэт-футурист Илюша Свириденков был шумным, задиристым юношей. Стихи он писал оригинальные, но малопонятные и, как узнал я много позже, просто целиком списывал из книжки московского футуриста Алексея Кручёных. Но не стихи представляли главную опасность. Свириденков, к несчастью, заведовал отделом искусств. В городе неведомо откуда появились художники-кубисты. Шварца объявили консерватором и подвергли опале. Однажды, выйдя утром на улицу, мирные жители увидели, что с нашим городом произошло нечто необычайное: он расцвёл какими-то фантастическими голубыми и оранжевыми цветами. Это была реформа вывесок, которую проводил Свириденков. Для начала он избрал школы. Над всеми школами висели огромные четырёхугольные панно, изображавшие голубых попугаев, резвящихся на каких-то лимонно-оранжевых деревьях. Что означала эта вакханалия попугаев, выяснить не удалось. Очевидно — вольный полёт творческой мысли поэта-футуриста. Председатель губисполкома Громов, увидев первую вывеску над одной из школ, окаменел и потерял дар речи. На этом солнце Свириденкова закатилось. Но оранжевые вывески его ещё долго висели, поражая всех «новичков», приезжающих в наш город. Вождём имажинистов сделался старый мой одноклассник Изя Аронштам. Он любил необычайно сложные сравнения. Стихи писал грустные, лирические, и они нигде не печатались. Изя по-особому выписывал свои строчки в большом альбоме, который приносил на поэтические вечера. Каждое слово графически изображало содержащееся в нём переживание. Он гордился этой сложной, оригинальной системой. Слова о тоске писались почти без нажима, бледные, растянутые, продолговатые; слова о борьбе — жирными прописными буквами, подчёркнутые красным карандашом. Но таких слов он избегал: Изя Аронштам не любил борьбы. Душа полна сомнений и печали, — писал он уныло, — И мысли ходят шахматным конём. Здесь слова извивались ходом шахматного коня. Хочу разбить все старые скрижали И новые писать ласкающим пером... Мы жестоко бичевали его на наших собраниях. Но он не смущался и вписывал всё новые и новые стихи в свой огромный альбом. В газете ни Свириденков, ни Аронштам не печатались. Газета предоставляла свои страницы пролетарским поэтам — мне и Степану Алому. Но моя дружба с редактором продолжалась недолго. Однажды в дождливый октябрьский день я пришёл к мысли, что неплохо бы собрать свои лучшие стихи, издать их отдельной книжкой и послать в подарок Нине Гольдиной. Я всегда отличался оперативностью. На другой же день стихи были набраны и свёрстаны. Шестнадцать страниц... Первый том. Я спустился вниз, в печатное отделение. Оказалось, что машины заняты срочными материалами к губернскому съезду Советов. Я приказал снять отчётный доклад губисполкома и спустить в машину мои стихи. Я уже был в газете видной фигурой, и меня не без некоторого колебания послушались. Всё прошло бы благополучно, если бы в типографию не пришёл, как на грех, сам Громов — редактор газеты и председатель губисполкома. Громов справился о судьбе отчётного доклада и узнал, что он заменён стихами. Меня, к счастью, в этот миг ни в типографии, ни в редакции не оказалось. Говорят, Громов в ту минуту был страшен. Никто не мог передать в точности слов, которые он мне посвятил. Но я догадываюсь об их эмоциональной окраске. Набор стихов рассыпали мгновенно. Узнав об этом трагическом происшествии, я понял, что в редакцию больше приходить незачем. Тоскливо бродил я ом по городу. В кармане лежало письмо Нины Голь-диной из Москвы. Она уехала туда месяц назад, поступила на медицинский факультет университета, писала мне о новых подругах, профессорах, об анатомическом театре. Звала меня в Москву — учиться. Учиться... А я и забыл, что означает это слово. Занятый разными делами, я давно уже не открывал никаких серьёзных книг. Да, видно, засиделся я в этом городе. Меня плохо понимают и ценят здесь... Надо ехать в Москву. В эту ночь я продумал всю свою недолгую жизнь и с горечью пришёл к выводу, что я, председатель союза поэтов, ничего не знаю... Уже два года я почти не посещал школу. Ваня Фильков учился и работал в Москве, куда он окончательно переехал после гибели отца. Изя Аронштам поступил в Высшее техническое училище в столице, Нина училась на медицинском факультете. А я? Я был и строителем, и председателем совета ученических депутатов, и секретарём комсомола, и артиллеристом, и редактором, и актёром, и поэтом. Кем только я не был, а остался неучем. К очень горьким выводам пришёл я в эту ночь. Что же, надо принимать решение. Неуч? Значит, надо учиться. Я решил ехать в Москву. Мои соученики как раз в эти дни заканчивали учёбу. Поднатужился и я: кое-как сдал экзамены и после долгого, малоприятного разговора с председателем школьного совета получил свидетельство об окончании школы. Губком комсомола охотно отпустил меня на учёбу. И вот я простился с Кудриным, Шварцем, Веней Лурье, со Степаном Алым, обошёл весь город, посидел над рекой, у памятника Песталоцци. Ранним утром я обнял маму и уехал в столицу. 3 В Москву я приехал с вещевым мешком, в котором лежали две смены белья и первые оттиски злополучного, так и не увидевшего свет сборника моих стихов. Стояли холодные ноябрьские дни. Надо было найти место под крышей. Прямо с вокзала я пешком через весь город отправился в университет и узнал, что приём окончен два месяца назад. Я стоял перед колоннами храма науки. Мимо деловито пробегали студенты. Где-нибудь там, в аудитории или в анатомическом театре, сидит и учится Нина. А одинокий, никому не нужный председатель союза поэтов — за бортом. Тяжёлые минуты переживал я... В типографском общежитии, где жил Ваня Фильков, мне сказали, что он тяжело болен и лежит в больнице. Совсем подавленный, я вернулся к университету. Но долго грустить я не умел. Принялся искать пристанище. Неожиданно счастье блеснуло мне в облике Изи Аронштама. Живой Изя Аронштам в фуражке с техническим значком проходил мимо университета. И, честное слово, я никогда не думал, что буду так рад его увидеть. Мы, кажется, даже обнялись. Расспросы. Воспоминания. Изя жил у тёти — зубного врача. Фортуна опять улыбалась мне. Только вчера тётя уехала в Кисловодск, и Изя остался хозяином целой квартиры. Блестящие перспективы открывались передо мной. Вечером, сидя в зубоврачебном кресле, я намечал планы своей московской жизни. Учёбу временно приходилось отодвинуть. Об отъезде из Москвы не могло быть и речи. Квартирой на месяц я обеспечен. Значит, надо работать. В Центральном управлении Роста меня знали по работе в Липерске, и на другой же день я поступил на службу в попом чине — инструктора печати. Это звучало совсем не плохо. Даже какое-то благородство было в этом звании — инструктор. Я решил связаться с московскими литераторами. Для начала отправился в Политехнический музей на большой литературный вечер Валерия Брюсова. Я много слышал о знаменитом Брюсове, но никогда не встречал его портретов. И теперь, увидев поэта на сцене разочаровался. На поэта он никак не походил. Благообразный, в чёрном длинном сюртуке. Усы, борода. Учитель истории и географии, а не поэт. Брюсов делал какой-то доклад о литературе. Я сидел далеко от сцены, слышал плохо и всё время думал о том, как в антракте пойду к Брюсову и представлюсь ему. В перерыве я направился к кулисам. Туда меня не пускали. Я начал шуметь, и вдруг... сам Брюсов подошёл к дверям. -— Здравствуйте! — сказал я взволнованно (у дверей собралась толпа любопытных). — Здравствуйте, товарищ Валерий Брюсов! Я — Штейн, председатель Липерского союза поэтов. Брюсов, видимо, устал и был не в духе. Непонятная усмешка мелькнула на его лице и скрылась в густых усах. — Здравствуйте, председатель союза, — сказал он. — А зачем вы ломаете дверь? Вокруг засмеялись. — Товарищ Валерий Брюсов, — сказал я с обидой и дрожью в голосе, — мне нужно поговорить с вами... и потом, я привёз стихи. Брюсов нахмурился и пожал плечами. Какой-то рыжий мужчина показался из-за его спины и стал мне делать зловещие знаки. — Юноша, — крикнул он мне, — оставьте Валерия Яковлевича в покое, перестаньте скандалить! «Юноша», — сказал он мне, председателю союза поэтов! А Брюсов не остановил его, Брюсов позволил захлопнуть дверь перед самым моим носом. Вокруг все хохотали. Я ушёл с вечера, не дослушав Брюсова. Мою душу стала разъедать горечь столичной жизни. Но мечты о славе не покидали меня. Каждый день после службы, покачиваясь в зубоврачебном кресле, я писал новые стихи. Однажды вместе с Ниной Гольдиной мы отправились на Тверскую, в кафе союза поэтов, носившее название «Домино». Там все желающие могли читать стихи с эстрады. Стихи тут же обсуждались присутствующими поэтами. В кафе часто бывали Маяковский, Каменский, Есенин... Я очень волновался. Не то чтобы я не был уверен в своих стихах, а всё же... Ведь как много завистников! К тому же встреча с Брюсовым настраивала меня тревожно. Неизвестные мне поэты пили чай, читали стихи. Стихи были непонятные, вроде свириденковских, и во всяком случае уступали моим. Председательствовал могучий белокурый бородач. Он показался мне симпатичнее других, и я послал ему записку: «Прошу дать слово для чтения стихов. Штейн (из провинции)». Не председатель союза поэтов, а просто — Штейн из провинции. Передо мной выступал какой-то носатый критик, ругавший последнюю пьесу Маяковского — «Мистерию-буфф». Я лихорадочно повторял в памяти, слова своих стихов. Читал я лучшее стихотворение. Око было напечатано на первой странице «Известий» губисполкома: открывало мой злополучный сборник. Я читал с выражением, с жестами: Мы идём по проездам больших площадей. Мы идём по глухим закоулкам, И шаги окунувшихся в вечность людей Раздаются протяжно и гулко. В зале разговаривали, звенели ложечками, по я не обращал на это внимания. Мечтая о мире безбрежном, Орлите на мыслей суку... Последние строчки стихотворения даже мой соперник Степан Алый считал новым достижением пролетарской поэзии. Мокрый, дрожащий от вдохновения, сошёл я с эстрады и сел рядом с Ниной. Она ласково посмотрела на меня. — Слово имеет Владимир Маяковский! — объявил председатель. Я даже вздрогнул от ужаса. Об остром языке поэта мне не раз приходилось слышать. -— Нина... — шепнул я, — Ниночка, что-то жарко здесь. Может, пойдём погуляем... — Что ты, Саша! Ведь Маяковский! Я приготовился ко всему. Высокий, широкоплечий поэт поднялся на эстраду. Голос его, казалось, едва умещался в маленьком зале. — Без меня тут критиковали мою «Мистерию», — сказал Маяковский. — Это уже не первый раз. В газетах появляются какие-то памфлеты. Плетутся какие-то сплетни. Давайте в открытую... А ну, дорогой товарищ, — обратился поэт к носатому журналисту, — выйдите при мне на эстраду. Покорите ваши наветы... Боитесь? Не можете? Косноязычны стали? Скажите «папа и мама». А ещё называетесь критик!.. Критик из-за угла. Вам бы мусорщиком быть, а не журналистом! Мне кажется, что я трепетал больше носатого критика. Теперь он перейдёт ко мне. Приближалась печальная минута — позор вместо триумфа. — Нина, — шептал я, — давай уйдём. Душно... И неинтересно. Но Нина только отмахивалась. Маяковский остановил свой взгляд на мне. — К сожалению, — сказал он, — я опоздал и не мог прослушать всей поэмы выступавшего передо мной очень молодого человека... «Вот оно, начинается... Всё кончено... Творчество... Слава... Любовь...» — Хочу остановиться на последних строчках поэмы, Орлите на мыслей суку... — что в переводе на русский язык значит: сидите орлом на суку мыслей. Неудобное положение, юноша! Неудобное и неприличное. Двусмысленное положение. Весьма... Испарина покрыла меня с головы до ног. Я боялся посмотреть на Нину. Маяковский заметил моё состояние и пожалел меня. — Ну, ничего, юноша, — примирительно сказал он. —-Со всяким случается. Пишите, юноша! Вы ещё можете исправить ошибки своей творческой молодости. Всё впереди. Я вышел из клуба опозоренный. Молча шагал рядом с Ниной, не решался даже взять её под руку. И всё же я не злился на Маяковского. Он обошёлся со мной лучше, чем Брюсов. И я решил, что пойду к нему, расскажу о своих творческих планах. Он примет меня, поможет, поддержит на трудном, тернистом поэтическом пути. 4 Вскоре я получил собственную комнату и покинул гостеприимного Изю Аронштама. С грустью расстался я с уютным зубоврачебным креслом. Комната моя помещалась под самой крышей большого дома. Койка и стол занимали её площадь почти целиком. Украшало комнату большое кресло красного дерева, которое я перенёс из своего служебного кабинета. Только одну ночь я творил в одиночестве в собственной комнате. На заре раздался стук в дверь. Я открыл и в изумлении застыл на месте. В дверях стоял Сен-Жюст. Премьер нашего Теревсата. Вениамин Лурье с мешком за плечами стоял на пороге. Я понял всё с первой минуты и ни о чём его не расспрашивал... Москва... Слава... Художественный театр... Станиславский... Мы зажили вдвоём. Я спал на койке, Сен-Жюст — на письменном столе. Впрочем, он больше не был Сен-Жюстом. Он стал Брутом. Он готовился поступить в студию МХАТа и рано утром начинал репетировать монолог Брута. С шести часов утра я вынужден был вникать в сложные взаимоотношения деятелей Римского государства. — Кто любил Цезаря больше меня?! — истерически кричал Лурье. Сначала эти громогласные вопросы мешали мне спать. Потом я привык и благодарил судьбу за то, что мой друг Веня Лурье — драматический актёр, а не оперный бас. Благодарил я, оказывается, рано. Судьба втихомолку ехидно готовила мне неожиданное испытание. Есть старая, известная сказка «Теремок»: «Терем-теремок, кто в тереме живёт?» — «Мышка-норушка, лягушка-квакушка. А ты кто?» — «Я — кот-котофей». Влезали в терем и кот, и собака, и всем находилось место. Сказка правдивая, взятая из самой жизни, особенно в двадцать первом году. Через три дня в наш «теремок» постучались. На пороге стоял наш земляк скрипач Пузис. Со скрипкой, с котомкой за плечами. Всё понятно. Москва... Консерватория... Слава... Паганини... Страдивариус... Пузис репетировал с восьми часов утра, после монолога Брута. Через пять дней я возненавидел музыку. А на шестой опять постучали в дверь. На пороге стаял наш друг и земляк виолончелист Пантюхов. В высоких чёрных валенках, с виолончелью и с чемоданом. Всё понятно. Москва... Симфонический оркестр... Слава... Большой театр... Шопен... Крейслер... Вильбушевич... Зажили вчетвером. Пантюхов репетировал вечером, с десяти часов. У меня стал дёргаться правый глаз, и музыканты старались не оставлять наедине со мной свои инструменты. Лурье спал со мной на койке, Пузис с Пантюховым — на письменном столе. Я напряжённо решал проблему, где я размещу липерскую хоровую капеллу, когда она вздумает приехать в «теремок». Поздно вечером, окончив работу, мы жарили лук на чугунной «буржуйке». Топили старыми газетами и, поочерёдно ложась на пол, раздували печку. Комната наполнялась дымом. Искры целыми созвездиями вздымались вокруг нас. Дым проникал в коридор, и почти каждый вечер комендант дома, собрав дворников, мчался к нам с вёдрами и огнетушителями, глубоко убеждённый в том, что рано или поздно большой, старый, многоквартирный дом будет сожжён дотла. А жили мы весело. Работали, писали, ходили в театр, принимали гостей. Было в нашей комнате и собственное «зрелище». Над дверью было когда-то ещё домовладельцем вставлено разноцветное расписанное стекло, наподобие витража. Когда мы гасили свет в комнате, оно освещалось лампочкой из коридора, и тогда казалось, что загадочные восточные фигуры двигались на стекле: женщины в японских кимоно, пажи, павлины с многоцветными хвостами... Какой-то далёкой, необычайной жизнью жило стекло над дверью в нашей комнате, и нам нравилось перед сном, погасив свет, следить за этой фантастической жизнью, придумывать разные истории про людей на стекле и мечтать о своей жизни, о своём будущем. Так вот и жили мы вчетвером в «теремке» — виолончелист, скрипач, актёр и поэт... Поэт?... Ни одно из моих стихотворении пока не появилось в московских газетах. Однажды я решил отправиться в ЦК комсомола. Работа в Росте (составление длинных отзывов о провинциальных газетах) мне наскучила. По комсомольской линии я работал в типографской ячейке и входил в бюро. Секретарём ячейки был мой старый друг Ваня Фильков, член Московского комитета комсомола. В Москве не выходила комсомольская газета, и я решил предложить ЦК свои услуги в этой области. Так посоветовал Ваня Фильков, не преминувший, впрочем, и при этом случае ехидно напомнить мне о... «Путешествии на Луну». Высокий белобрысый паренёк в отделе печати принял меня приветливо и сразу согласился с тем, что пора выпустить очередной номер газеты «Красная молодёжь». Последний вышел месяца три назад. С тех пор газета не выходила. — Некому, знаешь, выпускать. Найди ты где-нибудь в коридоре поэта Безыменского. Ему это дело поручено. . Вот и валяйте, — сказал он мне, точно старому знакомому. Я слышал о Безыменском и ещё в Липерске читал его первые стихи. После недолгих поисков я увидел на широком подоконнике в коридоре сутуловатого юношу с густой гривой волос. Наконец-то московский поэт с настоящим поэтическим видом! — Товарищ, — спросил я в упор, — ты Безыменский? Он не отпирался. В тот же вечер мы долго сидели в холодной комнате отдела печати и намечали план очередного номера газеты «Красная молодёжь». Номер посвящался борьбе с голодом в Поволжье. Мне очень хотелось написать поэму для этого номера. Её прочли бы и Брюсов, и Маяковский... Но Безыменский безапелляционно заявил, что поэму напишет он. А мне он поручил написать фельетон... о борьбе с холерой. Это показалось мне очень обидным. Поэзия — и вдруг холера! Но я привык подчиняться дисциплине, и потом уж очень хотелось мне увидеть своё имя напечатанным в московской газете. Дома всю ночь писал я фельетон о холере. Мне казалось, что получилось ярко и хлёстко. «...В жёлтом одеянии, с косой за плечами бродит зловещая старуха по поволжским дорогам... Старуха эта — холера...» Дальше шло образное описание её пути и художественно оформленные советы не пить сырой воды. Несомненно, никто никогда не писал о холере с таким пафосом и вдохновением. Утром я прочитал фельетон Вениамину Лурье. Он ничего не сказал, только заботливо потрогал мой лоб и тревожно покачал головой. А Безыменский отправил фельетон в набор, сократив его больше чем наполовину, выкинув особенно вдохновенные места. Через день вышел номер газеты «Красная молодёжь» на двух полосах. На первой шла поэма Безыменского, а на второй целый подвал занимал мой фельетон. Это был мой дебют в московской печати. Я вырезал фельетон о холере и в тот же вечер преподнёс его Нине Гольдиной: она ведь была медичкой. Я брал реванш за вечер в кафе «Домино». В день напечатания фельетона я получил извещение о том, что зачислен студентом январского набора Московского государственного университета. Начиналась учёба. Открывалась новая жизнь. УНИВЕРСИТЕТ В первые недели я не пропускал ни одной лекции, хотя посещать их в ту пору было необязательно. Занятия проводились вечером. Целый день я работал в редакции газеты, куда устроил меня Ваня Фильков, а вечером отправлялся на Моховую. И каждый раз, открывая массивную дверь, вступая под своды старинного здания, в саду которого стояли высокие фигуры Герцена и Огарёва, испытывал какое-то необычайное чувство благоговения и гордости. С каким почтением взирал я на старых, заслуженных профессоров! Апостольское благообразие Павла Никитича Сакулина, виртуозное красноречие Михаила Андреевича Рейснера — всё казалось мне захватывающе прекрасным. И я слушал все какие только мог лекции — и по своему, литературному отделению, и по отделению права (там читал Рейснер!), и даже по отделению статистики (академическая борода профессора Вихляева!). Я слушал, слушал, слушал... Исписывал целые тетради, стараясь не про пустить ни одного слова. Где-то они у меня до сих пор сохранились, эти старые толстые черновики в клеёнчатых рубашках — лекции Георгия Ивановича Челпанова, Петра Семёновича Когана, Владимира Максимовича Фриче... Лекции профессора Котляревского, и академика Богословского, и академика Орлова... Это была пора первой любви. Пора первого накопления знаний. Сколько было тогда сумбура в голове, сколько путаницы! Но я учился. Впервые по-настоящему учился. А по ночам жадно читал книги, толстые книги по истории литературы. Книги о Грибоедове и Сервантесе, о Пушкине и Мольере... Я перечитывал классиков — Тургенева, Толстого, Горького. Многие книги я открывал впервые. Я познакомился наконец с Франсуа Рабле; по-иному, чем в детстве, прочитал и полюбил лорда Байрона. Я спал по три часа в сутки. Мама, переехавшая ко мне, горестно смотрела на растущие стопки книг, которые заполняли всю нашу комнату, и тихо пододвигала стакан молока с толстым ломтём хлеба. О еде я, впрочем, никогда не забывал, поглощая изрядное количество бутербродов одновременно с духовной пищей. Всё проходит. Прошли и эти первые недели страстной любви к университетской науке. И уже во втором полугодии встали другие, организационные проблемы: как сдать зачёт, не прослушав курса? И уже ловили профессоров на дому, по дороге в университет, чуть ли не в театре. Особой славой пользовался студент, сдавший экзамен по энциклопедии права профессору Котляревскому на извозчичьей пролётке. Мы были молоды, восторженны, полны сил. Но чрезмерный труд изнурял и нас. Серьёзная работа днём, которая в наших редакционных условиях продолжалась и ночью, напряжённая учёба, к которой мы были совсем непривычны, и огромное количество всевозможных заседаний — это оказалось нелегко выдержать. Но мы не жаловались. Университет жил большой общественной, так называемой «внешкольной» жизнью. Клуб располагался в помещении бывшей церкви. И потолок, и клубные стены были расписаны всевозможными благолепными картинами из библейской жизни со странными изречениями, написанными причудливой славянской вязью. Рядом с ликами святых, ангелов и архангелов висели уже новые портреты, развешанные правлением клуба. В клубных комнатах расселились ячейки. Пестрели заголовки: ЯЧЕЙКА РКП ВНЕШНИКОВ. ЯЧЕЙКА ОЛЯ. ЯЧЕЙКА ЛКСМ ОПО И ОЛЯ Нежное имя «ОЛЯ» означало: отделение литературы и языка, наше отделение. И плакаты: ВЕЧЕР БЕЗЫМЕНСКОГО ПОЭТ ЧИТАЕТ «КОМСОМОЛИЮ» НОВЫЕ СТИХИ МАЯКОВСКОГО СЕМАШКО В БОГОСЛОВСКОЙ АУДИТОРИИ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ О ГИГИЕНЕ ДИСПУТ О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ В объявлениях отражался сложный и пёстрый быт университета, быт нашего факультета общественных наук — ФОНа. Внутрипартийная дискуссия в начале 20-х годов в университете протекала напряжённо и бурно. Нас, комсомольцев, на закрытые партийные собрания не допускали, но и до комсомольских собраний докатывались волны дискуссии. Ваня Фильков, секретарь нашей типографской ячейки и член Московского комитета комсомола, специально инструктировал меня по этому поводу. — Слушай, старик, — сказал он мне очень серьёзно.— Ты, конечно, состоишь в нашей рабочей организации и установки у тебя правильные. Но у вас там могут быть всякие вылазки и наскоки. Так что ты действуй... Говорить ты умеешь неплохо. Очень важно обеспечить наше влияние. В общем, мы, ленинцы, на тебя надеемся. Я очень гордился этим прямым поручением отстаивать ленинские позиции и быть среди университетской интеллигенции представителем рабочего класса. Я ещё не совсем ясно представлял себе, как буду отстаивать ленинские лозунги, но вспоминал, как обрушивался в Липерске на меньшевиков Василий Андреевич Фильков. А он всю жизнь оставался для меня образцом и примером. Однако на общем комсомольском собрании факультета я сначала растерялся. Я никак не думал, что оппозиционеры будут выступать так напористо. Какой-то большеголовый, тучный человек, пересыпая свою речь возмутительными нападками на руководителей партии, призывал комсомольцев освежить, как он сказал, «застоявшуюся» партийную кровь. Он заигрывал с нашими комсомольцами, подобострастно твердил о вечно передовой роли молодёжи. И приёмы красноречия, и интонации оратора напомнили мне Жоржа Жака Дантона из департамента Арси Сюр Об, печальной памяти актёра Владислава Закстельского. Я вспомнил свою роль в деле оправдания Дантона и густо покраснел. Острая злоба поднялась у меня против оратора. Нет, теперь он меня не проведёт! Демагогическая речь Ведерского — это была фамилия оратора — имела некоторый успех. Председатель, отметив его недопустимый тон, предупредил следующих ораторов. И тогда поднялся худенький чистенький юноша с белым отложным воротничком и пронзительным голосом начал выкрикивать: — Слова не даёте сказать!.. Аппаратчики!.. Рабочий класс скажет своё слово!.. Не за это боролись... В разных местах зала одновременно раздались аплодисменты, протестующие крики, свистки. В общем шуме трудно уже стало что-либо разобрать. Всё это совсем не походило на заседания нашей типографской ячейки. Но кто дал право этому юнцу говорить от имени рабочего класса? Он смеет говорить о борьбе! Когда и где он боролся, этот маменькин сынок?.. Моё возмущение росло с каждой минутой. Я тоже что-то кричал, я просил слова. В этот момент к кафедре вышел коренастый, плечистый человек в военной гимнастёрке с орденом Красного Знамени. Он поднял руку, и все затихли. Он говорил, не поднимая голоса, не прибегая ни к каким ораторским интонациям. Просто, задушевно беседовал со слушателями, убеждал их, как старший младших. Но делал это так, что нигде, ни в одной фразе, вы не ощущали его превосходства. Он ничего не навязывал, но его слова доходили до самого сердца; он рассказывал об истории партии, о Ленине и его учениках, о мудрости наших руководителей-ленинцев, о товарище Фрунзе, которого, оказывается, хорошо знал. Он приводил примеры из гражданской войны. Примеры эти были очень красочны и убедительны. Мне казалось, что я ещё никогда не слыхал подобной речи. А я ведь считал себя старым политическим деятелем. Его слова заставили комсомольцев глубоко задуматься, открыли самое главное. Юноша в белом воротничке пытался ещё что-то выкрикивать, но его не слушали. Прения вскоре закончились. — Кто был этот, с орденом? — спросил я товарища-однокурсника. — Как, ты не знаешь? — удивился он. — Это наш студент Дмитрий Фурманов, бывший комиссар дивизии. Мы познакомились в тот же день. С этого вечера Дмитрий Фурманов занял в моём сердце место рядом с Василием Андреевичем Фильковым. Он рассказывал мне о жизни, читал главы будущей книги (он работал тогда над «Чапаевым»), и я видел живых героев, радовался победам Чапая и тяжело переживал его гибель. Так впервые соприкоснулся я с настоящим, вдохновенным творчеством. Однажды в перерыве между лекциями я стоял у окна аудитории. Фурманов вошёл своей чёткой походкой (он редко посещал лекции, перегруженный работой). Я увидел необычайное волнение на его строгом, красивом лице. — Кончил, —сказал он мне. — Точно простился с любимым человеком. Я крепко пожал его руку. Через несколько дней Фурманов отнёс рукопись «Чапаева» в Истпарт. БЕЛОЧКА Мы называли её Белочкой. Была она маленькая, востроносая, быстроглазая, с большой, вечно спутанной шапкой светлых, льняных волос. Фамилия её была Белозёрова. Но, пожалуй, мало кто в нашей типографской ячейке комсомола звал её по фамилии. Да и по имени никто не называл. Я вот и сейчас с трудом вспомнил её настоящее имя: Екатерина. Как-то не подходило ей это имя. Белочка... Так её и звали. Такой она и осталась на многие годы для своих старых друзей. Ребята жили в типографии дружно. Днём стояли у реалов, у касс, у машин (Белочка была брошюровщицей), а вечером всегда собирались вместе. Каждый вечер что-нибудь бывало у нас: собрание комсомольской ячейки, или политкружок, или сбор пионерского отряда, или занятия по физкультуре. А если выпадал свободный вечер, мы шли гулять или смотреть новую кинокартину. — Комсомольский штаб пошёл, — усмехался, завидев нашу пятёрку, общий наш друг седоусый линотипист Балакин. Ваня Фильков был секретарём ячейки, Белочка— агитпропом, я — вожатым пионерского отряда, Серёжа Иванов, высокий, худой, веснушчатый наборщик, ведал экономработой. Пятый наш приятель не входил в бюро ячейки. Маленького смешливого толстяка фальцовщика Яшу Шапиро, забавника и фокусника, мы звали «Чарли Чаплин». Он глотал огонь, втирал в ладонь пятаки, отгадывал карты... Какие только вопросы не обсуждала паша пятёрка! Мы говорили и о лорде Керзоне, и о делах ячейки, и о воспитании детей, и о фильме «Красные дьяволята», и о последних стихах Жарова и Безыменского... Яша Шапиро знал наизусть огромное количество стихов и никогда не уставал читать их. Иногда после занятий политкружка мы заходили в пивную. Вопрос о том, можно ли комсомольцам пить пиво, неоднократно дебатировался нашей пятёркой. Большинство высказывалось «за». Выпивали, впрочем, немного, чтоб не пятнать комсомольской чести. Как-то засиделись мы в типографском клубе. Только что вышла книга Дмитрия Фурманова «Чапаев», и мы читали её вслух, напряжённо следя за героической жизнью Чапая, глубоко переживая гибель самоотверженного Петьки. Давно мы не читали таких книг. Даже Яша Шапиро притих и мечтательно смотрел в потолок. Я обещал ребятам привести автора в клуб. И они радовались, что познакомятся с таким человеком. В тот вечер мы долго не могли разойтись. Потом, как всегда, провожали Белочку домой. А жила она далеко, у заставы. Муж её (она была замужем уже второй год) иногда приходил за ней в клуб. По правде говоря, мы его недолюбливали. Он служил в райсовете фининспектором и никогда не интересовался нашими комсомольскими делами. И что в нём нашла Белочка?.. Впрочем, возможно, что я относился к нему пристрастно. Чего греха таить: я был влюблён в Белочку. Она сменила Нину Гольдину в моём сердце. Я никому не говорил об этом — и тем более ей самой. Но день, когда я не видел её, казался мне потерянным днём. Я ненавидел фининспектора и утверждал, что Белочка рано или поздно одумается, фининспектор — ошибка в её жизни, огромная, непоправимая ошибка. Непоправимая? Почём знать! Я мечтал... Мне было восемнадцать лет, и казалось, что это настоящая любовь. И вот мы провожаем домой Белочку. Она долго стучит в двери маленького домика. Не отворяют. — Спит фининспектор! — враждебно крикнул Яша Шапиро. Кажется, он так же ненавидит инспектора, как я. Это подозрительно. Наконец дверь приоткрылась, и мы услышали визгливый голос мужа: — Можешь идти туда, откуда пришла! Шлюха!.. Это нашу-то маленькую Белочку он назвал таким словом! Мы бросились к двери все вместе. Но она уже захлопнулась. Белочка, бледная, стояла перед нами. По лицу её катились крупные слёзы. — Мерзавец!—сказал Яша Шапиро. — Я побью ему все стёкла! — Надо сообщить в его ячейку, — мрачно вымолвил Ваня Фильков и решительно шагнул вперёд, словно именно теперь, во втором часу ночи, он собирался отправиться в эту ячейку. — Что же теперь делать? — спросил Серёжа Иванов. А я молчал. Я взял руку Белочки и слегка поглаживал её. — Он всегда так говорит со мной, — шепнула она мне. — Что мне делать, Сашенька? Что мне делать, ребята?.. И тогда тут же, у заставы, мы устроили летучее заседание бюро ячейки. Много лет прошло с тех пор, но я никогда не забуду этого заседания. Короткая летняя ночь уже кончилась, и полоса зари зарделась на горизонте, когда мы приняли решение. Я помню наизусть каждое слово: «Предложить члену комсомола Белозёровой уйти от мужа, терзающего её. Поселить Белозёрову в общежитии типографии». И ещё одно негласное решение было принято нами. Его мы утвердили позже, проводив Белочку до общежития и устроив её там. — Ребята... — сказал сурово Фильков, — ребята, мы принимаем ответственность за Белозёрову, то есть за Белочку. Ребята, ответственность коллективная! Честь комсомола на карте! (Он любил иногда говорить торжественно и цветисто.) И если кто из вас осмелится подкатиться к ней индивидуально, греть будем без пощады! Он пристально посмотрел на меня. Я густо покраснел. А Яша Шапиро тоже посмотрел на меня и глупо ухмыльнулся. — О чём речь, Ваня? — возмущённо сказал, подняв плечи, Серёжа Иванов. — О чём речь? А я? Я молчал. Мне нечего было сказать Ване. Мне стало очень обидно, но я понимал, что такое решение для меня — закон. С этого дня какая-то неловкость появилась в наших отношениях с Белочкой. Мы по-прежнему ходили все вместе, по-прежнему занимались и гуляли, по-прежнему все гурьбой провожали её до общежития. Но исчезла простота. Каждый из нас боялся взять её за руку, как, бывало, раньше, потрепать её спутанные волосы, остаться с ней наедине. Мы следили друг за другом. И от этого становилось тяжело. А я любил её ещё больше. И мне всё чаще хотелось нежно погладить её маленькую руку. Яша Шапиро совсем заскучал. — Сашка... — сказал он мне как-то, когда все разошлись, — Сашка, я, кажется, заболею от этого решения. Однажды нам прислали два билета в Большой театр на «Царскую невесту». Мы разыграли их по жребию. Билеты выпали мне и Белочке. «Это судьба», — подумал я. Кажется, никогда я не был так счастлив. Тут я увидел, что Ваня Фильков смотрит на меня тяжёлым, напоминающим взглядом. Я посмотрел на Белочку. Она заговорщически подмигивала мне. Она хотела пойти со мной в театр. Не впятером, а только со мной. — Сашка, — сказал Серёжа Иванов, — Оля Воронцова очень хочет пойти в театр. Уступил бы ты ей билет... — Будь джентльменом! — нехорошо улыбнулся Яша Шапиро. Я отдал билет Оле Воронцовой и быстро отвёл взгляд от потускневших глаз Белочки. И я впервые с ненавистью посмотрел на своих друзей. Белочка похудела, ясные глаза её стали огромными. Как бы мне хотелось остаться с ней наедине! Обнять её, шептать ей ласковые, простые слова. Мне казалось, что ей тягостно, что она одинока среди нашей пятёрки. Иногда она так умоляюще смотрела на меня, что мне хотелось всё бросить и бежать с ней вдвоём от наших друзей — от Филькова, Иванова и Шапиро. А может быть, я ошибался? Может быть, я неправильно понимал её взгляды? Но нам она никогда не жаловалась, и мы боялись расспрашивать её. Мы считали, что всё идёт как полагается, хотя каждый из нас чувствовал, что мы обманываем себя. ...И однажды вечером Белочка не пришла на заседание бюро. Не пришла она и в общежитие. Оля Воронцова, соседка Белочки по койке, передала нам маленькую записку. «Дорогие мои, — писала Белочка, — я вас очень люблю. Вы очень хорошие. Сеня обещал последний раз (записка писалась наспех, и здесь было что-то пропущено)... и мне тяжело так. И я вернулась к Сене. Не сердитесь, мои хорошие. Завтра увидимся. Ваша Белочка». В этот вечер мы ходили мрачные и подавленные. Переругались друг с другом. — Ну как, секретарь? — спросил Яша Шапиро. — Честь комсомола на карте или под картой?.. — И даже злоба послышалась в его голосе. — Дурак! — крикнул Фильков. — Ты просто дурак, Шапиро! Но я видел, что Ване невесело. А я ничего не сказал. Я махнул рукой, взял Белочкину записку, — никто не отнимал её у меня, — и молча ушёл. Стало очень горько и ни о чём не хотелось говорить. Мне было только восемнадцать лет, и казалось, что я потерял своё счастье. КРЕСТИНЫ 1 Ваню Филькова избрали секретарём райкома комсомола. Он хотел меня тоже перетянуть в райком на должность заведующего агитпропом, но не отпустила редакция газеты, где я уже руководил отделом. Тем не менее план культурной работы среди молодёжи района мы разрабатывали вместо. План этот носил у нас громкое название: культурная революция в районе. Отзвуки этой культурной революции ощущались уже повсеместно. Заведующий районным клубом Яша Шапиро приказал всем раздеваться внизу, у вешалки. В клубный зал и комнаты кружков не пускали никого в верхней одежде. Не пустили в пальто даже самого агитпропа райкома Петю Куприянова. Это событие вызвало целую сенсацию в ячейках. Яша Шапиро пошёл ещё дальше. Он разрешил курить только внизу, в вестибюле. Тут уж, конечно, не обошлось без пререканий и боёв. Но Шапиро проявил непреклонность. По его просьбе я даже написал текст плаката, водружённого в фойе клуба под портретом Луначарского: Будем культурными в квадрате и в кубе — Ни одного окурка в клуби! Яша говорил, что текст бросок, выразителен и понравился бы самому Маяковскому. Культурная революция развёртывалась на глазах. Появились уже отдельные комсомольцы в галстуках, и никто не ставил о них вопроса на бюро, хотя мы с Ваней Фильковым принципиально ходили ещё в косоворотках и кожаных куртках. В нашей дружеской компании тоже произошло событие: Белочка родила фининспектору сына. Несмотря на старую неприязнь к отцу будущего пионера, мы решили ' это событие широко отпраздновать. Я предложил Филькову и Шапиро провести в клубе комсомольские крестины. В нашем районе подобных мероприятий ещё не проводилось, мы являлись новаторами. Сценарий крестин разработали тщательно. Но, как сказал великий писатель: «Гладко писано в бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить». Первым оврагом оказался сам фининспектор. Он встретил нас (меня, Иванова и Шапиро) в штыки. Оказывается, он не забыл ещё о наших методах воспитания Белочки. — Когда у вас родится сын, — сказал мне язвительно фининспектор, — тогда вы будете устраивать это представление. А мне никакого цирка не нужно. С трудом сдерживая себя, мы доказывали фининспектору (кстати, его звали Семён Николаевич, и он оказался потом вовсе не таким плохим парнем), что надо бороться с подобными мещанскими взглядами, что это мероприятие всколыхнёт весь район и поможет нам поднять комсомольскую работу... — Для вас это мероприятие, — хмуро отбивался Семён Николаевич, — а для меня это сын. Помощь пришла оттуда, откуда мы меньше всего её ждали, — из второго оврага, который преграждал нам дорогу. Мать Белочки, долго молча прислушивавшаяся к нашему спору (сама Белочка ещё лежала в родильном доме), вдруг сказала, теребя концы тёмного платка на груди: — А Митюшку я всё равно без купели не оставлю. Мы оторопели. У старой комсомолки Белозёровой оказалась такая несознательная мать! Изумился и сам Семён Николаевич. — Ну уж это вы, мамаша, оставьте! — сказал он сердито. — Какая там купель! Это пережитки. Тут мы взялись за них обоих. Серёжа Иванов, как старый антирелигиозник, не пропускавший ни одного диспута между Луначарским и протоиереем Введенским, произнёс целую речь и совсем заговорил бабушку. Она ничего не могла возразить и просто сбежала с поля боя. А инспектор сдался. Он в конце концов понял, что комсомольские крестины — это не только мероприятие, но настоящий новый праздник, вместо церковной службы и всех ветхозаветных и, между прочим, вредных для ребёнка церковных фокусов с купелью и всякой святой водой. В тот же день мы наведались к нашей Белочке, принесли ей апельсины, лимоны и конфеты для новорождённого пионера. К роженице (так её здесь называли) нас, конечно, не пустили. Написать о комсомольских крестинах мы ей не решились, так как с некоторых пор Белочка недоверчиво относилась к нашим коллективным замыслам. Ребёнка нам, несмотря на настойчивые просьбы Яши Шапиро, тоже не показали. — Мы же должны заранее знать, с кем мы будем иметь дело! — настаивал заведующий клубом. Узнали мы только, что роженица чувствует себя бодро, очень благодарит нас за внимание, а мальчик уже совсем сознательный, хорошо кушает и весит три с половиной килограмма. — Всё-таки неплохо, что пришли, — утешался Яша Шапиро. — Это было вроде разведки. 2 Крёстным отцом назначили меня. А крёстной матерью подругу Белочки — брошюровщицу Олю Воронцову. Большой стол на сцене обтянули красным сукном. На столе разложили подарки. И чего только не принесли наши комсомольцы! Белое плюшевое пальтишко с капором и маленькие лакированные сапожки. Резинового надувного зайца и барабан с палочками. Целый набор сосок и большую картонную лошадь. Пионеры преподнесли новорождённому «Конструктор» — ящик со всякими металлическими деталями и сложными чертежами. А Мика Фильков от себя лично принёс коробку с шариками для мозаики. Этот подарок вызвал наибольший испуг молодой матери. — Уберите немедленно! — сказала она. — Он ведь ещё в цветах не разбирается, а шарики всё поглотает. Но больше всех отличился Яша Шапиро. Он принёс... коньки. — Ничего! — доказывал он под общий хохот. — Это знаменитые коньки, которые завоевали мне первое место в районе. А он скоро подрастёт и ещё будет меня благодарить. Женотдел районного комитета партии тоже прислал подарок: всякие там распашонки и пелёнки. Видно, в женотделе сидели понимающие люди. А райком комсомола преподнёс красивую и лёгкую коляску. Увидев такое обилие подарков, даже бабушка смягчилась. Мы с трудом уговорили её прийти на праздник. — А я думала, — сказала она примирительно, — что у вас одно баловство будет. А кто же у вас заместо попа? «Заместо попа» был секретарь райкома комсомола Ваня Фильков. Он пришёл в новом пиджаке поверх синей шёлковой косоворотки, затейливо вышитой мелкими крестиками. Родителей усадили рядом с ним. Семён Николаевич, строгий и молчаливый, всё время поправлял, видимо, непривычный длинный галстук какой-то необычайной светло-сиреневой раскраски. Белочка в красивом голубом платье с кружевным воротничком (общий подарок нашей четвёрки старых друзей) смущённо и застенчиво улыбалась. На руках у неё в красном стёганом конверте покоился главный виновник торжества. Бабушка на сцене сидеть категорически отказалась, и мы устроили её в первом ряду. Клубный зал был сплошь уставлен скамейками и всевозможного вида и назначения мебелью, пригодной для сиденья. На задней стене висела гордость клуба —огромная, во всю стену, картина собственного районного художника Васи Голубцова: броненосец, матросы, чайки. Казалось, морские волны, написанные густой синей краской, вот-вот плеснут со стены в зал. Зал был переполнен. Даже броненосец скрылся за прочно налегающими на стену спинами. Среди весёлых, смеющихся юношеских лиц — несколько пожилых, морщинистых, насторожённых. Кое-кто из стариков тоже заинтересовался нашими крестинами. Ваня Фильков встал, и сразу наступила тишина. Замолкли даже самые заядлые шутники и острословы. Видимо, во всей этой необычной церемонии коренилось что-то такое, что трогало каждого, хотя большинство сидящих в зале не имели детей. Ваня громко и торжественно от имени райкома комсомола объявил комсомольские крестины открытыми. Он поздравил молодых родителей — в частности, комсомолку нашей ячейки Екатерину Белозёрову — от своего имени и от имени всех комсомольцев района. Яша Шапиро сыграл туш на старом, дребезжащем пианино, помнившем ещё годы русско-турецкой войны. Потом слово получил комсомольский крёстный отец, то есть я. По разработанному мною церемониалу, крёстная мама, Оля Воронцова, взяла у настоящей мамы, у Белочки, героя дня и передала его мне. Герой дня, вынутый из тёплого конверта, закутанный только в байковое одеяльце, мирно посапывая, спал. Всё происходящее вокруг пока мало тревожило его. Он и думать не мог о той выдающейся роли, которую играет сегодня в жизни нашего района. Я с некоторой опаской принял младенца. Мне ещё никогда не приходилось держать на руках таких маленьких ребят. Неловко обняв его обеими руками, прижимая к груди и ощущая на своём лице нежное детское дыхание, я шагнул к авансцене и начал свою детально продуманную речь. Я сказал: в нашу семью вступает новый молодой гражданин трёх с половиной килограммов весом, такое событие нужно праздновать без старых церковных, религиозных предрассудков, а в общем дружеском коллективе. Мальчик будет жить в счастливом мире, без царя и без городовых. И вообще, может быть, он будет знаменитым учёным или великим писателем. И мы тогда вспомним этот знаменательный день, который является символом нового быта... Я хотел сказать ещё о многом. В пылу вдохновения я шагнул вперёд, качнулся и еле удержался, чтобы не упасть в публику. Меня сразу прошибла испарина. А молодой гражданин проснулся и, не соблюдая регламента, заговорил довольно пронзительным и резким голосом. Я почувствовал, как повлажнела моя косоворотка. Очевидно, будущий великий писатель совершил не предвиденный церемониалом поступок. И Белочка, и Оля Воронцова встревоженно рванулись ко мне. А из зала, спотыкаясь о ступеньки, кинулась на сцену бабушка. Я совсем растерялся. Прекрасно подготовленная речь была сорвана. Я стоял красный, взъерошенный, смущённо и глупо улыбался и не знал, как продолжать торжественную церемонию. Ваня Фильков тоже ничем не мог мне помочь. А зал уже давно взорвался бешеным, неуёмным добрым, сочувственным смехом. Мы тоже не выдержали и засмеялись вместе со всеми. Впрочем, знаменитого учёного перепеленали, и он быстро успокоился. Мать, правда, отказалась уже доверить его мне или даже Оле Воронцовой. И вообще младенца надлежало кормить (это обстоятельство тоже не предусмотрели в сценарии), а следовательно, надо было закруглять торжество. В заключение выступил маленький октябрёнок нашего пионерского отряда — Мика Фильков. Он сказал, что октябрята пятьдесят пятого краснопресненского отряда берут шефство над новым маленьким человечком. Мика отцепил свою октябрятскую звёздочку и прикрепил её к одеялу младенца. И ещё он сказал, что родители должны будут докладывать на звене октябрят, как растёт малыш и что ему нужно. А так как папа и мама мальчика очень заняты, то эта нагрузка возлагается на бабушку. Это Мика придумал уже сам, никаких таких поручений отряд ему не давал. Младенец никак не реагировал на столь значительным поворот своей судьбы. Но бабушка растрогалась. Она влажными глазами смотрела то на нас, то на Мику, то на своего внука и всё время вздыхала, поднося ко рту маленький кружевной платочек. А Ваня Фильков высоко поднял брата, посадил на широкие свои плечи и запел: Вперёд, заре навстречу, Товарищи в борьбе! В зале подхватили припев любимой песни. Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян! Яша Шапиро нещадно истязал пианино. Пели все, пел даже я, немилосердно фальшивя. И несознательная бабушка шевелила тонкими, высохшими губами. Только будущий знаменитый учёный крепко спал на руках своей мамы, точно в собственной спальне. Крепко спал и сладко во сне улыбался. Песня не тревожила его. Он начинал привыкать к общественной жизни. ДОКЛАДЧИК 1 В плане «культурной революции», составленном мною и утверждённом секретарём райкома комсомола, большое место занимала борьба с мещанскими предрассудками. Я взялся сделать основной доклад в районном клубе: «О культуре и мещанстве». Эта сложная тема очень привлекала меня. Всего несколько лет прошло с того дня, когда я делал доклад о культуре в «красном зале» Дресленского ревкома. А сколько воды утекло! И какой воды! Я вспомнил трагические события тех дней. Смерть Василия Андреевича Филькова... Сжалось сердце... Потом всплыли в памяти стихи, написанные в челноке, на границе, комиссар Особого отдела, золотые кувшинки... И я невольно улыбнулся. Каким я был тогда молодым и неопытным! Правда, и теперь, поручая мне доклад, Ваня Фильков, смеясь, погрозил пальцем и предупредил: «Только, теоретик, смотри без фокусов... без путешествий на Луну...» Об этой несчастной луне, кажется, он будет напоминать мне до самой смерти. Однако в предстоящем докладе можно развернуться вовсю и показать свою «образованность». Всегда при подготовке к докладам я доставал десятки разнообразных книг, отчёркивал цитаты, отделял закладками, делал выписки. Случалось, во время доклада закладки выпадали, и я долго, безнадёжно искал нужные места. Как-то в одном выступлении на активе я хотел процитировать басню «Квартет» и, переписав текст, положил его в тетрадку с тезисами. Товарищи давно уже подтрунивали над моим пристрастием к литературным цитатам: «Ничего не поделаешь... Поэт...» «Всем, товарищи, известны слова знаменитого баснописца Ивана Андреевича Крылова... — начал я, искоса взглянул в тетрадку с тезисами и убедился, что текст куда-то исчез. Покашливая, я уже не так бодро повторил: — Всем, товарищи, известны слова Крылова из басни «Квартет»... А текста, как на грех, не было. И слова я сам позабыл. В зале послышались смешки... Я с большим трудом выпутался из неловкого положения. А фраза моя «Всем, товарищи, известны» долго была притчей во языцех среди комсомольцев. В клуб я явился с портфелем, разбухшим от книг. В ожидании доклада комсомольцы гуляли в фойе, вокруг двух колонн и массивной бронзовой фигуры Посейдона со свеженакрашенным значком КИМа на груди. Вдвоём, втроём, плотно заложив руки друг другу за спину, прогуливались ребята и девчата, судачили, пересмеивались... О чём только не говорят в комсомольском клубе, прогуливаясь по залу в ожидании докладчика! Клубный Посейдон — старинного происхождения. Пожалуй, по стажу он значительно старше даже пианино. Собственно, имя мрачного деда с длинной курчавой бородой и нависшими бровями открылось сравнительно недавно. Прочитав книжку об античных мифах, Яша Шапиро с несомненностью установил, что стоящий не первый год в клубном зале неизвестный бронзовый старик — не кто иной, как Посейдон. Тот же Шапиро рассказал ребятам, что в старину Посейдон заведовал морями. И вот 16 октября 1923 года, в годовщину принятия комсомолом шефства над морским флотом, кистью Васи Голубцова на могучей бронзовой груди Посейдона был изображён огромный ярко-красный «КИМ»... Минуя Посейдона, я прошёл через фойе на сцену. У самых дверей, среди знакомых комсомольцев, стояла Белочка. Мне показалось, что она как-то особенно тепло посмотрела на меня. Пора начинать. Зал бурлит песнями. И песни — словно льдины в половодье: сшибаются одна с другой, разбивают друг друга, иногда сливаются вместе и дальше гуляют по залу. Весело в клубе перед началом доклада, когда после работы собираются со всего района комсомольцы... К столу президиума выходят Ваня Фильков и агитпроп Петя Куприянов. За ними я торжественно волочу свой портфель-чемодан. Петя Куприянов — балагур, лихой запевала и баянист, общий любимец района. — Здорово, Петь! Агитпропу привет! — шумят ребята. — С опозданьицем вас! Но Петя сегодня серьёзен. Он долго бьёт пробкой о графин, пока наступает тишина. Правда, неспокойная, сомнительная, как тонкий ледок, под которым, грозя прорвать его, ходят волны. Но — тишина. — Слово для доклада «О культуре и мещанстве» имеет товарищ Штейн! Я начинаю извлекать из портфеля и раскладывать на столе принесённые книги, вытаскиваю из многочисленных карманов тезисы и заметки. Когда всё чинно разложено, с ужасом обнаруживаю, что главной книжки, с цитатами Ленина, нет. Забыл дома... Иванов и Шапиро сидят по обе стороны Белочки в первом ряду. Они видят моё замешательство... кажется, понимают его причину и ядовито скалят зубы. Надо начинать. Я набираю воздуху и бросаюсь вплавь... Тезисы, гладкие, спокойные тезисы, цитаты — всё перемешивается. Сначала говорить трудно: нет зацепки. Со всех сторон — пытливые, внимательные глаза. Но вот я уже поборол первое смущение. Говорю легко, с подъёмом, задором и даже сам с удовольствием прислушиваюсь к своим словам. Внезапно я вижу, что в дальнем углу, у самого Посейдона, сидит фининспектор, Семён. Николаевич, муж Белочки, и насторожённо слушает меня. Его присутствие почему-то неприятно мне. На мгновение падает сердце, но я сразу беру себя в руки. Я говорю о влиянии старого быта, о нашей некультурности, о том, что в нашей среде подчас неправильно понимают мещанство. Вот, например, считается правилом хорошего тона хлопнуть девчонку по спине так, чтобы потом три дня помнила (в этом месте рябь приглушённых смешков пробегает в тишине зала); я с негодованием обрушиваюсь на комсомольский жаргон и сам не замечаю, что жаргонные словечки проскальзывают и в моём докладе. — Как мы понимаем мещанство? Вот, скажем, парня в галстуке зовём мещанином. Буза! Не в этом мещанство. Вот что сказал, например, товарищ Сольц... (цитата). А вот что товарищ Смидович сказала... (опять цитата). А вот что Ярославский написал... Порою я путаю то, что сказали известные деятели, с собственными мыслями. Но речь льётся гладко. И вокруг тихо... И никто не выходит... Вот удивительно!.. А Белочка не отрывает от меня глаз. Это подстёгивает меня, вдохновляет и волнует. Я начинаю говорить вес быстрее и быстрее. (Ваня Фильков подбрасывает мне сбоку записку. Читаю, не прерывая доклада: «Не будь пулемётом». Чуть замедляю темп.) Перехожу к половому вопросу. (Бросаю взгляд на инспектора. Каково?.. Семён Николаевич бесстрастно слушает. Его отношение к докладу определить трудно.) Продолжаю бомбардировку зала цитатами. — Да, мы не аскеты... Мы против буржуазной морали. Но с половой распущенностью бороться нужно. Вот Ленин говорил: нельзя это как стакан воды выпить. Сегодня с одной гуляешь, завтра — с другой... Чувствую, что накал зала всё усиливается. Даже Иванов и Шапиро перестали перешёптываться. А Белочка сидит не шелохнувшись. Внезапно она срывается с места и, неловко пробираясь между рядами, уходит. Что такое?.. Моё настроение портится. Через голову летят записки. Тьма записок. Их собирают Фильков с Куприяновым, складывают ровной стопочкой. Ещё одна цитата, ещё одно доказательство... Конец. Сажусь, вытирая обильный пот, и вспоминаю, что забыл привести один важный, очень важный пример. Ну да ладно... Хлопают сильно. Инспектор куда-то исчез. Перерыв. Фильков одобрительно похлопывает меня по плечу. Куприянов отпускает какую-то шутку. Шапиро угощает леденцами. Где же Белочка? Я не выхожу в фойе — разбираю записки. На чём только не пишутся записки в комсомольском клубе! Листочки из школьных тетрадей, узкие газетные гранки, коричневая обёрточная бумага, обрывки журналов. Вот неровным, детским почерком: «Объясните, что такое культура и мещанство...» А вот другая (похоже, что это рука Оли Воронцовой) : «Товарищ докладчик, как девчата должны одеваться: по-ребячьему или как девушке ходить надлежит». Много записок — и всё разные. А иногда аккуратно свёрнута бумажка, и кажется, что в ней главный вопрос. А в записке: «Прошу прекратить курить...» Записка, свёрнутая трубочкой: «Галстук — это мещанство или нет?» И рядом укоризненная: «Ты вот о галстуке говоришь, а у нас второй разряд — не разживёшься. Куда тут галстук!» (Это из фабзавуча.) Попадаются и такие записки: «Не только ведь политучёба нужна, а что ещё? Скажи!» Несколько записок, сложенных треугольниками. Написаны как будто одной рукой: «Чем отличается дружба от любви?», «Может ли парень просто (жирно подчёркнуто) дружить с девушкой?», «Что такое любовь и как с ней быть?» А вот записка на крышке папиросной коробки. Многие слова написаны, перечёркнуты, написаны вновь: «А если любишь девушку, а нет комнаты, чтобы жить вместе, тогда как?» В отдельной горке записки, касающиеся лично меня. На них я отвечать не собираюсь. «Товарищ докладчик, расскажи о себе. Любишь ли ты?» «Уважаемый Саша. Я могу дать вам интересный материал. Если хотите, после собрания подождите у Посейдона... Одна комсомолка». (Однако, кто бы это мог быть?) Последняя записка, короткая и категорическая: «Предлагаю сегодня же начать стать культурными». Обсуждение моего доклада получилось очень коротким. Проблемы, поднятые в докладе, взволновали всех: об этом свидетельствовали многочисленные записки. Но говорить о своих личных делах стеснялись, а отделываться общими словами, видно, никому не хотелось. Яша Шапиро говорил, конечно, о развёртывании клубной работы. Петя Куприянов — о политучёбе. Из рядовых комсомольцев выступил только худой веснушчатый наборщик Миша Зязин, выступил со своими сомнениями и обидами. Его, видно, поразили мои слова о «стакане воды». — А вот, например, — сказал он угрюмо, — Вася Сухов тоже женился, свадьбу даже комсомольскую устроили. Здорово это всё вышло. Все ребята были. В газетах даже писали. А через два дня ушёл. Член райкома. Активист. Вот тебе и комсомольская свадьба! И новый быт... Сам Вася сидел за кулисами. Фильков предложил ему сказать своё слово, объяснить. Но он не решался: очень стыдно. И потом, не скажешь так, как надо. Ещё пуще засмеют, да и не поймёт никто. Так он и просидел до конца вечера. А когда решился наконец выступить, мне уже предоставили заключительное слово, и Вася облегчённо вздохнул. Перебирая записки, я опять оглядел зал. Инспектор исчез. Это обрадовало меня: говорить стало легче, словно ушли посторонние и остались только свои ребята. Однако я испытывал сильную усталость. Довольно вяло ответил я на записки. Слова подвёртывались стёртые, казённые. Говорил об общих задачах, о том, что нужно уметь увязать свою личную жизнь с общественной, уметь иногда сдержать себя, переделать, переломить. Конец речи мне самому показался штампованным, натянутым и бледным. Но раздались дружные хлопки. А в дверях... показалась Белочка, и я едва не рванулся к ней прямо со сцены. Пришла всё-таки! Пришла... Ну и что же? А я-то думал, что она навсегда потеряна для меня! А что, разве это не так? «Чему ты обрадовался, старый дурак? — сказали бы мне Иванов и Шапиро. — Ты забыл, что у неё семья? Что у неё инспектор... и сын... Твой крёстный сын...» Однако доклад, видимо, всех задел за живое. Диспут окончен. Не хочется расходиться. Яша Шапиро затевает танцы. Вокруг старика Посейдона кружатся пары. И опять дребезжит старое пианино — вот-вот развалится, и не будет больше в клубе свидетеля зарождения комсомольской организации в нашем районе. Как хорошо хлебнуть чистого морозного воздуха, выйдя из душного клуба! Весёлой гурьбой высыпали ребята на улицу. Смех так и ходит волнами. А чуть кто всей пятернёй ударит девушку по спине, — сразу вспомнит: нельзя. Докладчик говорил. Но иной раз трудно удержаться, чтоб не хлопнуть, — руки привыкли. Как приятно пройтись с друзьями но хрустящему снегу! Несомненно, после доклада мои авторитет в районе значительно поднялся. Но мне не хочется, чтобы кто-нибудь подумал, будто я важничаю. Я хочу, чтобы меня считали не только авторитетным, но и «свойским» парнем. Как жаль, что я не умею играть на баяне, как Петя Куприянов! Ко мне пробиваются старые друзья — Иванов и Шапиро. С ними Белочка. — Сашка... а Сашка! — балагурит Шапиро.— Докладчик ты мой замечательный!.. Ребята, докладчик мечтает... По заснеженным улицам выходим к Москве-реке, где-то за Крымским мостом. Глубокими сугробами лежит снег. Сегодня полнолуние. Кое-где сквозь снежный покров поблёскивает прозрачно-зеленоватый лёд. Луна заглядывает в прорубь и отражается в спокойной синей воде. Кажется, что вода нестерпимо холодная, и от одной мысли о ней сводит руки. Хорошо стоять на мосту и смотреть вдоль белой реки — туда, где она сливается с небом и причудливые большие тени стелются по снегу... Особенно хорошо, когда рядом Белочка. Я уже не чувствую себя докладчиком районного масштаба. Мне хочется вместе со всеми смеяться, кувыркаться в снегу, петь песни, играть в снежки. Здесь, над рекой, песня звучит совсем по-иному, чем в клубе: она будто звенит об лёд, и гуляющие над рекой ветры подхватывают её и уносят вдал:ь. И хочется, чтобы она полетела туда, где мерцает на берегу костёр и, быть может, тоже собрались ребята и поют такие же песни. Как-то невольно вышло так, что мы с Белочкой отстали. Пропали и Шапиро с Ивановым. Рассеялись по берегу ребята, и мы совсем не стремились догонять их. Я чувствовал, что со мной творится что-то неладное. Только что я смеялся, пел, как всегда перевирая мотивы, острил, и вот сразу замолчал... Я сжимал в руке маленькую руку Белочки в мягкой варежке, смотрел без конца в её глаза, опушённые инеем ресниц, точно я впервые увидел нашу Белочку. Да, пожалуй, я и действительно впервые остался с ней наедине — без Филькова, Иванова и Шапиро. — Куда ты исчезла во время доклада? — спросил я хриплым голосом. — Так я же бегала кормить Митюшку! — словно удивилась она. Митюшка... Мой крестник... Я сразу выпустил её руку. И я вспомнил, как инспектор Семён Николаевич сидел рядом с Посейдоном, холодно слушая мой доклад. И как же я мог забыть об инспекторе Семёне Николаевиче? Мы молча пошли домой. Я уже не решался взять её под руку. Часы на площади показывали одиннадцать. — Что же, — сказал я с горечью, — тебя, очевидно, ждут дома... Опять пора кормить. И муж сердится... — Зачем ты так, Саша! — прошептала она. И сама взяла мою руку. Я чувствовал, что нехорошо разговариваю с ней. Только что она мне казалась такой родной и близкой... Мы подошли к моему дому. Она зашла за «Неделей» Либединского. Я давно обещал ей эту книгу. Лунный свет заливал пустую комнату. (Мама ночевала сегодня у заболевшей соседки.) В стёклах буфета отражался, как в проруби, китаец на большой фарфоровой сахарнице. Он ухмылялся, поблёскивая зубами. Я нашёл книгу и протянул её Белочке. Присели на диван. Как-то вдруг совершенно иссякли темы для разговора. Мы сидели совсем близко друг к другу. Я взял её руку, такую тёплую и мягкую. Легонько поглаживал её, чувствуя, как жаркая волна подступает к сердцу, туманит мозг... — Саш... а Саш... Брось... У меня ведь семья... Муж... Слова шли мимо сознания. Да ведь она и сама не уходила от меня. ...Неожиданно в коридоре послышались шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вошёл Ваня Фильков. (Я совсем забыл, что пригласил его сегодня ночевать ко мне.) Ваня включил свет. — Что в темноте сидите, черти?.. Увидев смущённые лица, он застыл на пороге. — А-а... Извините, не вовремя пришёл. Ай да Сашка! Ай да теоретик! Он собрался тут же уйти, но Белочка вскочила и подбежала к нему: — Я домой пойду. Поздно уже... Проводи меня домой. Ваня вопросительно и неприязненно посмотрел на неё, на меня, опять на неё. — Ну что же... домой так домой. Они ушли. Она позабыла даже взять «Неделю» Либединского. А я долго стоял у окна и рисовал пальцем узоры на замороженном стекле. ...Ваня пришёл через час. Я ждал от него упрёков, насмешек. Я бы мог ему сказать в ответ мною незаслуженных, резких слов. Ваня медленно разделся. Посидел, помолчал, потом провёл рукой по моим волосам, как старший брат. И до боли приятной была эта неожиданная ласка... — Ничего. Не падай духом, Сашка. Неладно у тебя, правда, получилось... Хорошо, что я вовремя пришёл. Путаем мы ещё это. Многие большие дела умеем, а здесь... — Ваня обычным своим жестом повертел в воздухе пальцами. — Горб у нас в этом месте, вот что... Эх ты, докладчик!.. ...Заснули под утро. Я спал плохо. Снились мне Белочка... фининспектор Семён Николаевич... Потом внезапно вошёл Василий Андреевич Фильков, отец Вани. Он остановился у моей кровати со стаканом воды в руке и укоризненно поднял палец. Потом Василий Андреевич стал расти и превратился в клубного Посейдона. ...А из кармана моего пиджака, висящего на стуле, высовывались тезисы доклада «О культуре и мещанстве». ГОРЕ ...И вспомнится тогда не матерь санкюлотов, Несущая сама винтовку и плакат, А та, кому страшней, чем сто переворотов, Что непослушный сын не выпил молока... А. Безыменский . Моя мать была всегда далека от религии и от политики. Когда я стал «политическим деятелем» и целые дни, а то и ночи проводил вне дома, она сильно беспокоилась. Правда, гордилась мной, моими успехами, «положением» в обществе, но в то же время очень боялась за меня. Когда я уехал из города на работу в уезд, уезд пограничный и неспокойный, она обняла меня, крепко поцеловала и, тоскливо глядя своими близорукими добрыми глазами, сказала: — Теперь, Сашенька, я уже совсем потеряла по- кой... — Украдкой вынула платочек и приложила к глазам. — И почему это мне такое счастье выпадает? Всегда тебе больше других надо! Вот Изя Аронштам... Учится. Кончит школу, потом университет, доктором будет. А ты!.. — И она безнадёжно махнула рукой. Но я прекрасно знал, что она никогда не променяла бы меня на Изю Аронштама, а в глубине души одобряет меня и мои поступки. — Знай только, Сашенька, — добавила она:— без тебя для меня жизни не будет. Она стояла на липерском вокзале, маленькая, грустная, одинокая. Я крепко-крепко обнял её и, лёжа на жёсткой вагонной полке, вспоминал, как она вернувшись из школы, после долгого и нелёгкого учебного дня, ходила, ещё по частным урокам, чтобы я ни в чём не чувствовал лишений. Когда я окончательно обосновался в Москве, перевёз к себе маму. Сестра к тому времени окончила Педагогический институт и учительствовала на Урале. Товарищи мои по «теремку» получили уже собственную жилплощадь, и в комнате стала хозяйничать мама. Сильные невралгические боли в пояснице и ногах сделали её затворницей. Она почти не спускалась вниз с нашего пятого этажа, и я служил для неё единственной связью с внешним миром. ...Осенью 1922 года наша ячейка получила несколько билетов на пленарное заседание Московского Совета в Большой театр. Предполагался доклад Совета Народных Комиссаров. Кто будет делать доклад — не знали. Владимир Ильич ещё не поправился после болезни, и присутствие его на пленуме не ожидалось. В огромном, переполненном зале Большого театра было шумно. Встречались знакомые, обменивались новостями, толковали о делах мировых и делах насущных. Мы, как имевшие некоторое отношение к прессе, пробрались в оркестр и оттуда смотрели на членов правительства. Они рассаживались на сцене за столом президиума, прямо перед нами. Ровно в шесть часов председатель поднял блестящий звонок, призвал к спокойствию, открыл заседание и, после многозначительной паузы, торжественно объявил: — Слово для доклада имеет председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ульянов-Ленин! Невозможно передать, что произошло в зале. Сотни людей оглушительно били в ладоши, кричали, восторженно стучали ногами. А Владимир Ильич незаметно появился откуда-то сбоку, быстро прошёл к кафедре и, протянув руку, тщетно старался успокоить бушующее море. Я впервые увидел Ленина. Я хотел что-то записывать и не мог. Он стоял совсем близко, прямо передо мной. Я боялся пропустить хоть один его жест, хоть одно слово. И всё же потом, когда я вспоминал об этих минутах, мне всегда казалось, что я упустил какие-то единственные, неповторимые детали. Ленин казался мне не похожим на многочисленные портреты. Но я бы не сумел описать его внешность. Он мне представился совсем простым, понятным и добрым. По-моему, я даже не хлопал в ладоши и не кричал вместе со всеми — так я был поглощён созерцанием Ильича. А когда опомнился и начал рукоплескать, зал уже затихал. Владимир Ильич говорил о социализме. Именно в этой своей речи он произнёс исторические слова: «Из России нэповской будет Россия социалистическая». И я сам слышал эти ленинские слова. Я видел его вдохновенное лицо, когда он эти слова произносил. Я не мог оставаться в театре после речи Ленина, не мог ни с кем говорить, ни с кем делиться впечатлениями. Убежал домой. Мама увидела моё состояние, но ни о чём не расспрашивала. — Мама, я слышал Ленина... В ту ночь я не мог уснуть, сидел у стола и писал стихи: мне казалось, что только стихами сумею я передать своё волнение. Я писал стихи о Ленине и о социализме, который мы строим каждый день, каждую минуту. Так говорил Ленин. Сложное понятие социализма он сделал для меня конкретным, близким, сегодняшним. Социализм не мечта и не вера — он, — писал я, — Вот он здесь, сегодня, у нас... Нет... от трудностей мы не падали, Новый счёт открыли векам, Нас ли было сломить блокадами, Нас ли было разбить врагам?.. Стихи получились корявые, наивные. Я прочёл их маме под утро... Она не спала, то и дело поднималась с дивана, подходила ко мне, иногда проводила рукой по спутанным моим волосам, но не предлагала ложиться, не мешала. Она всё понимала, мама. И она поняла это стихотворение о Ленине и социализме, стихотворение, которое так и не увидело света на газетных полосах... А через два года, в раннее морозное утро, ко мне в комнату постучали и сказали, что меня срочно вызывают в редакцию, что вчера вечером в Горках умер Владимир Ильич Ленин... Я пробыл в редакции день и ночь. Мы делали специальный номер газеты. Напряжённая работа помогала нам переживать огромное, непередаваемое горе. Я правил статьи, оформлял полосу. Десятки портретов Ленина лежали передо мной на столе, — а я видел сцену Большого театра, и кафедру, и поднятую руку Ильича, и его вдохновенные глаза, и слышал его слова: «Из России нэповской будет Россия социалистическая». Я вышел на улицу, в жестокий мороз, лишь под утро. И тогда только подумал: «А мама? Как мама?» У неё было совсем плохо с ногами, и она почти не вставала. Я поспешил домой. По всей Дмитровке протянулась длинная очередь. Народ стремился к Колонному залу, последний раз проститься с Ильичём. Лицо Москвы сразу стало суровым и скорбным. У меня был редакционный пропуск в Колонный зал. Я быстро шёл по Дмитровке и вдруг остановился, поражённый: на углу Столешникова переулка я увидел маму. Из-под большого шерстяного платка виднелись только глаза и нос. Она медленно двигалась вместе со всеми к дверям Колонного зала. В глазах её застыла та же общая народная скорбь, народное горе. Я подошёл к ней, безмолвно взял под руку. Почувствовал её такою родною, как никогда. И в общем людском потоке мы пошли вместе к Колонному залу Дома союзов, туда, где лежал Ленин. КОСТЁР 1 В нашем пятьдесят пятом краснопресненском отряде юных пионеров было четырнадцать мальчиков и тринадцать девочек. Самым маленьким был восьмилетний Мика Фильков, брат моего старого друга Вани. Мику сначала не хотели принимать в отряд. Октябрят при нашем отряде не было, а до пионеров он не дорос. Но Мика долго и жалостливо умолял меня, как вожатого отряда, настойчиво говорил о том, что не может оставаться «неорганизованным», что ему уже надоело быть беспартийным, что он плавает не хуже любого пионера, решает самые трудные задачи по арифметике, умеет барабанить и трубить в горн все пионерские сигналы и, наконец, может рисовать карикатуры для нашей стенной газеты. Я помнил недавнее время, когда сам был «замыкающим неполным» в классе, и совсем уже склонялся поддержать Мику, но боялся, что меня обвинят в лицеприятии или ещё хуже — в подхалимаже (Ваня Фильков уже был членом МК комсомола). Всё же твердокаменное сердце моё расплавилось, и в память о заслугах Микиного отца я принял мальчика в отряд. В отряде добродушного, курносого Мику очень полюбили и вскоре стали давать ему разные, не особенно ответственные пионерские поручения: сходить в редакцию за свежим номером журнала «Барабан», нарезать бумагу для заготовки змеев, достать клею... А после трёхмесячного испытания Мику Филькова назначили запасным отрядным горнистом. Он был счастлив. Действительно, здорово получилось, когда наш отряд пошёл приветствовать районную партийную конференцию в клуб рабочих Трёхгорной мануфактуры. Стены клуба украшали картины и плакаты. На сцене сидели старые большевики, участники революции 1905 года и баррикадных боёв на Пресне. Три горниста ещё за сценой протрубили сигнал. Мерным шагом через весь зал мы прошли на сцену. Самого маленького пионера, Мику Филькова, поставили на трибуну, чтобы его все могли видеть. И Мика, почти ни разу не сбившись, сказал приветствие конференции, которое начиналось словами: «Мы, юные пионеры-ленинцы, идущие на смену Ленинскому комсомолу, горячо приветствуем старых гвардейцев революции, соратников Владимира Ильича!» Улыбки согрели лица старых большевиков, лично знавших Ленина и слышавших его в этом зале Трёхгорки. Как жаль, что не мог в эту минуту видеть своего младшего сына Василий Андреевич Фильков... Всё шло хорошо, и вдруг произошло непредвиденное событие. Молодая работница в лазоревой косынке воспользовалась паузой в конце, когда Мика немного сбился, бросилась к оратору и тут же, прямо на трибуне, крепко расцеловала его в обе щеки и в нос. Наш боевой горнист растерялся, обиделся и забыл сказать заключительные слова приветствия. Но мы простили нашему представителю эту оплошность. Какой оратор не сбился бы при подобном стечении обстоятельств! А потом мы собрались в кружок перед столом президиума и спели нашу замечательную пионерскую песню: Эх, картошка — объеденье, Пионеров идеал! Тот не ведал наслажденья, Кто картошки не едал... дал... дал... Наш пятьдесят пятый краснопресненский отряд занимался, конечно, не одними торжественными приветствиями. У нас было много всяких дел. Мы следили за учёбой наших пионеров и занимались спортом. Целые отрядные сборы посвящались рассказам о французском мальчике Гавроше, сражавшемся на баррикадах, и о комсомольцах украинского села Триполье, зверски растерзанных кулаками. Мы ходили всем отрядом смотреть фильм «Красные дьяволята» и восхищались смелостью и мужеством советских ребят. Глава за главой прочли недавно вышедшую книгу Фурманова «Чапаев», и в отряде у нас были, конечно, свои Чапаевы, Фурмановы, Петьки, Елани... А когда однажды я привёл самого Фурманова на сбор отряда, глаза ребят так горели от счастья, что в нашем красном уголке стало ещё светлее и праздничнее. Домой, в Нащокинский переулок, Фурманова провожал весь отряд. А через несколько дней Дмитрий Андреевич, смеясь, рассказывал мне, что какой-то Мика подстерёг его у дверей квартиры и долго упрашивал взять к себе в «Петьки», в адъютанты. В каникулы, летом и зимой, мы устраивали после длительных споров с некоторыми родителями большие походы в ближний лес, «с преодолением трудностей». Разбивали лагерь. Определяли время и дорогу по солнцу, по звёздам (пригодилась, оказывается, старая астрономия Фламмариона!), изучали следы животных, птиц... После выполнения боевой задачи собирали хворост, тут же раскладывали огромный костёр, настоящий пионерский костёр, пекли картошку, пили чай из котелков, пропахших дымом, пели песни. Домой возвращались окрепшие, полные впечатлений. Сколько сочинений было написано об этих походах, сколько гербариев собрано, сколько картинок нарисовано для отрядных журналов и стенных газет! Выполняли мы и специальные задания — собирали металлолом, помогали крестьянам во время сенокоса. Конечно, не всё проходило у нас гладко. Однажды, играя в «Чапаева», ребята смастерили самодельные финские ножи, и «бой на реке Белой» окончился тем, что Мике Филькову, чапаевскому «Петьке», серьёзно порезали руку. Мужественный ординарец, правда, не плакал, и авторитет его в отряде сильно возрос. Но мой авторитет как вожатого и воспитателя в глазах родителей сильно упал. В журнале «Барабан» появилась даже статейка под громким заголовком: «Уклон финского ножа». Меня порядком проработали на комсомольском собрании, а Ваня Фильков опять припомнил по этому случаю и старинную мою поездку на Луну. Однажды летом мы организовали общемосковский пионерским учебный поход: с настоящими боевыми расчётами, сражениями между «синими» и «красными», с многочисленным деревянным самодельным оружием — шашками, пушками, трещотками-пулемётами, — с форсированием болот и рек. Поход продолжался три дня. В нём принимали участие настоящие красноармейцы и командиры в качестве консультантов. Возвращаясь из похода, вся пионерская армия торжественным маршем проходила мимо Моссовета. С балкона пионеров приветствовал Семён Михайловнч Будённый. Впереди армии, чётко отбивая ногу, шагал пятьдесят пятый краснопресненский отряд. А впереди отряда, среди горнистов — Мика Фильков, самый маленький и самый курносый. Вскоре произошло событие, на некоторое время омрачившее ясное, весёлое лицо Мики. Решили мы издавать живую газету «Красный галстук». Каждая буква заголовка была нарисована на большом щите. Щиты выносили на сцену все мальчики нашего отряда, и каждый просовывал голову в отверстие под буквой и читал публикуемый в газете материал. Девочки стояли в промежутках между щитами-буквами. Для самого маленького пионера, Мики Филькова, не хватило буквы. Он очень опечалился и, забыв о всех своих боевых заслугах, чуть не плакал. После некоторого раздумья мы нашли выход. Сделали пятнадцатый щит, с огромной точкой. Она заключала заголовок газеты. Точку должен был выносить на сцену Мика. Это всем очень понравилось. Много раз мы показывали нашу газету «Красный галстук» и пионерам, и взрослым, и в нашем клубе, и на многих предприятиях района, и всегда, когда на сцене выстраивался живой заголовок «Красный галстук», а в конце заголовка под огромной точкой просовывалась Микина лукавая, улыбающаяся сквозь «серьёз» курносая рожица, раздавались хлопки и весёлый смех. Так и прозвали в отряде Мику Филькова: «Точка». Товарищ Точка. Он вскоре привык к этому новому своему имени и даже сам в разговоре, кончая какую-нибудь фразу, говорил, лукаво улыбаясь: «А теперь точка. Большая точка». 2 Телефонный звонок оторвал меня от сложных гегелевских силлогизмов. — Здорово, старик! — послышался удивительно знакомый голос. Ваня Фильков... Друг закадычный... Я давно не видался с ним. После окончания университета Ваня работал в Белоруссии, в родных наших местах, парторгом крупного машиностроительного завода. В этот вечер толстый том Гегеля остался раскрытым на столе. Мы сидели с Фильковым в Парке культуры, наслаждались холодным пивом и поглощали десятки издавна любимых Ваней раков. О чём только не говорили мы в этот душистый летний вечер! Достаточно было назвать одно имя, вспомнить один мельчайший эпизод — и парк оглашался взрывами долго не утихающего смеха. Отдалённые от прошлого десятком лет, мы вспоминали с улыбкой и то, что тогда, в те годы, далеко не казалось нам смешным. — А помнишь Козла? — Ха-ха-ха... — А помнишь, как ты был Кутузовым? — Ха-ха-ха... — А помнишь, как ты помиловал Дантона? — Ха-ха-ха... — А КПИОЖ? А наша борьба за печатное слово, Ваня... — А твоё «Путешествие на Луну»?.. — Ха-ха-ха... Ваня внезапно перестал смеяться и, положив локти на стол, нагнулся ко мне: — Слушай, старик, учёный муж, Гегель... А что, если... У меня месячный отпуск, у тебя каникулы. Луна, конечно, далеко. Но путешествие мы соорудить можем. Давай тряхнём стариной! Побродим по берегу Чёрного моря... Мика-то наш — большой человек! Вожатый в Артеке. Вот и навестим его. ...И вот мы налегке, совсем как в юности, в одних трусах, с вещевыми мешками за плечами, с длинными посохами в руках, бронзовые от загара, шагаем от Мисхора через розовые плантации Чаира к Ялте, от Ялты к Гурзуфу. Вот мы уже делаем заплыв к пушкинским Ай-Доларам и сидим на скалах, обвеваемые черноморским ветерком, и выкрикиваем прямо в бескрайный простор слова Багрицкого: «Ай, Чёрное море... Ха-а-рошее море...» Мы опять бредём по береговой гальке, лёгкие, свободные, весёлые и сильные, вспоминаем без конца, философствуем, обсуждаем мировые проблемы. Минуем Суук-Су и подходим к границам Артека. Великое нетерпение охватывает нас, и мы перелезаем через невысокий забор. ...Хозяевам лагеря не до нас: у них необычайный посетитель — французский писатель Анри Барбюс. Мы видим издали его высокую, чуть согбенную фигуру, окружённую сотнями ребят. Здесь представлена вся география мира. Среди маленьких загорелых хозяев — мальчиков и девочек Советской страны — многочисленные гости из Европы, Азии, Африки, из обеих Америк и даже из Австралии. Нам удаётся незаметно пристроиться к экскурсии по обоим лагерям — нижнему и верхнему. Мы с Ваней не первый раз в Артеке, но с особым удовольствием проходим по знакомым местам, разглядываем новых ящериц в террариуме и новых золотых рыбок в бассейне, знакомимся с годовалым медвежонком, играющим на барабане, и уморительной обезьянкой, вскакивающей на плечо Барбюсу. Экскурсией руководит Мика. Он давно уже заметил нас. Он даже улучил мгновение при переходе из верхнего лагеря в нижний, чтобы обнять нас и шепнуть несколько слов. Но для разговоров нет времени: он не может ни на миг оставить Барбюса и свою пёструю, весёлую, суматошную армию. Он разговаривает с французским писателем на сложном, смешанном языке, в котором русские слова перемежаются с французскими, немецкими и даже испанскими. Впрочем, они прекрасно понимают друг друга. На шее Барбюса пылает красный пионерский галстук. Писатель очень взволнован, беспрестанно курит, зажигая папиросу от папиросы. Он подзывает к себе то одного, то другого ребёнка, что-то спрашивает, проводит рукой по чёрным, каштановым, льняным головёнкам, стриженым, волнистым и курчавым, часто вынимает платок и вытирает повлажневшие ресницы. Так они и спускаются к самому морю: замечательный, большой и добрый человек, отдавший свою жизнь борьбе за человеческое счастье, и маленькие люди в красных галстуках, приехавшие со всех концов мира в счастливую страну, к тёплому и ласковому Чёрному морю. А Мика... Какой он стал большой и стройный! Наверно, уже забыл о том времени, когда он был нашей «точкой». — У меня сегодня для вас сюрприз, — шепнул он нам на берегу моря. В честь Барбюса проводились всевозможные пионерские соревнования: и заплывы на двести метров, и байдарочные гонки, и волейбол, и теннис. В конце традиционной лагерной математической олимпиады Мика молниеносно производил сложение и умножение каких-то умопомрачительных чисел. Потом пионеры декламировали разные стихи, и крутолобый бронзовый крепыш-сибиряк прочёл собственное стихотворение, посвящённое Барбюсу, а стройный черноволосый подросток из Лиона перевёл его на французский язык. Всё это было очень интересно и трогательно, но, судя по всему, сюрприз, который обещал нам Мика, ещё ожидал нас. После ужина готовился праздничный пионерский костёр. К костру, кроме Барбюса, пригласили старых большевиков, отдыхающих рядом, в Суук-Су, и сама эта встреча разных поколений предвещала много интересного. Может быть, в этом и заключался обещанный Микой сюрприз? Немного отдохнув в Микиной комнатушке (сам хозяин, ещё раз обняв нас, снова умчался), мы вышли на берег моря. Узкий рог молодого месяца поднимался всё выше над волнами, светящимися мириадами фосфоресцирующих точек. Где-то на самом горизонте проходил залитый светом большой океанский теплоход. Воздух был пропитан запахами роз, цветущих маслин, тамариска... Костёр был сооружён на самом берегу. В большом ворохе хвороста были искусно запрятаны электрические лампочки. Когда включили ток, хвоя костра загорелась разноцветными огнями — синими, красными, зелёными, золотыми... От двух пристроенных сбоку вентиляторов развевалась, напоминая языки пламени, прикреплённая над костром ярко освещённая лампочками кисея. Это было пышно и красиво. Окружившие костёр пионеры и гости захлопали. Только два гостя смущённо смотрели на костёр, не разделяя общего восторга. Мы переглянулись с Ваней и поняли друг друга. Мы смотрели на этот роскошный механический костёр и вспоминали наши всамделишные лесные костры, без лампочек и проводов, без блёстков и мишуры. И нам взгрустнулось. Мы вдыхали полными лёгкими солоноватый воздух, запахи водорослей, идущие от Чёрного моря, сладкие ароматы цветов, и нам не хватало смолистого, горьковатого дыма костра, идущего издалека, с лесных полян наших первых пионерских походов, с опушек нашей боевой и суматошной комсомольской юности. А между тем нас, кажется, здесь никто не понимал. Только Мика встревоженно поглядывал на наши вытянувшиеся лица. Однако надо было начинать сбор. И вдруг озорная, комсомольская волна захлестнула нас. Ничего не сказав друг другу, мы с Ваней бросились к костру, оставив растерявшихся, остолбеневших пионеров и Мику. Барбюс и старые большевики, очевидно, решили, что так полагается по программе праздника. Мы ловко и стремительно вынули из костра лампочные гирлянды, отнесли в сторону, в кусты можжевельника. Тут же прихватили для растопки сухих можжевёловых сучков. Я сунул их в костёр, вынул спички... Прошло всего три минуты с начала нашей боевой операции — сухой хворост вспыхнул, огонь побежал от сучка к сучку. И вот уже весь ворох смолистого хвороста ярко пылает на берегу Чёрного моря. Снопы золотых искр с треском взметаются кверху и опускаются в светящиеся волны, плещущие на берег. Пионеры окружили небывалый костёр. Наше вмешательство в праздничный церемониал было одобрено без прений. И даже обеспокоенный вожатый, наша старая, милая «точка», кажется, сменил гнев на милость. Старые большевики и Барбюс так и не поняли внутреннего драматизма разыгравшейся перед ними сцены. А мы весело смеялись, рассаживаясь среди ребят, вокруг всамделишного костра, костра нашей юности, и вдыхая наконец настоящий, горьковатый, до невозможного вкусный смолистый запах. Освещённый языками пламени, сидел на берегу моря французский писатель Анри Барбюс в красном пионерском галстуке, со значком, изображающим такой же костёр, на груди. И старые русские большевики, прошедшие три революции, тоже сидели рядом с Барбюсом, между маленькими хозяевами этого лагеря, и этого берега, и этого костра. И вот Мика Фильков, старший пионервожатый, открыл очередной пионерский сбор. — Мы покажем вам, — сказал он срывающимся от волнения голосом, — нашу новую интернациональную живую газету «Красный галстук»... На площадку перед костром вышли четырнадцать мальчиков и тринадцать девочек. Мальчики несли большие щиты, и на каждом выделялась крупно написанная одна буква заголовка. Девочки с белыми щитами стояли между буквами. Здесь собрались дети всех национальностей и всех расцветок кожи. Рядом с беловолосым украинцем («К») стоял маленький желтолицый японец («Р»)... и рядом со знакомым уже нам поэтом-сибиряком («Г») — меднолицый монгол с узкими лукавыми глазами («А»). И когда все выстроились, откуда-то появился пятнадцатый мальчик, самый маленький мальчик в лагере. Это был черноволосый курчавый негритёнок с такими весёлыми, искрящимися радостью глазами, каких я никогда ещё не видел в жизни. Он вынес последний щит с огромной точкой и протянул в отверстие под точкой своё ликующее лицо. Это и был сюрприз Мики Филькова, сюрприз «товарища Точки», наполнивший этот необычайный вечер неувядающим ароматом наших старых комсомольских лет. https://sheba.spb.ru/bib/isbah-kuvshinki....
|
|
|

 облако тэгов
облако тэгов