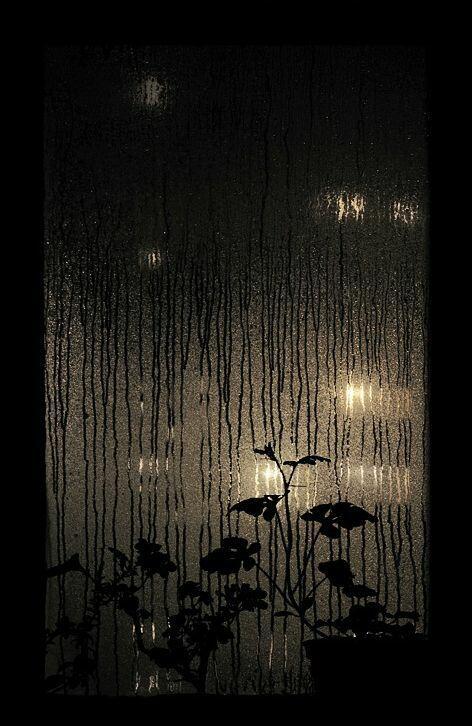| |
| Статья написана 27 февраля 2020 г. 01:09 |

Про данного персонажа написано достаточно. Много разных версий, вполне обоснованных и, на первый взгляд, насыщенных исчерпывающей информацией.
Обычно сия фигура рассматривается в двух аспектах: фольклорно-мифологическом и, реже, в фольклорно-мистическом (современные веяния). И первый и второй подходы, по сути, близки друг другу и отличаются, скорее, степенью научного подхода.
Кащей (Кощей) Бессмертный в ряде статей, очерков и диссертаций предстаёт неким мифическо-сказочным существом, над которым не властна смерть, вернее, почти не властна. Проведены (и не без вполне логических научных доводов) параллели с древнегреческим Аидом ( Гадесом, Плутоном, славянским Карачуном и т.д.).
Также интересен символ Яйцо — как вместилище смерти (и жизни), который многократно описан и подробно изучен. В частности, на мой взгляд, здесь уместно вспомнить предание о том, что в Древнем Риме в связи с рождением императора Марка Аврелия, якобы одна из куриц, принадлежавшая его матери, принесла окрашенное яйцо, что было воспринято как примета рождения будущего императора.
Следующее предание, ещё более замечательное тем, что её события связаны с предыдущей приметой, это история с Марией Магдалиной, которая по легенде принесла весть императору Тиберию о том, что Христос воскрес, преподнеся ему яйцо. Когда он усомнился в этом, яйцо окрасилось и на нём проявились буквы ХВ.
Таким образом, яйцо является с древних времён символом рождения, новой жизни. И, соответственно, разрушение этого вместилища жизни, уничтожение зародыша вполне могло найти отголосок в легендах и мифах о Кащее.
Кроме того, события, в которых участвует Кощей, удивительно напоминают библейские события, связанные с Самсоном, о чём пишет небезызвестный Джеймс Джордж Фрезер, британский религиовед, антрополог, этнолог, культуролог, фольклорист и историк религии. Им указано, что если легенду о Самсоне подать с точки зрения филистимлян, а не иудеев, то Самсон напомнит Кащея в одной из былин, а Далила — ту же Марью Моревну, лишающую Кащея силы.
Таковы фольклорно-мифологические цепочки, обозначенные и рассмотренные многими старательными исследователями.
Для меня же было интересным поразмышлять о нашем персонаже именно в фольклорно-историческом ключе. Последний описанный выше момент сходства славянско-русского сказочного (о Кащее) и библейского (о Самсоне) сюжетов имеют существенное значение для рассматриваемого нами аспекта, о чём будет сказано далее.
Кроме того, по-моему, следует обратить внимание на фигуру Марьи Моревны, в плену у которой какое-то время находился Кащей. В былинах она является "поляницей", что в русском значении звучит как "богатырша". Большинство исследователей (к примеру, академик Б.А. Рыбаков) связывает поляниц с сарматскими "амазонками" Дона, Приазовья (Лукоморья) и Кубани. При раскопках курганов соответствующего времени археологами (Кирпичников, Гуляев и др.) были выявлены особенности некоторых ранних сарматских могил, где при женских скелетах лежали чисто "мужские" предметы, как то: оружие, огниво, трут. А при мужских — предметы посуды, скребки и прочее. В более поздних могилах такой порядок уже не встречается. То есть в какой-то сравнительно небольшой исторический период на локальных географических пространствах встречались остатки матриархальных культов — такой вывод напрашивается и подтверждается раскопками и письменными источниками. Также этнографы описывают старинные обычаи на Кавказе, уходящие постепенно в прошлое, рассматривающиеся как отголоски матриархальных и постматриархальных ритуалов — например, указывался осетинский обычай бросания женщиной платка между двумя ссорящимися мужчинами, предписывающий немедленное прекращение вражды. Кстати, осетины определяются как потомки аланов — одного из сарматских племён.
Былинный сюжет с Марьей Моревной также имеет значение для нашего аспекта. Нельзя не упомянуть, хотя бы походя, также фигуру Бабы Яги, не рассматривая подробно её чудесно-мистические свойства взаимодействия с миром умерших в фольклоре, но отметив, сославшись на упомянутого уже Б.А. Рыбакова, географические описания её "пребывания" в земном мире — в ранних вариантах это то же Лукоморье. Баба Яга выступает в былинах то как союзник Кащея, то, что чаще, как его противник, рассказывающий о том, где находится его смерть.
Можно заметить, что помимо мистических и сказочных параллелей и философско-мифологических цепочек, связей, существует явное описание достаточно конкретных условий и фактов, которые включены нашими предками в многочисленные фольклорные источники в разнообразных вариантах — где эти условия и факты напрямую пересекаются с историческими событиями на территории нашей страны и сопредельных регионов. И здесь, на мой взгляд, недостаточно рассматривать доставшиеся нам источники только как наследие фольклора, имеющие славянские, общеиндоевропейские или даже заимствованные корни.
Для рассматриваемого нами аспекта следует обратить внимание на титул Кащея — царь. Если воспринять его буквально, не как некую позднюю аллегорию ( а на точно-конкретное восприятие нас настраивают те же упомянутые выше географические понятия, а также этнонимы и имена), то он царь и есть.
Время действия былин с присутствием Кащея, исходя из имён его антагонистов (прежде всего, Иван и некоторые другие) это время Древней Руси, скорее всего перед крещением или же в относительной небольшой период после него. Кроме того слово "кащей" встречается в письменных источниках, описываемых примерно этот же период (Древней Руси), означающего то худого, с длинной шеей человека, то пленника. Во всяком случае в дальнейшем этот термин в письменных источниках исчезает из употребления, используемый теперь только для имени фольклорного персонажа.
"Поляницу" да и Бабу-Ягу как представителей пережитков матриархального мира, думается, можно рассматривать для периода Древней Руси как единичных, и потому особенно ярких и значимых для описания в фольклоре "явлений".
Итак, фигура царя. Для мира Древней Руси немного позднего периода, знавшей конунгов (королей — нем. der König), султанов (салтанов), другие титулы, характерно два известных "царя" .
Первый — собственно "цезарь" (Caesar), с которым титул "царь" связан филологически, император Ромейской империи, то есть, Византийской.
Византия являлась христианской православной страной, оберегавшей свои границы и не осуществлявшей внешней экспансии в русские земли.
Но в былинах описаны многие беды, чинимые Кащеем русским землям: нападения, полон, разорения, учитывая плач немногочисленных оставшихся сирот — пожалуй, сравнимые с геноцидом. Косвенно о полоне и дальнейшей продаже пленников и пленниц на рабовладельческих рынках говорит сюжет сказки о Кощее и Царевне-лягушке, в которой царь Кащей превращает пленницу в золотую статую, то есть, по сути, обращает добычу в золото. Этот момент также отражён в анимационном фильме "Царевна-лягушка" 1954 г.
Интересен сюжет кинотворения А. Роу "Кащей Бессмертный" 1944 г., в котором антагонист Кащея Никита Кожемяка взаимодействует с положительным героем Булатом Балагуром (находящимся, как и его соплеменники, в зависимости от власти Кащея), судя по имени и внешним признакам, представителем мира Востока, по-видимому, мусульманского.
Исходя из рассмотренного выше, можно заключить, что император Византии не подходит на роль царя Кащея, ни географически, ни по своим поступкам и возможностям.
Второй известный Древней Руси царь, существовавший в тот период времени — это правитель Хазарского каганата, вернее один из двух правителей, но единственный обладавший реальной, а не номинальной властью. В Хазарском каганате, державе, жившей с некоторых пор за счёт колоссальной торговли живым товаром, было два верховных титула. Первый — каган, то есть великий хан из тюркской кочевой династии, язычник, ставший номинальной фигурой после переворота Обадии, иудея по вероисповеданию. Обадия же, как пишет историк Л.Н. Гумилёв, "принял титул "пех" (бек), переведенное на арабский язык как "малик", т. е. царь".
В дальнейшем царь Иосиф определил политику Хазарского каганата, написав: "И с того дня, как наши предки вступили под покров Шохины (присутствие божества), он подчинил нам всех наших врагов и ниспроверг все народы и племена, жившие вокруг нас, так что никто до настоящего дня (около 960 г.) не устоял перед нами. Все они служат и платят нам дань — цари Эдома (язычники) и цари исмаильтян (мусульмане)" (Л.Н. Гумилёв "Древняя Русь и Великая степь").
На мой взгляд, трудно не согласиться с Фрезером насчёт явной схожести сказок о Кощее и библейского сюжета с Самсоном, который справедливо рассматривать как предтечу некоторых значительных сюжетных линий русских сказок, но с переменой "плюса и минуса", на что и обратил внимание Фрезер.
Нельзя также забывать, что потомки сарматов (среди которых когда-то были распространены отголоски матриархальных культов и чьи женщины послужили прообразами знаменитых" поляниц") асы (осетины, отколовшиеся от аланского племенного союза), собственно аланы — являлись врагами Хазарии.
Для характеристики их взаимоотношений с Хазарией интересно следующее свидетельство от приближенного царя Иосифа, в котором он описывает войну, которую вел царь Вениамин в IX веке против асов (осетин), мадьяр, пайнилов (печенегов) и македонян (византийцев). Вениамин победил коалицию противников при помощи алан. А затем уже царь Аарон победил алан при помощи торков (гузов).
Такая, вот, перестановка сил и приоритетов в политике. Как говорится, "ничего личного, только бизнес".
С момента злополучного для всех соседей Хазарии переворота и введением политической фигуры "царя" наступили чёрные времена, ибо хазарские цари опирались на поддержку (а следовательно, и выполняли их волю) так называемых "рахдонитов" , т. е. "ведающих путь" — купцов, главным товаром которых были невольники. Рахдониты, являясь, как бы мы сейчас сказали, олигархатом того времени, стали экономической основой Хазарии, просуществовавшей в этом виде до уничтожения её князем Святославом.
Касаясь чисто практической стороны деятельности и развития сюжета сказок и былин о царе Кащее Бессмертном, который, по выражению классика, "над златом чахнет", можно заметить, что все эти детальные описания (не касаясь сакральных сказочных особенностей сего персонажа) свойственны определённым политикам сопредельного Древней Руси государства.
Таким образом, дорогой читатель, надеюсь, ты оценишь сии размышления как труд, опиравшийся на логику и исторические источники, и не станешь ссылаться на не к ночи упомянутое выражение " притягивания за уши" :))
...................................................... ...................................................... ...................................................... ..........................
На картинке Василиса Прекрасная и Кощей Бессмертный в шедевре советской мультипликации "Царевна-лягушка" 1954г.
|
| | |
| Статья написана 13 февраля 2020 г. 11:31 |

Он видел разные моря,
Но помнил свой причал.
В портах, бросая якоря,
Все флаги различал.
Завидев новый галеон,
С командой заодно,
Догнав свой «приз», стремился он
Пустить его на дно.
С «испанцем»** сблизиться пора б,
Войдя в лихой кураж.
Цепляясь крючьями как краб,
Он шёл на абордаж.
Залп корабельных батарей
Победу приносил.
«Весёлый роджер»***, гордо рей,
Пока хватает сил!
Берегового братства**** стяг –
– знаменье сатаны.
Его заметив, всякий враг
Наделает в штаны.
И верил каждый флибустьер*****
Среди семи смертей,
Что не видать ему галер,
Три тысячи чертей!
Любой был рад хвалу воздать
Такому кораблю –
– надёжней судна не сыскать,
Послушного рулю.
Но как-то раз пришлось ему
Вступить в неравный бой.
В густом пороховом дыму
Жужжал картечный рой.
И вот остался сиротой
Отчаянный фрегат,
Смотря, как души чередой
Безмолвно сходят в ад.
И яростью рождая взрыв,
Свершил морской закон -
— товарищей похоронив,
Как верный компаньон.
* Частное морское судно, во время войны нападавшее на суда неприятеля с ведома или разрешения своего правительства, а также занимавшееся морским разбоем.
** Наиболее частой добычей каперов были испанские суда, поскольку Испания долгое время являлась основным соперником на море других держав.
*** Общепринятое ироничное название флага, используемого пиратами.
****свободная коалиция пиратов и каперов в XVII и XVIII вв.
*****Французский вариант голландского vrijbuiter и англ. freebooter, переводящегося как «вольный добытчик».
|
| | |
| Статья написана 25 ноября 2019 г. 06:40 |
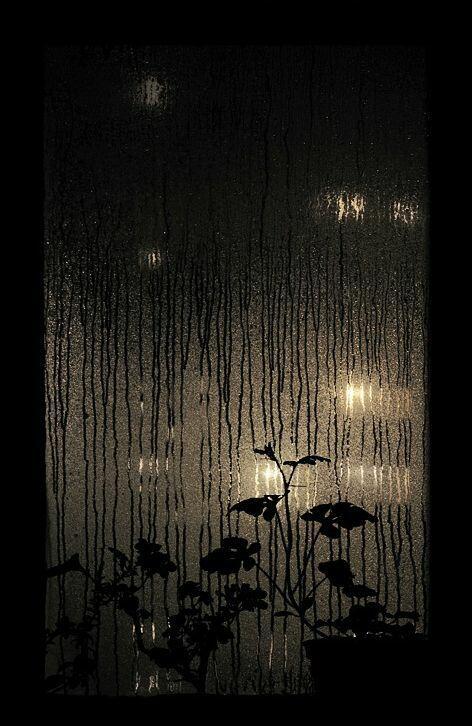
Фон пастелью, тушью штрих
На холсте в оконной раме.
Мир прерывистых прямых
Схож с осенними дождями.
Выступят из темноты
Окна, тени, силуэты.
За стеклом в горшках цветы
В комнатах и кабинетах.
Капля пишет на стекле
Знак вопроса без причины.
И морщина на челе
Старит этого мужчину,
Что на покрывале тьмы
Отразился бликом глянца
За решёткою тюрьмы
Затянувшегося транса.
Волосы его седы,
Пряди падают рядами.
Как от скальпеля – следы,
Нанесённые годами.
Тих, но собран и суров,
Словно перед трудным боем.
И красноречив без слов,
Будто призванный судьбою
Бороздить морской простор
Дух «Летучего голландца»…
Или как тореадор,
Смерть ведущий в парном танце.
Не прочесть и не понять,
Тёмен взгляд как дно колодца.
Что тебе пришлось познать? –
– Видно, то и мне придётся:
Как что смолоду беречь,
Как узнать, с судьбой играя,
Стоит ли игра та свеч,
И зачем скользить по краю.
А, спалив в игре свечу –
– Как во мгле блуждать по кругу…
Но молчишь, и я молчу,
Нечего сказать друг другу.
Долог тягостный дурман.
Но, разбуженный рассветом,
Я усядусь на диван.
Призрак вещего портрета
Отряхну с усталых век,
За прозрение радея.
Густо выпал первый снег, –
– Осень старится, седея...
...................................................... .....................
Картинка из интернета, в свободном доступе.
|
| | |
| Статья написана 24 октября 2019 г. 17:27 |
Из старого, навеянное настроением осени
Напомнила осень о хрупкости жизни.
Я времени пастырем стал бережливым.
И в буйстве по лету справляемой тризны
Природа укажет мне путь прозорливо.
И я тороплюсь средь листвы под ногами.
И грудью широкой толкаю прохладу.
Я меряю время как землю – шагами:
Секунда, минута, неделя, декада.
В тугие узлы снова собраны нервы,
Репьём остроиглым щетинясь, возропщут.
Я снова не третий, не пятый, но первый.
Я дикий бурьян, но меня не затопчут.
И тело послушно как горное эхо.
И разум звенит чистотою хрустальной.
Залатана старая в сердце прореха,
Хоть стёрся с лица след улыбки опальной.
Пускай расступаются люди как тени,
Что прочь убегают от «дальнего света».
Дорога сокрыта во мраке осеннем,
Но путь нахожу я, читая приметы.
Сквозь стынущий сумрак они проступают
Подобно диковинным рунам на скалах, –
Веками прибой их упрямо стирает.
Но камень порой непокорней металла.
Мой путь созерцает, нахмурившись, небо,
Сдвигая мохнатые тучи как брови.
Но нет, не сверну я толпе на потребу.
Им – хлеба и зрелищ, им – плоти и крови.
А мне их потешить нельзя, да и нечем.
Я лишь открываю финальную сцену.
Но зрительный зал – не народное вече,
Не кровью вскипает – пузы́рится пеной.
А осень, наполнив дыханием смерти
Земное любовное летнее ложе,
Закончит виток суетной круговерти, –
И тем её миссия горше и строже.
Весна воскрешает умершую веру,
И призвана осень расчистить ей место.
А я – бить набат, как расстрельную меру,
И колокол греть для весны-благовеста.
|
| | |
| Статья написана 29 июля 2019 г. 01:50 |
Ответственность есть проба мужества человека
Горацио Нельсон.
Прогулка на велосипеде в июле, даже таком холодном, как в этом году, мне всегда по душе. Особенно когда едешь по парку. Особенно когда есть цель у поездки, помимо развлечения и физкультурной составляющей.
Когда я добрался до речки, совсем стемнело. Горели фонари на набережной, вывеска закрытого летнего кафе и фонарь над будкой поста охраны парка. На одном из больших стационарных лежаков кто-то тихо беседовал, то ли пара подвыпивших оболтусов, то ли парочка влюблённых. Изредка пробегали по набережной запоздалые бегуны и даже бегуньи. На двух небольших бассейнах, помещённых прямо в речку, также светили фонари, подсвечивая набережную и бегунов или просто прохожих. Был ещё и третий бассейн, но совсем маленький, для малышей, его в темноте можно было не принимать в расчёт. Всё-таки безопасность в парке повысилась с введением постов охраны. Охраны без оружия, полномочий и серьёзных навыков. Однако дисциплинированную правилами, проверками. Опять же, носили единую форму, что не могло не родить хоть какой-то авторитет в глазах хулиганов и кандидатов в оные.
Привычным движением я прислонил велосипед к дощатой стене, отодвинул камень, прикрывающий своеобразный вход, вернее, лазейку под закрытым на ночь кафе, не имеющим фундамента. Подсветил себе телефоном сквозь широкие щели между досками и стал доставать лоточки, которые оставляли сердобольные граждане для расквартированных под верандой усатых и пушистых постояльцев. Старые лоточки я обычно выбрасывал в урны, если последние были полны, то вёз пакет с мусором к выходу из парка до свободной урны. Новые ставил с кошачьим кормом и водой и пропихивал их вглубь с помощью велосипедного насоса, используя его как своеобразный шесток для проталкивания.
Иногда мои подопечные выходили поприветствовать меня, иногда уже спали.
Находясь на корточках, я услышал, как за спиной кто-то приблизился, но остановился на почтительном расстоянии. "Наверно знает меня, — подумалось, — или ждёт, когда обернусь".
Обернувшись, я узнал при свете фонаря с будки эту небольшого роста худощавую фигуру.
— Михаил? — полувопросительно обратился я.
— Здоро́во! — услышал я в ответ. — А я всё смотрю, ты или не ты.
Фигура в бежевой форме приблизилась, Михаил дружелюбно улыбался. Я забыл, сколько ему было лет, но на вид около шестидесяти, седой, но бодрый.
— Тебя наконец на этот пост перевели?
— Веришь, за четыре года первый раз на этом посту. А ты всё котеек балуешь?
— А что делать, — наигранным философским тоном, но тоже с улыбкой ответил я.
— Бегают тут вечером, играют, — добродушно рассказывал Миша.
По всему было видать, что сутки одному дежурить было скучно, и он был рад общению. Да и как могло бы быть иначе.
Последний раз мы виделись в декабре перед новым годом. После вахты, охранники уезжали домой. Михаил возвращался в Чувашию, откуда он был родом.
Голос по рации призывно заворчал:
— Водяной, водяной, как слышно?
Михаил ответил:
— Слушаю тебя, дровяной.
Поговорив с коллегой, Михаил с улыбкой поведал:
— Напарник меня зовёт "водяной" — потому что я у воды. А я его — "дровяной". У него же там дерево это, с замками.
— А, то декоративное с замочками на ветках?
-Ага, точно, — усмехнулся Миша, — так мы и развлекаемся, нас же никто не слышит.
— Ну, и как тебе работается на этом месте? Хлопотно наверное?
Миша открыл было рот, но тут же закрыл его, ощетинив седые усы и как бы слегка задохнувшись от внезапно охватившего возмущения.
— Да... — махнул он в сердцах рукой, — не спрашивай! Постоянно пьют, в бассейн лезут...
— Шумят?
— Да шумят-то ладно, мне всё равно не спать. А то вот случилась такая история...
Миша достал сигарету и не спеша закурил, глядя вдаль за реку, где стояли облака, подсвеченные огнями с Нижних Мнёвников. Я понял, что история будет, по меньшей мере, любопытная.
— Иду я как-то на пост поутру, в пять тридцать. А я люблю идти вдоль берега, если не спешу. В этот раз вышел пораньше, народу никого. Смотрю, девка стоит по пояс в воде, голая, без одежды. Стоит и смотрит. А на улице градусов 12. Я окликаю её, она оборачивается, отстранённая какая-то, а уже вся синяя от холода, лет двадцати пяти. Отвечает, мол, что вам надо?
Я говорю, вылезай, вода холодная, ты, вон, посинела вся. А она мне глухо так: "Я... топиться хочу".
Я ей: "Да ты что?". И говорю всё, говорю. "Как зовут тебя?". Она, говорит, Лариса.
Я: "Лариса, не дури. Лара вылезай давай... Да что случилось-то?".
Говорит, с мужем поссорилась. А сама не вылезает, оглянется вполоборота, и всё в реку смотрит.
То ли под наркотиками была, но отвечала внятно, не пьяная. Я их, наркоманов, не люблю, тля.
А тут что делать?
Глаза через очки у Михаила лихорадочно заблестели.
— Как я потом жить с этим стану? Пришлось бы кидаться за ней в реку, куда деваться?!
Я понимающе закивал, нахмурив брови.
— Я ей: "Лара, Ларочка, вылезай, замёрзла, муж сам уж пожалел наверное, волнуется." Руку ей подал...протянул. "Вылезай, вылезай", — говорю, так настойчиво, требовательно, но с мягкостью.
Подала в ответ руку, вылезла. Стоит босая, дрожит. Я ей её одежду протягиваю. Она не обращает внимания, в туфли ступила, поёрзала ногами, влезла. Развернулась и пошла потихоньку в сторону Крылатского.
— Голая?
— Да! Я ей: "Лариса! Так нельзя, оденься!". Она остановилась как в тумане, взяла одежду, стала одеваться. А из одежды только шорты короткие да маечка!
— И трусов нет?
— Нет!
— Может, из клуба какого под утро выбралась? Вон Sexton рядом...
— Не знаю... может.
Миша затянулся очередной сигаретой.
— Да, затянуло девку, — сочувственно произнёс я, — так и ушла?
— Пошла, вроде уверенно. Я как-то успокоился. А то... ну, как с этим жить?
— Хорошо, что ты подвернулся ей. И что пошёл вдоль берега. Ведь ни одной живой души не было?
— Ни одной! Ни рыбаков, никого. Не люблю я их, наркоманов...
Михаил замолчал.
Он докуривал, я прислушивался. Лежаки опустели, физкультурники исчезли.
А как внуки, Миш? — вдруг спросил я, как будто вспомнив более лёгкую тему для разговора.
Он улыбнулся.
— Хорошо. Скучают по деду. Тут операцию на глазу делал, слёзный канал воспалился. В стационар лечь отказался, вернулся с огромным синяком. Так младшенький не узнал деда, испугался.
Миша рассказывал про внуков, про медицину в Чебоксарах.
А я думал: кому-то повезло, что есть в Филёвском парке такой простой, но добрый и надёжный человек, Миша. И может, ещё кому-то не раз повезёт с ним.
29.07.2019.
...................................................... ...................................................... ..............................................
Фото моё. Будка, кафе и волейбольная площадка в Филёвском парке осенью, Москва.
Источник: https://poembook.ru/poem/2228260-professi...
|
|
|

 облако тэгов
облако тэгов