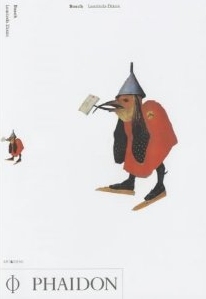| |
| Статья написана 14 октября 2015 г. 21:56 |
сабж Прекрасная вещь, даже не столько жуткая, сколько прекрасная. В отличие от "В списках не значился", которые — один сплошной негатив, пусть даже насквозь героический, Зори оставляют куда больше ощущения надежды, что ли. Может, потому, что несмотря на гибель всех пяти девчонок, они этих несчастных немцев таки победили и своего добились. Что меня очень восхищает в прозе Васильева, технически, — это натурализм без натурализма и героизм без пафоса. Под натурализмом я подразумеваю и грязь, и холод, и некотрые мерзости, но при этом он их не смакует, а преподносит как нечто неизбежное, само собой разумеющееся и не заслуживающее того, чтобы на нем подробно останавливаться. Да, грязь, да, мерзости. Да, утонуть в болоте — это чудовищная смерть, просто чудовищная, если вдуматься. Но в то же время это никак не отвлекает о самого главного, от того беспафосного героизма, который движет всеми шестью участниками "заградотряда". Прекрасно, короткими чертами, но очень емко набросаны и характеры, и судьбы и пяти девочек, и старшины. И с самого начала по этим наброскам уже можно понять, как они поведут себя в решающий момент. Удивительная точность и полнота образов — так, что от нескольких фраз складывается целая картина и сбывшей жизни, и той, которая могла бы случиться после, если бы не эти немцы. Что больше всего меня лично впечатляет в Зорях: когда я пытаюсь примерить ситуацию на себя, я не вижу никакого другого выхода, кроме как делать то, что делали они все. Героизм, который в то же время является необходимостью — причем необходимостью не для обстрелянных солдат, а для девочек, которым еще и 20 нет, вот что жутко. Вот такого рода вещи о войне, мне кажется, должны быть. Без попыток приукрасить что-то или нарисовать на месте более чем реальной трагедии живых (но далеко не идеальных) людей некие воздушные замки. Просто рассказывающие о том, что делает война с простыми людьми и что простые люди способны сделать на войне.
|
| | |
| Статья написана 10 октября 2015 г. 16:18 |
сабж В школе меня очень интересовала Великая Французская Революция, и я даже прочитала несколько приличных исторических работ на этот счет — пока не уперлась в Карлейля и не умерла на нем. С тех пор тема ВФР — это такой незакрытый гештальт. С другой стороны, роман Алданова и маленький, и совсем не занудный. Правда, нужно быть готовым к тому, что собственно во Францию наш герой попадает только во второй половине текста. Складывается ощущение, что автор просто искал оригинальный подход к вопросу, про который "в лоб" уже написали все, кому не лень — и таки нашел. Несмотря на то, что роман в целом посвящен падению якобинской диктатуры, с самой якобинской диктатурой непосредственно читатель и главный герой столкнутся примерно за четверть текста до конца. История начинается очень издалека: молодой, подающие неопределенные надежды русский дворянчик попадает на глаза стареющей Екатерине. Она ему пару раз улыбается, после чего Платон Зубов решает от греха подальше сбагрить его куда-нибудь за границу, пусть даже за государственный счет — и 19-летнему птенцу поручают "важную дипломатическую миссию" — узнать, каковы настроения французских эмигрантов в Европе. Дело происходит непосредственно после казни Людовика, и все монархии Европы, разумеется, пребывают в некоем смятении чувств. Забавно то, что буквально все осознают, куда юношу посылают (точнее, отсылают) и зачем — кроме него самого, у которого и мыслей никаких о Екатерине не возникло. Юноша искренне считает, что он выполняет крайне важное государственное поручение и вообще крутой дипломат. Именно с таким ощущением он появляется сначала в Лондоне у русского посланника, а потом с помощью того попадает сначала в Бельгию, а потом во Францию. "Наивный рассказчик", который сам (в отличие от читателя) не в состоянии оценить значение или важность происходящего — это, конечно, но новый прием. С другой стороны, Алданов и не низводит своего героя до уровня идиота — мальчик действительно старается вникнуть в политическую жизнь Франции, даже находит знакомцев в якобинском клубе, но все выглядит как-то несерьезно именно потому, что видно его глазами. И о своей любовнице он размышляет куда больше, чем о том, куда же катится Франция, а о том, какое значение французские события имеют во всем мире, даже не задумывается. Самый трагикомический эпизод во всей истории — собственно 9 термидора и падение Робеспьера. Потому что наш мальчик пил всю ночь с другом и эпическое заседание Конвента, где клеймили Робеспьера, просто проспал, точно так же, как и его казнь потом. Он всюду старается успеть и все узнать, честно, старается, но молодой здоровый организм неизменно берет свое, и получается как всегда. При этом юноша лелеет надежды о том, как будет писать мемуары о тех событиях, которые проспал пьяный — в общем, очень по-человечески. С другой стороны, именно так и происходят все великие исторические события — очень бестолково, и большая часть участников не понимает всей картины или понимает ее очень превратно. И половину происходящего даже те, кто был на месте, не заметят или не осознают. Зато пройдет время — и все будут знать все в деталях и искренне верить, что они сами все видели и помнят. В этом плане наивный рассказчик хорош тем, что происходящее кажется очень близким и реалистичным — в отличие от детального и последовательного, но сухого изложения историков.
|
| | |
| Статья написана 29 сентября 2015 г. 23:19 |
Выбрала эту книгу в рамках флешмоба по критерию "благодаря обложке" так что, думаю, стоит ее показать: 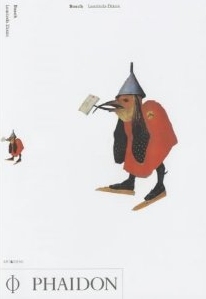 На обложке изображен один из замечательных босховских монстров с триптиха о св. Антонии, хрень с клювом на коньках. Вообще я большой любитель Босха — буквально всех его вещей, и этих деталей, и разнообразия монстров, и тщательно вырисованные кусты странных форм, и особенно утконоса с книгой в пруду в "Саду земных наслаждений". Книга построена по интересному принципу — но в хронологической последовательности (как обычно пишут про художников и вообще всех представителей искусства), а по тематической. Тем более, что хронологически про Босха и не напишешь особо: о жизни его известно достаточно мало, а картины датируются в основном на базе дендрохронологического анализа. Каждая глава у Диксон посвящена какой-то одной теме или одной большой картине (как в случае с триптихом св. Антония и триптихом Сада земных наслаждений, например), при этом анализируется не только конкретная картина, но и в целом обстоятельства ее создания, последующая история, другие произведения искусства на ту же тематику или со сходными элементами. Все, что автору есть сообщить о биографии Босха (то есть очень мало), рассказывается в первых главах. Вопреки расхожему мнению, Босх был не сумасшедшим еретиком, а весьма уважаемым членом местного сообщества, входил в локальную церковную организацию The Brotherhood of Our Lady и был достаточно состоятельным человеком. Ему заказывала картины местная и не только знать, и никто не видел в его произведениях ни намека на ересь и крамолу. Отсюда автор делает вполне логичный вывод, что то странное, что мы видим в его картинах сейчас, для современного Босху человека настолько странным не являлось, а имело вполне конкретный смысл. К примеру, триптих о святом Антонии, помимо указания на самого святого и его атрибуты, содержит множество ссылок на актуальные для Босха мотивы, связанные со святым. Прежде всего — на заболевание "огонь святого Антония", или эрготизм, вызываемое отравлением спорыньей. В то время по Европе прошла не одна эпидемия эрготизма, который пытались лечить с помощью различных алхимических методов. На картине, когда на это прямо указывает автор, можно разглядеть множество алхимических приспособлений, особенно учитывая, что в качестве иллюстраций приводятся другие их изображения из алхимических трактатов того же времени. Кроме того, эрготизм вызывает галлюцинации — и этим вполне объясняется общая странность картины. Кроме того, монахи ордена св. Антония устраивали лечебницы для таких больных — и нуждающиеся в лечении также изображены на картине — целиком и в части (в составе отдельных ног, например, поскольку ампутация была популярным методом лечения). С таким подробным разбором картина в целом становится значительно более понятно. В целом Диксон отмечает во многих картинах значительное влияние алхимии: и алхимические предметы, всякие реторты и перегонные кубы, и своеобразная алхимическая символика, довольно сложная. Например, в "Поклонении волхвов" шесть странных личностей, прячущихся в хижине, ассоциируются с шестью металлами, традиционно используемыми для экспериментам в получении философского камня. Таким образом, рождество Иисуса ассоциируется с созданием философского камня/золота, а остальные герои картины — с различными вещами, используемыми в алхимических опытах. Помимо анализа картин самого Босха очень интересно посмотреть на "смежные" иллюстрации и изображение тех же вещей у других художников. Кстати, некоторые вещи, которые у Босха кажутся совсем странными и из ряда вон выходящими, к примеру, воображаемые животные, в этом случае странными перестают быть, когда выясняется, что именно в таком виде этот "подводный рыцарь" уже описан в каком-нибудь трактате. В общем, отличная легкая и познавательная вещь для любителей творчества Босха, у автора множество интересных идей и находок, которые кажутся вполне убедительными.
|
| | |
| Статья написана 27 сентября 2015 г. 18:32 |
сабж Меня в принципе очень интересует все, что связано с историей Второй мировой, но при этом я предпочитаю историческую литературу художественной. И на "Доте" наконец сформулировала, почему: WWII не предмет для упражнений в изящной словесности и стилистических игр. На любые другие темы — пожалуйста, любые стилистические приемы. Но тексты по Второй мировой воспринимаю только в простом, реалистическом формате. Слишком мало времени прошло еще, чтобы события можно было перевести в область чисто литературную и придавать им какую угодно окраску, хоть гиперреалистическую, хоть сюрреалистическую. В основном попытки авторов, пишущих художественную прозу о Второй мировой с позиций "как бы сделать покрасивее" и "как бы еще выпендриться" вызывают у меня глухое раздражение и однозначно расцениваются как признание в собственном бессилии. Потому что материал настолько *больше* авторского дарования, что у автору, чтобы справиться с ним хоть как-то, приходится этот материал упрощать, обрезать, выводить из области вполне живой и недалекой истории в область расхожих, заезженных сюжетов, которые можно украсить только новой формой. Но Вторая мировая как основа сюжета не нуждается ни в каком украшательстве, и любая "новая форма" на ней смотрится, как одежда не по размеру. Это относится не только к Акимову, но и вообще ко всем подобным. Роману предшествовала повесть, куда более реалистическая, как сам автор выражается, "лубочная" — я ее не читала, поэтому сказать мне особо нечего, но по ощущениям, повесть была, возможно, лишена вышеописанных недостатков. В романе же автор попытался совместить несовместимое — этот позитивный лубок про героических советских солдат, с какими-то невероятными успехами защищающих дот далеко за линией фронта летом 41 и "роман-воспитание" про немецкого офицера. Причем когда советские солдаты встречаются с немецким офицером, происходит уже полнейший сюрреализм в духе Роб-Грийе. В итоге — взглянули звери на пейзаж и прошептали: ералаш. Даже применительно к любой другой основе сюжета все эти несочетаемые вещи были бы уже слишком, а применительно к тематике Второй мировой, которая, повторяюсь, и так не нуждается в искусственном украшательстве для придания тексту большей выразительности — так и вовсе вызывают недоумение. "Лубочная" часть, между прочим, отличная. Пятеро советских солдат, по разным причинам оказавшихся за линией фронта в начале немецкого наступления, находят друг друга (кое-кто спасается из плена, кого-то просто бросили товарищи), забираются в заброшенный дот, забитый под завязку боеприпасами, который проходящие мимо немцы не проверили (sic!) и начинают весело расстреливать колонны. Слава русского оружия, немцы терпят сокрушительное поражение, красота, в общем. Параллельно начинается линия, озаглавленная "Жизнь и мнения Иоахима Ортнера" про немецкого офицера — белая кость, совсем даже не фашист, который и попал-то на фронт только затем, чтобы побыстрее отметиться в каком-нибудь сражении и свалить обратно в тыл. Аллюзия на Стерна, правда, совершенно непонятна — мало того, что история немца ничем не напоминает "Тристрама Шенди", кроме разве что длинноты и занудства, так она еще и, мягко скажем, не в тему. Подробно описывается детство, юность и интимная жизнь майора Ортнера, с забеганиями вперед и назад, лирическими отступлениями и рассуждениями, со множеством деталей и безумным количеством рефлексии. В общем, я не выдержала и всю эту прустовщину читала по диагонали — слишком она скучна и несуразна в общем контексте. Две части — советских солдат и майора Ортнера — сходятся непосредственно дважды, и оба момента прописаны в довольно-таки сюрреалистическом ключе. Увольте, если бы в романе была только "лубочная" часть, он был бы отличной вещью в своем роде, но с прибавлением ***страданий майора Ортнера становится очень неоднородным. Я не знаю, как оценивать текст, половина которого читается взахлеб, а другая половина — пролистывается.
|
| | |
| Статья написана 21 сентября 2015 г. 22:49 |
сабж Эпически долго читала эту вещь, пару лет, наверное, правда, с большими перерывами. Я как-то лихо преодолела первую половину, добралась до Тристана и там завязла надолго, и так долго с ним мучилась, что начало уже практически забыла. Правда, окончание (читай: все, что после Тристана) тоже прошло легко и безболезненно. Самая интересная часть, имхо — это легенда о святом Граале. Во-первых, в ней есть сюжет, причем не только приключенческий, но и мистический, и к тому же относительно линейный и затрагивающий многих персонажей зараз. Именно часть о Граале, собственно, больше всего напоминает настоящий роман: в ней есть переплетенные сюжетные линии, и приключения героев объединены одной целью. В остальных же частях книги каждый герой действует сам по себе, при этом в зависимости от того, кто является героем конкретного эпизода, именно этот рыцарь преподносится как образец всяческих доблестей и победитель турниров. Если отталкиваться от самой скучной и стандартизированной части, жизнь рыцарей в романе Мэлори удивительно однообразна: они скачут туда и сюда, встречаются друг с другом, перебрасывают друг друга через седло, потом рубятся мечами часика два-три, стоя по колено в собственной крови, а прискучив этим занятием, рыдают, клянутся в вечной дружбе и угощают друг друга бутербродами. Имена рыцарей меняются, схема остается в принципе неизменной. Изредка им попадаются какие-то завалящие приключения, не являющиеся рыцарями (великан там или дракон какой), но они настолько редки, что ими можно пренебречь. Если читать это постоянно, исход, описанный в "Дон Кихоте", становится вполне понятным, хотя скорее, на мой вкус, можно спятить от скуки. Первые сто страниц подобного текста "вчитываешься" в жанр и получаешь удовольствие, но потом испытываешь скорее утомление. У Мэлори очень интересно все то, что выходит за рамки этой стандартизованной схемы "поскакал-увидел-перекинул через седло". Рождение Артура, ввод в сюжет новых персонажей, конфликт Ланселота с Ламораком, поиски Грааля, конец Круглого стола. Таких историй, на самом деле, много, и некоторые сюжетные находки просто удивительные, некоторые же вызывают искреннее удивление, как это в кустах обнаружился такой большой рояль. Последняя история о смерти Артура, например, со всей этой дурацкой любовью королевы, которую столько лет никто не замечал, а тут что ни день, то ее тащат сжигать на костре. Понятно, что в каждой главе рассказывается своя история, но в последней Мэлори сработал еще эффективнее, чем Мартин, начисто положив ни с того ни с сего практически всех персонажей. История закончена, ясно говорит автор. Между прочим, в книге много комического, хотя, очевидно, автор этого не предполагал, но так уж это звучит на современный лад. Паломид, гоняющий своего Зверя Рыкающего и все никак не догнавший до конца романа. Жестокость рыцарский поединков, переходящая за грань реального прямо в смешное. Множество мелких деталей, от манеры выражать свои мысли до логики персонажей — ищущий да обрящет, в общем, главное — подходить к тексту с открытыми глазами. Правда, говорят, я вечно нахожу смешное там, где его отродясь раньше никто не видел. Что меня несколько опечалило — так это практически полное отсутствие в тексте Мерлина. В свое время я была очень увлечена трилогией Мэри Стюарт и робко надеялась почерпнуть из такого авторитетного источника, как Мэлори, что-то еще. Но нет, Мерлин скромно появляется, чтобы быстренько обставить рождение Артура и исчезнуть, и никаких тебе подробностей про Горлойса, двух драконов, Ниневу (которая появляется в других ролях, правда). Буду искать другие источники, что делать. Конечно, "Смерть Артура" — это слишком литературный памятник, чтобы подходить к нему с теми же мерками, что и к современным романам, хотя это и моя любимая мерка, тем более, что недостаток образования не дает мне никаких других. Но по этой книге слишком видны, так сказать, годовые кольца, расхожие сюжеты, предубеждения, представления об "идеале" и область интересов и ценностей романтически настроенного автора того времени, с некоторыми необходимыми расшаркиваниями в адрес сильных мира сего. Современная нам литература от "Смерти Артура" ушла слишком далеко, нет привычки к этому жанру, так что текст, даже когда от него устаешь, все еще кажется несколько странным. С одной стороны, наивным, с другой — как-то бессмысленным (к чему все эти бесконечные поединки между одностольниками, хочется спросить). Но этой странностью он и интересен прежде всего, конечно, как и все классические героические и эпические произведения.
|
|
|
 облако тэгов
облако тэгов