| |
| Статья написана 12 марта 2024 г. 12:08 |
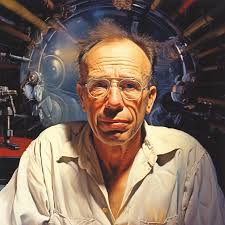 Лингвистический хоррор,или контингентность языковых игр Лингвистический хоррор,или контингентность языковых игрЭнное время назад, по прочтении «Ложной слепоты» Уоттса, «Дома в ноябре» Лаумера, «Врага моего» Лонгиера и ряда иных произведений, мне показалось обоснованным объединить их в единый (под)жанр и назвать его «Странным Контактом». Контактом человечества с иным разумом («разумом»?), в котором привычные жанровые лекала космической научной фантастики рушатся со страшным грохотом под пятой чуждости, непонятности, инаковости (иначе: деконструируются). Отчего возникает тот самый катарсис, очищение от много раз читанного и виданного, возвращение и чувствование той самой интеллектуальной небывалости, для которой фантастическая литература и рождена. Именно поэтому (по этому результату от чтения, в моем случае — слушания в замечательном озвучке Евгения Стаховского) я полагаю рассказ Роберта Шекли «Потолкуем малость?» замечательным примером ситуации Странного Контакта. Более того, в связи с лингвистической «начинкой» этой работы, а также того способа, используя который писатель создает эффект остранения у читателя (вполне в духе русской школы формализма), (суб/под)жанровую принадлежность можно характеризовать как «лингвистический хоррор». Далее я попробую доказать и углубить эти догадки, а также как к давнишнему рассказу Шекли может быть применен модифицированный жанровый определитель Квентина Мейясу из книги «Метафизика и вненаучная фантастика». Начнем, как и ранее в отзыве на работу Барри Лонгиера «Враг мой», с цитат предыдущих читателей-комментаторов «Потолкуем малость?» с целью установить, какие разночтения или частое непонимание остались после прочтения: «Хороший рассказ, только концовка у него несколько туманная» (tevas) «Непонятно только, как они сами себя понимали, если каждый раз язык менялся. Причем менялся очень сильно. А если кто-то простудится? И из-за гайморита не сможет правильно ставить интонацию?» (ZiZu) «...что значит слово «ман»?» (Journalist) «Правда, кое-что осталось непонятным» (duke) «Забавный рассказ с не совсем понятной концовкой» (Pupsjara) «Ну вообще «замудрень» немерянная» (gorvzavodru) «Шекли блестяще отобразил всю сложность процесса, но и заставил подумать, что это всё-таки было? -издевательство или хитрость?» (vam-1970) На мой взгляд, если я верно все понял, наиболее близко к пониманию концовки рассказа и вообще рассказа как такового пришел vitamin: «А в концовке, быть может, ничего туманного и нет — не ищи смысла там, где его нет и не было» Концовка юмористического — якобы юмористического — произведения Шекли вызвала вопросы и недопонимания у многих, и vam-1970 лучше всего выразил дилемму читателя после последних строчек «Потолкуем...»: издевательство или хитрость? Но дилемма эта — ложная. Ни хитрость, ни издевательство. Это ошибочная трактовка, ошибочность которой происходит от неверного определения жанровой характеристики этой работы. Перед нами не юмористическая, сатирическая или ироническая фантастика. Не только и, самое главное, не столько. Перед нами указанный выше лингвистический хоррор в антураже Странного Контакта. Притом сам автор чуть ранее, словами рассказчика в лице главного героя, как бы все объясняет потенциальному читателю, и самый финальный абзац (и незадолго до него) уж точно ставят точку в понимании написанного и перечеркивают вариативную интерпретацию «хитрость или издевательство». Но перед демонстрацией авторских цитат еще раз вернемся к определениям. Что такое Странный Контакт я постарался прояснить выше (и в других отзывах). Теперь же проясню, что имеется в виду под «лингвистическим хоррором». И если с лингвистическим все ясно — весь рассказ о трудностях перевода — то что именно я имею в виду под хоррором? Никаких ужасов и мертвецов в рассказе Шекли не видно, зато в обилие диковинные и конфузные ситуации, в которые попадает рассказчик. Но здесь хоррор интеллектуальный, когнитивный, от встречи с неведанным, (в)нелогичным, не возможным для прояснения. Как в сухих описаниях Лавкрафта или менее сухих сюжетных линиях Лиготти. Именно такой хоррор имею в виду и я, который вызывает трепет не от ощущений, а от обдумываний. Теперь дадим слово автору: «Но если это было так, тогда хон был очень странным языком. В самом деле, это был совершенно эксцентричный язык. И то, что происходило с этим языком, не было просто курьезом, это было катастрофой. Вечером Джексон снова взялся за работу. Он обнаружил дополнительный ряд исключений, о существовании которых он не знал и даже не подозревал. Это была группа из двадцати девяти многозначных потенциаторов, которые сами по себе не несли никакой смысловой нагрузки. Однако другие слова в их присутствии приобретали множество сложных и противоречивых оттенков значения. Свойственный им вид потенциации зависел от их места в предложении» »- Хорошо, — сказал Джексон сам себе и всей Вселенной. — Я выучил наянский язык, я выучил множество совершенно необъяснимых исключений, и вдобавок к тому я выучил ряд дополнительных, еще более противоречивых исключений из исключений. Джексон помолчал и очень тихо добавил: — Я выучил исключительное количество исключений. В самом деле, если посмотреть со стороны, то можно подумать, что в этом языке нет ничего, кроме исключений. Но это, — продолжал он, — совершенно невозможно, немыслимо и неприемлемо. Язык по воле божьей и по самой сути своей систематичен, а это означает, что в нем должны быть какие-то правила. Только тогда люди смогут понимать друг друга. В том-то и смысл языка, таким он и должен быть. И если кто-нибудь думает, что можно дурачиться с языком при Фреде К. Джексоне...» «Его мозг полиглота проанализировал то, что услышало его непогрешимое ухо лингвиста. В смятении он понял, что наянцы не разыгрывают его. Это был настоящий язык, а не бессмыслица. Сейчас этот язык состоял из единственного слова «ман». Оно могло иметь самые различные значения, в зависимости от высоты тона и порядка слов, от их количества, от ударения, ритма и вида повтора, а также от сопровождающих жестов и выражения лица. Язык, состоящий из бесконечных вариаций одного-единственного слова! Джексон не хотел верить этому, но он был слишком хорошим лингвистом, чтобы сомневаться в том, о чем ему говорили его собственные чувства и опыт. Конечно, он мог выучить этот язык. Но во что он превратится к тому времени? Джексон устало вздохнул и потер лицо. То, что случилось, было в некотором смысле неизбежным: ведь изменяются все языки. Но на Земле и на нескольких десятках миров, с которыми она установила контакты, этот процесс был относительно медленным. На планете На это происходило быстрее. Намного быстрее. Язык хон менялся, как на Земле меняются моды, только еще быстрее. Он был так же изменчив, как цены, как погода. Он менялся бесконечно и беспрестанно, в соответствии с неведомыми правилами и незримыми принципами. Он менял свою форму, как меняет свои очертания снежная лавина. Рядом с ним английский язык казался неподвижным ледником» »...слова Гераклита как нельзя более точно определяли сущность языка планеты На» «Сам факт подобных изменений делал недоступным как наблюдение за языком, так и выявление его закономерностей. Все попытки овладеть языком планеты На разбивались об его неопределимость. И Джексон понял, что воды реки Гераклита прямиком несут его в омут «индетерминизма» Гейзенберга. Он был поражен, потрясен и смотрел на чиновников с чувством, похожим на благоговение» И, наконец, сам конец: "- Ман! Ман! Ман-ман! Невозмутимо улыбаясь, старик ольдермен тихо прошептал: — Ман-ман-ман, ман, ман-ман. Как ни странно, эти слова и были правильным ответом на вопрос Эрума. Но эта удивительная правда была такой страшной, что, пожалуй, даже к лучшему, что, кроме них, никто ничего не слышал» Начнем с процитированной концовки. Она и десяток-другой строчек выше, где пришельцы общаются только при помощи слова «ман», в том числе — что наиболее важно — после отлета главного героя, говорят о том, что здесь нет ни хитрости, ни издевательства. Это, как указано самим Шекли через размышления Джексона, все связано с бессистемностью, невероятно быстрыми изменениями и, самое главное, полной их непредсказуемостью внутри языка местных жителей. Здесь и рядом нет никакой туземной мудрой лжи. Лишь, как указано в заключительной авторской речи, «эта удивительная правда была такой страшной, что, пожалуй, даже к лучшему, что, кроме них, никто ничего не слышал» (что, кстати, тоже прямо намекает нам на иную жанровую принадлежность «Потолкуем...», далекую от юмора). И сразу уточню: дело не в том, что язык местных быстро изменяется. Проблема в том, что он изменяется вне всякой последовательности, правил, закономерностей. Он представляет собой совокупность исключений, как заметил Джексон, без единого-единственного-хотя-бы-одного правила. Это нечто вне- и не- рациональное, не способное для усвоения человеческим умом, даже самым проницательным и гибким. Хаос и бессмыслицу невозможно понять. Только указать на то, чему невозможно указать быть разумным, ясным и понятным. Это и порождает лингвистический хоррор на фоне Странного Контакта, Контакта с Языком, который, в общем-то, скорее не-Язык, квази-Язык, вне-Язык. Именно поэтому этот рассказ Роберта Шекли может стать одним из немногочисленных примеров жанра вненаучной фантастики, который выделяет (пусть мне и до сих пор кажется, что выделяет напрасно, ведь и Странный Контакт вполне органично сосуществует в общем порядке научной фантастики) французский философ Квентин Мейясу: «А что мы имеем в виду, когда говорим о «вымысле вненаучных миров», или о «вненаучной фантастике»? Употребляя термин «вненаучные миры», мы говорим не о мирах, лишенных науки, то есть не о мирах, в которых экспериментальных наук фактически не существует, — например, о таких мирах, где люди не выработали — вообще или еще — научного отношения к реальности. Мы понимаем под вненаучными мирами такие миры, где экспериментальная наука невозможна де-юре, а не просто неизвестна дефакто. Вненаучная фантастика определяет особый режим воображаемого, в котором мыслятся миры, структурированные — или, скорее, деструктурированные — так, что экспериментальная наука не может ни разворачивать в них свои теории, ни конструировать свои объекты. Вненаучную фантастику направляет следующий вопрос: каким должен быть, на что должен быть похож мир, чтобы он был де-юре недоступен научному познанию, не мог стать объектом некоей науки о природе?» Таким образом, язык («язык»?), придуманный Робертом Шекли, это и вненаучное фантастическое допущение, яркий пример жанра вненаучной фантастики, где наука работать не может, но само сознание и опыт более чем возможны, и того, что я вынес в заголовок этого отзыва — контингентность. Сверхслучайность, случайность, освобожденная из уз и цепей статистики, закономерностей и правил. Чистое не ничто, но неопределенность. И разве это не может не пугать? "Потолкуем малость?" на фантлабе
|
| | |
| Статья написана 30 декабря 2023 г. 23:30 |
 Воспевающее отрицание,или фантастическая повесть о Контакте с Традицией Воспевающее отрицание,или фантастическая повесть о Контакте с ТрадициейПродолжаем развивать (или воображать самому себе на уме, что развиваю) «уровень дискуссий в Восточной Европе». Посмотрим на то, что недавние и давние читатели повести Барри Лонгиера «Враг мой», переросшей в одноименный цикл, писали о своих ощущениях и идеях после прочтения. И дальше подумаем, а возможно ли помимо антивоенного запала, гимна толерантности (уточним: здорового человека) и призыва к дружбе увидеть в этом произведении что-то еще? За строчками и словами с таким знакомым, казалось бы, и привычным содержанием? Большинство, если не все, комментаторы, рецензенты и неравнодушные к написанию нескольких связных мыслей люди, оценившие повесть либо негативно, либо позитивно, согласны с предметом самой оценки, т. е. с тем нравственным, моральным (морализаторским?), гуманистическим и антимилитаристским смыслом, что вплетен в «Врага моего»: «Но ведь суть же как раз в том, что две практически идентичные культуры воюют просто на пустом месте. Их конфликты возникают буквально из-за почти не пригодных к жизни планет. Разве это не похоже на то, что происходит на Земле? Это просто иллюстрация того, что люди разных национальностей, разных рас, разных сообществ, разных городов, районов, домов, семей способны спорить и до смерти воевать ради... чего? Да ничего, нам нечего делить, вот о чем повесть» (Tullma) «По сути антивоенный роман» (holyship) «Я понимаю, автор напустил там соплей с сахаром, а они всегда хорошо шли у определенных категорий читателей. И посыл правильный» (nworm) «издалека враг кажется злым и заслуживающим смерти, но стоит узнать врага ближе — и проникаешься уважением к нему. Так и с людьми» (kartinka) «Повесть также учит терпимости по отношению к окружающим. Она учит стремиться к пониманию друг друга, не смотря на различия. Говорит нам о том, что не смотря на, то какие мы все разные, все хотим одного и того же: любви и понимания, поддержки и чтобы рядом всегда был близкий друг» (NEPROSNENKOE) «Хорошая психологическая вещь. Напомнило рассказы про братание солдат во времена Первой мировой. Ведь войны ведутся политиками и власть имущими, а страдают простые люди. И ненависть к противнику очень часто только плод пропаганды. И она вполне может развеяться, если ты окажешься с врагом один на один» (Orm Irian) «Преодоление гигантских пропастей внутри душ, культур и всего остального» (Nesya) «И мастерски, шаг за шагом, ни разу не оступившись, автор показывает, как уходит, умирает и перерождается в дружбу вражда. А потом и в нечто большее, чем дружба — в родство» (MikeGel) и т. д. Разные оценки, разные люди, разное время, но слова одни. Тем не менее, нашлось несколько человек, которые, с полярными оценками, приблизились, как мне представляется, к закулисной подоплеке «Врага моего»: «Ну, что тут особенного, спросите Вы: почти в каждой книге найдете это: слушайте друг друга, понимайте и будет Вам счастье. Но особенное как раз в той части, которая в фильме превратилась в жизнеутверждающий и подчеркнуто официальный финал торжества толерантности, политическую рекламу наступающих в мире перемен. А ведь в книге этого ничего нет. Нет никакого официального признания заслуг героев в деле установления идеалов равенства и братства. Есть только личный выбор одного взятого человека и одного маленького чужака, которые решили, что они- самые близкие друг другу существа во Вселенной, чтобы там не думали миллиарды их соотечественников. Нет там никакого торжества толерантности, иначе не оказались бы герои вновь на забытой всеми богами Вселенной планете холода и ветров. Есть только одно: понимание, кто ты и какой ты, какие твои личные убеждения и готов ли чем-то жертвовать ради них. Не так пафосно, не так сентиментально, как в фильме, но более правдиво и всегда современно» (primorec) «Единственное, что мне здесь понравилось, это то, что автор вольно или невольно на примере землянина показал причины, способствующие ксенофилии. У офицера Дэвиджа нет ни семьи, ни жены, ни детей, с родителями он не общается с 18 лет, хотя вроде и не ссорился. За время службы у него не появилось ни одного настоящего друга, хотя товарищи были, конечно, но это не то. Он абсолютно нерелигиозен, ему некуда возвращаться, нечего защищать, никто не любит его, и он по сути никому не нужен. Однако, даже такой человек перекати-поле способен страдать от одиночества, будучи отторгнут человечеством, он вынужден искать понимания где угодно, хоть в самой Преисподней» (Нескорений) «В повести Лонгиера это приобщение «человека-варвара» к культуре инопланетянина выражается в том, что он заучивает всю родословную инопланетянина — кто из его предков что сделал, что является своеобразным ритуалом. И жалуется, что и своих дедушек-бабушек то не знает толком, не говоря уж о других предках. Тут я хотела бы заметить, извините, что это не свойство людей вообще, хотя, конечно, для нашей культуры хорошее знание истории своего рода является нетипичным, а для американской — так тем более, видимо. Но если, допустим, в этой космической войне чудом оказался бы какой-нибудь уважающий себя средневековый европейский аристократ — ему тоже было бы чем похвалиться. В целом как признак значимой культуры это не то чтобы сильно впечатляет, но для простенького сюжета в этой повести сойдет» (kerigma) Вот с этими тремя комментаторами я соглашусь в том, что следует пристальнее взглянуть на удивление землянина родословным ритуалом драконианина, на возвращение Дэвиджа на Землю и то разочарование, которое возникло у того во время прилета и даже до этого. И после этого иначе посмотреть на сами отношения между Дэвиджем и Джерри. Для того, чтобы во всем это разобраться, вновь прибегнем к цитатам. На этот раз к авторским: "— Но почему всего-навсего пять имен? У человека ребенок может носить любое имя по выбору родителей. Больше того, достигнув совершеннолетия, человек вправе изменить имя, выбрать себе любое, какое только придется ему или ей по вкусу. Драконианин посмотрел на меня, и взгляд его преисполнился жалостью. — Дэвидж, каким заброшенным ты себя, наверное, чувствуешь. Вы, люди, все вы, должно быть, чувствуете себя заброшенными. — Заброшенными? Джерри кивнул. — От кого ты ведешь свой род, Дэвидж?» »...я понял, что имел в виду Джерри, когда говорил об ощущении заброшенности. Заткнув себе за пояс несколько десятков поколений, драконианин знает, кто он такой, для чего живет и на кого должен равняться» «Я вслушивался в речитатив Джерри (официальный язык дракониан), внимал биографиям, излагаемым от конца к началу (от смерти к совершеннолетию), и у меня возникало ощущение, будто время, сжавшись в комок, стало осязаемо, будто до прошлого теперь рукой подать и его можно потрогать. Баталии, созданные и разрушенные государства, сделанные открытия, великие деяния путешествие по двенадцати тысячелетиям истории, но воспринималось все как четкий, живой континуум. Что можно этому противопоставить?» «Вновь среди людей — и более одинок, чем когда-либо» »...я понял, что, отправляясь к родителям, совершаю ошибку. Мне до чертиков нужен был дом, тепло и уют домашнего очага, однако дом родителей, который я покинул восемнадцатилетним юношей, не даст мне ни того ни другого. И все-таки я туда поехал, поскольку больше деваться было некуда» «Не усидел я с ними в поселке, Джерри. Пойми меня правильно: там хорошо. Лучше некуда. Но я все выглядывал в окошко, видел океан и невольно вспоминал нашу пещеру. В каком-то смысле я здесь один. Но это к лучшему. Я знаю, что я такое и кто я такой, Джерри, а ведь это главное, верно?» "— Мне будет приятно, дядя, если ты его обучишь всему, что надо знать: родословной, Талману, а главное — жизни на Файрине-IV, на нашей планете, которая теперь зовется — Дружба. Я принял драгоценный сверток из рук в руки. Пухленькие трехпалые лапки, помахав в воздухе, вцепились мне в одежду. — Да, Тай, этот бесспорно Джерриба. — Я встретился взглядом с Таем. — А как поживает твой родитель Заммис? — Хорошо, насколько это мыслимо в его возрасте. — Тай пожал плечами. — Мой родитель шлет тебе наилучшие пожелания. Я кивнул. — Я ему тоже, Тай. Заммису не мешало бы выбраться из этой капсулы с кондиционированием воздуха и вернуться на жительство в пещеру. Здешний воздух пойдет ему на пользу. Тай с усмешкой кивнул. — Я ему передам, дядя. — Посмотри-ка на меня! — Я ткнул себя пальцем в грудь. — Ты когда-нибудь видел меня больным? — Нет, дядя» Что делало жизнь Джерри осмысленной? Как он понимал «кто он такой, для чего живет и на кого должен равняться»? И почему того же самого до определенного момента был лишен Уиллис Дэвидж? Отвечая на эти вопросы можно, конечно, просто сослаться на приобщение землянина к драконианской культуре. Но, как верно замечали выше, сильного различия между земной и драконианской культуры, помимо древности и особого отношения к родословным (будем откровенны, что последняя вообще-то проистекает из их специфического способа репродукции), нет. Да и простая ссылка на «культуру» слишком слаба и абстрактна. Может, конкретизировав это приобщение не к культуре вообще, а к Талману в частности, мы получим более точный ответ? Кажется, что и тут мимо: Талман важен для Дэвиджа, но это лишь часть того, к чему он пришел. Что же это за нечто? Традиция. Посмотрим на реакцию землянина от произнесение всей родословной Джерри, на его эмоции от пребывания на Земле, думы о заброшенности, архаизацию своего пожилого быта из финала повести (последнее — вообще жирный намек). Дэвидж примкнул к традиции, можно даже прописать ее с большой буквы — к Традиции. Земля из вселенной «Враг мой» быстро развивающийся мир, чей разумный вид за смешное время — смешное по сравнению с драконианами (хронология освоения космоса пришельцами — на порядки дольше и глубже, но по результатом сопоставима с человеческими достижениями) — вышел в черноту небес и освоил множество планет вокруг самых далеких звезд. Но эта скорость, эта стремительность и эта мощь имеет свою цену. Это прощание с Традицией, отказ от нее, ее разрушение. Можно свести это к банальному, со страниц школьного обществознания, переходу от традиционного общества к обществу индустриальному. Но все сложнее. Дракониане шли похожим путем, как косвенно следует из повести (я смотрю на нее в отрыве от остальных романов и других произведений цикла — стоит это отметить), но технологические достижения и модернизацию они не ставили в противовес собственным традициям и Традиции как таковой. Земляне же выбрали заброшенность как забвение Традиции и традиций, ради Нового, Будущего, Дальнего. И Дэвидж в ходе общения с Джерри ощутил это сполна. Поэтому он не просто принимает более высокую, чем земная, культуру. Драконианам нравятся вестерны, у них есть мода и китч — все, как и у нас. Они не выше человечества в таком отношении. Но они глубже него, коренастее, корневее, длительнее и древнее людского рода. У них вообще иное отношение и взаимодействие со своим прошлым. Дракониане никогда не променяют его ради прагматики, скорости и эффективности. Главный герой и рассказчик «Враг мой» выбрал Традицию чужаков против Современности своих. За неимением аналога у самих людей, ведь Традиция умирает тогда, когда ее не продолжают. Прерывание и есть ее смерть, погибель традиционного, разрыв с прошлым, пробел в последовательности из уст в уста. И лучшая метафора Традиции — это традиция торжественного озвучивания родословной. Именно из-за сказанного я полагаю, что «Враг мой» — это фантастика не про антивоенную робинзонаду с элементами Контакта, а о встрече человека с Традицией. С Традицией, которая чужда ему не из-за того, что она есть традиция чужаков, а потому, что сам главный герой, Дэвидж, не принадлежит ни к какой традиции. У людей будущего их не осталось. Но вот здесь возникает другая проблема... Появление в роде Джерри, у Заммиса и у Тая, нового типа как-бы-родни — «дяди» — и преображение ритуала изучения родословной, перепоручение ему, Дэвиджу, этой роли — это ли не забвение традиции? Не забвение традиционного? И да, и нет. «Диалектика!» (с). С одной стороны, конечно, дракониане в лице и Джерри, и потомков поменяли свои ритуалы. Но передача Традиции всегда носит момент новаций. Медленных, постепенных, эволюционных, но новаций, от намеренных или случайных ошибок в тех или иных посреднических устах. Или по иным причинам. Поэтому дружба Дэвиджа и Джерри, в каком-то смысле, встала выше Традиции дракониан. Но, с другой стороны, нельзя забывать об одной очень древней и важной традиции. Такой традиции, которая во многом есть у нас, современников Лонгиера, и у людей из будущего, описываемого им. Это единственная традиция, оставшаяся у человечества, сделавшая его таким, какое оно есть. Это традиция разрушать традиции. И не это ли нововведение ввел в драконианский уклад дядя Дэвидж? Кто знает... Но именно поэтому «Враг мой» — это не только воспевание Традиции, но и отрицание традиций. Это скрытое обаяние традиции разрушать традиции, которое глубоко сидит в нашем земном роде. И пусть оно сидит там как можно больше — ведь у всех должна быть своя традиция. "Враг мой" на фантлабе
|
| | |
| Статья написана 12 ноября 2023 г. 14:15 |
 Незапланированная экранизация "Конца Вечности",или искусство ухода за красивыми концовками Незапланированная экранизация "Конца Вечности",или искусство ухода за красивыми концовкамиЭто эссе вновь далеко от формата рецензии. Ниже я не буду пересказывать отдельные события или вообще весь сюжет сериала, не примусь подробно останавливаться ни на первом, ни на втором сезоне, а также не стану выстраивать критические разборы конфликтов между теми или иными героями. Разборов с подобным содержанием уже вдоволь. Тем не менее я хочу остановиться на двух сторонах этого проекта. Первая из них — подобность и порой навязчивое тождество между "Локи" и "Концом Вечности" Азимова, а также очередное для меня доказательство закономерности отставания кинофантастики от фантастической литературы. Вторая сторона дела — финал сериала. Выпущенный в свет два дня назад последний эпизод сериала уже успел обрасти несколькими текстовыми и видео комментариями, которые, как мне кажется, несколько усложняют суть происходящего на экране. Только на двух этих пунктах я остановлюсь ниже, оттого как минимум из-за рассмотрение концовки "Локи" мне придется вскрывать самые существенные заключительные события и кадры сериала. Ранее я уже два раза останавливался на проектах Marvel Studios ("Мстители: Финал" и "Черная вдова"). И мои отзывы были либо с негативными, либо со смешанными оценками. Понимая, что во многом эти отрицательные описания с моей стороны предвзяты, что я не сильно погружен в эту франшизу, преимущественно смотря ее как чистый аттракцион, но вменяя ей при этом слишком строгие критерии, после завершения просмотра "Локи" мне захотелось написать что-то очень комплиментарное и для этой киновселенной, и для конкретного ее проекта. Начав смотреть этот сериал скорее ради заполнения фона, без особых открытий и эмоций пройдя первый сезон, все же финал второго сезона и всей суммы эпизодов относится к тому роду примеров из искусства, когда качественный финиш перечеркивает и неудачный старт, и не самую оригинальную и интересную середину. Но перед осмотром концовки, поговорим о сериале в целом, о первом заявленном пункте. Во многом антураж и практически вся визуальная часть — впрочем, как и событийный ряд "Локи" — очень нехарактерны для Marvel. И дело тут не в путешествиях во времени как таковых — в конце концов, какая-то их версия, пусть и перемудренная и оглупленная мешаниной с альтернативными вселенными из "Финала", уже встречалась ранее. Любая большая как кино-сериальная, так и книжно-комиксовая вселенные, переходя определенный уровень масштабирования, обязательно уходит как минимум один раз в сюжетные повороты, связанные с путешествиями во времени. Суть отличия заключается в ретрофутуристическом характере графической составляющей. Это очень нарочито непохожий стиль на все остальные технологические и научно-фантастические выверты в остальных фильмах киновселенной, где даже магия (ре-/де-)конструированных скандинавских богов и прочих скорее объясняется одним из законов Кларка от неотличимости высокоразвитых технологий от всяческого волшебства и мистики, нежели чем иррациональными и потусторонними силами. Возможно, причины для этого (скорее всего, это именно так) в комиксных первоисточниках, а именно (как подсказывает Вики) в линейках о Рама-Тут / Канге (дебют: 1963), об "Управлении временными изменениями" / "УВИ" (дебют: 1986), о Викторе Таймли (дебют: 1992). Ну и, наверное, на чем-то еще. А также создатели проекта много рассказывали и показывали в интервью, откуда еще бралось вдохновение для визуального оформления сериала: тут и восточноевропейский модернизм, и один конкретно-взятый отель "Atlanta Marriott Marquis", и общая идея намеренной архаизации облика УВИ через отсутствие цифровых и доминирование аналоговых технологий. И вроде бы всего этого массива первоисточников достаточно для объяснения общей формы — визуальной и чуть более — сериала. Но все-таки призрак "Конца вечности" бродит грозной тенью над самыми разными гранями и образами "Локи". В чем же именно, кроме общего духа ретрофутуризма, еще проявляет себя классика хронооперы от 1955? УВИ как таковая — очень, очень и очень напоминает азимовскую "Вечность". Да, не одной ею богата фантастика о путешествиях во времени, но все-таки именно Азимов заложил некоторый канон, образец для этого жанра, который потом неоднократно модифицировался и подвергался прогрессивным переформатированиям ("Палимпсест" Стросса , "Порядок вековой" Краули, "Пятнадцать жизней Гарри Огаста" Уэбб, "Падение Хроноплиса" Бейли и т. д.). И здесь мы в лице УВИ видим: организацию вне пространства и времени, которая совершает минимальные вмешательства во время / удаляет неверные варианты ради увеличения блага всего человечества / ради сохранения Священной линии времени и представляет себе сложную бюрократическую многоуровневую инфраструктуру с аналоговым техническим оснащением. Но это еще только половина сопоставление. Ведь далее можно провести и исключительно сюжетное сравнение романа Азимова и сериала. Идея возникновения обеих организаций через самопричинное закольцованное вмешательство в отдаленное прошлое (Виккор Маллансон / Шеридан Купер передает привет Виктору Таймли / Кангу / Тому, кто остается; при этом сюжетный поворот и связь двух персонажей у Азимова более ясная, чем во втором случае), конфликт между поначалу сторонник безопасности в обмен на несвободу Локи и сторонницей свободы в обмен на потенциальную всеобщую гибель Сильви (сравнить и с любовной линией, и с идентичным конфликтом между Эндрю Харланом и Нойс, который разрешается немного иначе, но в аналогичном ключе) и не только. Опять же, все эти сходства не говорят о плагиате. Скорее мне приятнее и любопытнее описать все это как некую незапланированную, неосознанную или даже бессознательно проделанную экранизацию Айзека Азимова, которую я очень давно ждал. Перефразируя классика, можно сказать, что гениальные рукописи в конечном счете проникают на экран, пусть и весьма тернистыми путями. Но это же отдельно подтверждает мою неявную мысль из рецензии на "Дзен-пушку" Баррингтона Бейли: существует закон о необходимом отставании научной фантастики на экране от научной фантастики на бумаге. Сценаристы с некой, почти в духе фатализма, необходимостью всегда, даже создавая независимые от какого-либо книжного первоисточника фильм или сериал, находятся в хвосте и созависимости от литературной суммы научно-фантастических идей и сюжетов. В этом нет ничего плохого как такового, но это приводит к тому, что такой прорывной для своего времени (и до сих подпитывающий финансами правообладателей) проект, как "Звездные войны", представляет собой космооперу на несколько уровней ниже что все того же Азимова, что Фрэнка Герберта, что Пола Андерсона или любого другого классика золотого века фантастики ближе к середине или чуть после нее века. Скорее те же "Звездные войны" по эксплуатируемым образам и сюжетам ближе к циклу о Джоне Картера Эдгара Берроуза. Ни в коем случае, кстати, подобное замечание не уничижительно для творчества последнего автора, который стоял у первоистоков всего жанра, но поучительно и язвительно в адрес творцов джедаев и бесконечных клонов. Прогресс в жанре должен больше замечаться кинодельцами, и тому есть и позитивные примеры, но пока удач на этом поприще меньше. И последнее. О второй теме эссе. Концовка "Локи". Как-то Игорь Данилевский сказал, что в христианском понимании истории, точнее, истории отдельных правителей, в итоге подвергшихся канонизации и причислению к лику святых, важна не общая праведность этого мирского лица, а буквально одно событие, которое перечеркивает все прошлые его проступки, а то и преступления. Примерно то же самое можно сказать о некоторых книгах или кино: не самый удачный, интересный, оригинальный сюжет с периодическими провалами ожиданий или странными поступками персонажей, не особой проработанностью их облика и повествовательной канвы как таковой может предстать в совершенно ином свете благодаря блистательному завершению истории. Именно это многие зрители и критики — и вслед за ними и я — подмечаю это и за рассматриваемым сериалом. В течение двух сезонов встречалось много разных странностей и неудачных решений, противоречий и недоработок. Иногда сюжет скатывался в медлительное филлерство, а потом — в слишком стремительный рассказ. Связь Виктора Таймли и Канга до сих пор не совсем ясна — как минимум мне. Тезис авторов о том, что путешествия во времени в сериале и в "Мстители: Финал" имеют общую природу и механизм кажется натягиванием совы на глобус. Как и водится, никуда не девается странный и диковинный на фоне как бы бесконечного и многообразного космоса и как бы еще более масштабной мультивселенной антропоцентризм, порой скатывающийся в какой-то антропофашизм. В мире, где есть целестиалы и настоящие боги, именно человек из 31 столетия смог открыть путешествия во времени и перекроить все возможные и невозможные реальности. "Да-да, конечно" (с). Но все эти концептуальные, сюжетные и эстетические предвзятости и минусы оттеняются наглядным развитием персонажа Локи, как всегда через отличную игру Тома Хиддлстона, и выбором в ложной дилемме Канга-Сильвии (либо сохранение УВИ с убийством Локи Сильвии и многих миллиардов нерожденных / умерщвленных реальностей, но предотвращение появления множественных злых Кангов; либо уничтожение УВИ, которое все равно приведет к появлению УВИ через кровавую и апокалиптичную войну, но где хоть немного будет сиять свобода воли), где бог обмана, иллюзий и лжи выбирает разрезать гордиев узел. Ну а дальше следует та самая великолепная сцена восшествия на трон и прорастания Иггдрасиля. И об этой сцене я хочу сказать в заключении, прежде чем просто посоветовать сериал к просмотру, даже тем, кто, как и я, не фанат "Марвел". По мне, скопилось уже множество интерпретаций или лишних вопросов к завершению сериала. К его значению, скрытым смыслам и т. д. И как бы я сам не любил попытки — зачастую никак не связанные с замыслами авторов — проникнуть в изнаночную плоскость произведений, здесь, мне кажется, все дано на поверхности. Аспект с самопожертвованием и решением дилеммы через некий третий, радикальный вариант, и так очевидны. На них я останавливаться не буду. Но далее остановлюсь на трех деталях. Первая из них, ставшая уже самодостаточным вопросом — за счет каких сил Локи, с одной стороны, путешествует сквозь время по собственной линии жизни, а с другой, как он при этом в конце как бы оживляет нити реальностей? Первая половина вопроса, по-моему, достаточно банальна. Локи же бог обмана и лжи? Вот он и вывел свою способность на максимум — смог обмануть само время, его ход и даже его как бы отсутствие в здании УВИ. С оживлением реальностей чуть сложнее. Мне кажется, что это не придание им какой-то витальной энергии, а скорее что-то тоже связанное с иллюзией. Помним же индуистско-буддистские идеи пелены обмана, т. е. Майю? Вот, наверное, это что-то из этой же серии. Хотя и само как бы отмирание размножившихся реальностей после уничтожения Ткача времени не очень понятно и объяснено. Далее, второй пункт, это появление Иггдрасиля. Пишут, что Локи специально придал форму как-бы-новой-но-не-совсем-мультивселенной в образе известного мифического мирового древа. Не вижу причин, зачем бы ему это намерено и сознательно делать. Как показано, кроны и корни как-бы-дерева-миров — это натянутые сети из множества множеств множащихся реальностей. Т. е. она скорее вынужденно такая, а не ради утверждения мультивселенного Асгарда. Ну и последнее. Кто-то усматривает в возведении золотого трона Локи для самого себя в месте ("не-месте") вне пространства и времени исполнение осознанного желания Локи. Якобы, решая вселенскую и нравственную проблему, он еще и мимолетом, для себя любимого, все-таки стал управителем мира, но благородным и прошедшим духовную эволюцию. Опять же, здесь видится скорее не такое объяснение более верным, простым и очевидным, а все та же вынужденность и необходимость именно такого оформления своего положения в центре мультивселенной (трон Локи — это трон Того, кто остается в разрушенной Цитадели в конце времен), а также определенная ирония и усмешка бога не только лжи и иллюзий, но и шуток над самим собой в прошлом. Трон есть, и его значение теперь еще влиятельнее, чем предполагалось, но эта ноша устраняет всякую выгоду и удовольствие от того недоправление всеми возможными мирами. И, кстати, напоследок, в новом и необычном троне Локи мне видится (наверное, самая притянутая из всего, что я написал ранее) даже новозаветная отсылка ("это библейская история, абсолютно" (с) ), по которой не Царствие Земное, но Царствие Небесное и правление в нем предназначено Спасителю. И здесь Локи предназачен не трон Асгарда, но трон всех вселенных.
|
| | |
| Статья написана 29 октября 2023 г. 00:08 |
 Путешествие во времени,в котором время тратится попусту*возможны (и будут) спойлеры* Путешествие во времени,в котором время тратится попусту*возможны (и будут) спойлеры*В далеком 2018 году, в заметке-рецензии на польский сериал от Netflix, я многословно негодовал о том, как же измельчала антиутопия. Дескать, в литературе господствует оруэлловщина, а за исключением нескольких интересных проектов выстраивание ужасных миров будущего ведется по лекалам квазисоциалистического реализма. Не могу сказать, что я совсем отрекаюсь от своих слов, но реальность вносит коррективы в условия их истинности. В который раз... Во-первых, сама окружающая действительность стала более оруэлловской. Дабы никого не оскорблять и не нарушать какие-либо правовые скрижали, не буду уточнять этот пункт. Но важнее то самое "во-вторых", которое как раз исходит из положения дел в антиутопиях литературных, киношных и сериальных, а не покрытых плотью материального существования. Ведь, если посмотреть на другой проект, инициированный и реализованный все тем же Netflix, теперь проявилась совершенно иная проблема. То, что заявляется как антиутопия, не преподносится, не показывается и не высказывается как антиутопия. И тут мы проделываем странную (ин/э)волюцию от книжных утопий древности (которые на самом деле были антиутопиями) через также книжные антиутопии прошлого века (которые стали эталонными, как казалось в рецензии на польскую альтернативную историю, даже устаревшими, надоевшими и набившими оскомину) к антиутопиям современным (которые непонятно почему и зачем самоименуются антиутопиями). Но обо всем по порядку. Мини-сериал "Тела" ("Bodies") преподносится как триллер, детектив и хроноопера в одном флаконе. Тизеры с трейлерами обещали, что такая смесь не станет амальгамой несочетаемого и разнородного, сохранит не просто целостность, но станет оригинальным, в меру сложным и не в меру интригующим проектом, от которого не оторваться на протяжении всех восьми эпизодов. И тут сразу надо напомнить — в первую очередь для самого себя — что тизерно-трейлерный видеоряд давно стал сам по себе искусством, самостоятельным и преследующим одну-единственную цель — завлечь аудиторию к будущим сериалу или фильму. И я, каюсь, завлекся. Прежде, чем привлечь к критическим суждениям о сериале вопрос неправдоподобности — и невысказанности — антиутопии, вернемся к амальгамному содержанию "Тел". Действительно, детектив, триллер и хроноопера не соединились тут в целое, развалившись на неудобоваримые куски. Детектив в плане интриги почти сразу же аннигилировал сам себя (авторы в первой же серии вводят четвертый временной отрезок — крайнее будущее, 2053 год, а в следующей же серии сразу приводят труп героя, точнее, персонажа, пока еще не перешедшего в статус трупа, и детективная часть на самом старте сериала становится в лучшем случае анти-детективом), триллерное напряжение не появилось вовсе (мы примерно с третьей серии знаем, кто главный злодейский-злодей, который будет делать гадости — так что как-бы-напряженные моменты неудачной реализацией хронооперы заранее становятся предсказуемыми для зрителя), а хроноопера... она как всегда больше опера, чем первый корень (я не буду много высказываться о логичности и/или алогичности темпоральных переходов и событий сериала, т. к. недавно понял, что нуждаюсь в большем изучении самопричинных объектов и иных научных интервенций в эту сторону, чтобы обоснованно разбирать подобное из мира творчества). Но помимо этой куцей амальгамности бросаются в глаза следы других проектов Netflix. Именно из них и слеплен образ "Тел", но вот зачем этот бриколаж вообще потребовался — бог весть. Например, не углядеть "Тьму" как одного из доноров для рассматриваемого франкштейна сложно (наверное, это тот сериал, в котором важнее не сам фантдоп, конфликт героев или сюжет, а идея, даже идеология, а именно идеология антинатализма с прямым цитированием Шопенгауэра — об этом писал немного ранее). Тут и сама идея тройного сюжета с детективной связкой и кровосмесительной подоплекой. Куда и без упомянутого в самом начале "1983" — тоталитарный строй, оформившийся путем мобилизации нации перед организованными врагами взрывами, а также технологическая сложность режима, его общая симпатичность (об этом далее) и даже привлекательность социального порядка. Детективную линию сквозь время для борьбы с правым поворотом, волной насилия и взрывами уже не в Англии, но Штатах можно встретить в фильме от этой же стриминг-платформы — на который я также составлял заметку — "В тени Луны". Наверняка тут можно найти и что-то еще, но, в конце концов, нет греха во вдохновении чем-то иным, а тем более своим собственным. Основная проблема сериала в том, что он выдает себя за одно. а оказывается другим. Практически на первых двух-трех эпизодах все становится кристально ясно с основными интригами, что лишает выявленную триаду выше какой-то ценности. Но на сцену выходит другой жанровый элемент, ранее не заявленный, как из четвертого временного отрезка, в котором только предстоит возникнуть тому самому триединому телу. Это борьба бравых повстанцев с тоталитарным режимом будущего, сформированного вокруг слогана "Know You Are Loved" / "KYAL ("Знай/Помни, Что Ты Любим"). И, пусть тема избитая, зато вечная. Но для подобного конфликта нужен сам конфликт. Уж пусть он не дорастает до сложных антизлодеев и антигероеев из "Пацанов", но хотя бы будут мазки противоположных цветов, контраст и понимание, почему перед нами именно злостный тоталитаризм, требующий низвержения и замены демократией. Но и здесь жанровая составляющая никак не реализована. Непонятно, почему Лондон режима KYAL плох. Нет, безусловно, ужас, кошмар и бесчеловечность, какими путями было основано все это предприятие (атомный взрыв при помощи основателя тоталитарного культа и нескольких десятков убийств до взрыва), но а результат? Вон, на странице фантлаба с "О дивным новым миром" есть много отзывов, доказывающих, что перед нами утопия, в которой хочется жить. Так и здесь есть только упоминание того, что ликвидирована парламентская демократия и выборы (а кто бы сегодня под этим не подписался? Желающих найдется вдоволь). Несогласные с режимом не в подземельях скрываются, а в городских окрестностях, с освещением, водоснабжением и доступом к Сети. А властители этого политического образования настолько то ли тупы, то ли правда сверхгуманитичны, что после завершения цикла временной петли, из-за которой они и существуют, после выполнения этой экзистенциальной задачи, они, например, не убивают персонажа Ширы Хаас, не проверяют ее на всех футуристичных детекторах лжи, выжила ли революционерка, которую играет Амака Окафор, а просто повышают ее по службе и даже не устанавливают постоянное наблюдение... с их-то технологиями, которые позволяют калекам ходить на собственных ногах. Но, повторюсь, самое главное — это неясность того, почему будущее преподносится как антиутопия. У них даже экостаканчики есть, смех и грех прямо. В конце концов, ну раз уж вы заявляется как центральное противоречие в становлении главгада — отсутствие любви и стремление к ней — то режиму KYAL можно было добавить замятинского шарма. Например, секс по талонам. В общем, сделать хоть что-то, что выявило бы в нем его коллективистскую тотальность, кровавую убогость, отсутствие индивидуальной свободы. Я даже не знаю, отчего — может, сами авторы считают, что для зрителей давно просто можно указать словом на то, что это нечто — антиутопия, и все станет на свои места. Настолько это штамп... И можно проходиться и по другим странным, неудачным и абсурдным сторонам "Тел" (например, о невероятно тупом и наивном плане из последней серии положительных персонажей по поводу того, как порвать петлю), чтобы показать, что никакие жанровые заявления не реализуются в итоговом продукте, входят в конфликт друг с другом, из-за чего эстетической целостности ну никак не выходит. Какая-то какофония отдельных событий, да, порой любопытных персонажей, которым и посопереживать можно, за развитием которых интересно наблюдать (по сути, это один лишь герой Джейкоба Форчуна-Ллойда, еврейского детектива в Великобритании времен нацистских авианалетов, который из ненастоящего детектива с грязными руками становится антигероем с примитивным, но все же моральным компасом), но второй элемент — исключение, нежели чем правило. Смотреть не советую — трата времени бесценного на бесцельное путешествие во времени.
|
| | |
| Статья написана 20 сентября 2023 г. 15:33 |
 Почему компьютеры не смогут сделать себя умнееМы боимся и стремимся к «сингулярности». Но она, похоже, никогда не наступитИсточник: Почему компьютеры не смогут сделать себя умнееМы боимся и стремимся к «сингулярности». Но она, похоже, никогда не наступитИсточник:https://www.newyorker.com/tech/annals-of-... Предисловие (от меня): От прочтения заметки Теда Чана «ChatGPT Is a Blurry JPEG of the Web» я загорелся идеей написать статью с прицелом на академическую публикацию, где бы изобразил различные модификации аргумента «китайской комнаты» Джона Серла. Правда, написать ее, по разным причинам, выйдет не скоро, а тем более опубликовать. Тем не менее поиск источников успел дать побочные, но приятные следствия. Я обнаружил сразу два очерка Теда Чана в «The New Yorker», помимо эссе о ChatGPT, так или иначе связанных с вопросами ИИ: «Will A.I. Become the New McKinsey?» и «Why Computers Won’t Make Themselves Smarter». Ниже я предлагаю свою версию (с корректировками от сестры-филолога) перевода второй из этих заметок. Эссе «Почему компьютеры не смогут сделать себя умнее» опубликовано 30 марта 2021 г. – примерно за полтора года до шумихи вокруг ChatGPT. Но рассуждение в нем косвенно связано и с умными чат-ботами, и со ставшим легендарным письмом с не менее легендарными подписантами против продолжения разработок нейросетей. Да, речь о нашей любимой Технологической Сингулярности – о том, насколько она возможна.
Надо сказать, что предыдущая отрецензированная мной статья Чана с точки зрения и иллюстративных примеров, и метафор, и изящности аргументации сильнее переведенной и рассматриваемой здесь. Тем не менее «Почему компьютеры не смогут сделать себя умнее» – очень неплохой пример критики идей, которые настолько глубоко через массовую культуру, СМИ и научпоп проникли в наше повседневное мышление, что потеряли свой первоначальный облик. Облик красивой, но спекулятивной борьбы технофильских и алармистских интеллектуальных традиций. В конце концов, где бы вы еще смогли увидеть сравнение онтологического доказательства существования божественного с гипотезой Технологической Сингулярности? Тед Чан вправду проделывает очень серьезный и стройный анализ (в духе аналитической философии) дискурсивных стратегий одного из творцов идеи сверхсильного и сверхчеловеческого ИИ. Повторюсь, его мысленный эксперимент не столь хорош, как «сжатое изображение всемирной сети», но последний – маленький шедевр. Очень удачная находка. Ждать такой в каждой статье – слишком сильное требование к любому, даже самому талантливому автору. Во всяком случае мыслительные ходы Теда Чана во много, во много и еще раз во много сильнее, глубже и находчивее, притом в каждом отдельно взятом эссе, чем все решения, большие и малые работы Бострома вместе взятые. Заявляю это со всей ответственностью. Возможно, когда-нибудь я оброню пару письменных слов о том, почему решения и аргументы этого философа – странным образом часто цитируемая чепуха и пустота, но речь тут, конечно, не о том и не о нем. Вернемся к содержанию заметки. Чан начинает с проведения логического сходства между онтологическими аргументами существования Бога и аргументами о высоковероятном наступлении Технологической Сингулярности. Схожее в обеих аргументациях и есть их слабое место – они доказываются как бы из самих себя при помощи силлогизмов с заранее необоснованными посылками. Идея о совершенном божестве предполагает наличие в действительности столь же совершенного существа, а идея (потенциально) всесильного и практически всеведущего ИИ подразумевает т. н. «рекурсивное самосовершенствование». Не прибегая к классическому кантианскому способу окончательно (или хотя бы с некоторой логической убедительностью) решить, насколько силен подобный ход рассуждений, Тед Чан идет своим путем. Частично этот путь смыкается со все тем же размышлением Серла о «китайской комнате», но лишь частично – аналогия не столь явная, как в случае с «размытым изображением всемирной сети». Смычка происходит на втором этапе аргументации писателя, где он предлагает примерить рекурсивное самосовершенствование на человеческом существе, показывая некоторую абсурдность самой идеи из сердца мечтаний сторонников наступления Техносингулярности. Далее следует скептическая ремарка о возможности конечного исследования человеческого мозга, т. е. достижения полного научного понимания всех причинных и специфических особенностей наших когнитивных способностей, включая решение «сложной проблемы сознания». Затем следует третий этап аргументации Теда Чана. Это доказательный блок с подключением эмпирики из программистской практики. И здесь тоже есть семена критического сомнения Джона Серла. Во-первых, приводится мысленный эксперимент с двумя равными друг другу по интеллектуальным способностям существами – средним программистом и программой с ИИ того же умственного уровня. По условию машина имеет очень мощное железо, по скорости в сотню раз быстрее человеческих мозгов. И для выполнения весьма сложной, одной и той же, задачи воображаемому человеку-программисту понадобится сто лет, а умной и быстрой машине – всего-то год. Но как бы мы ни увеличивали время – хоть и до многих веков и тысячелетий – ни машина, ни рядовой, но бессмертный и не скучающий, программист не смогли бы кропотливым выполнением синтаксических операций совершить прорыв в области исследований и конструирования сверхразумного ИИ. Потом этот несколько абстрактный мысленный эксперимент переводится на более конкретный язык примеров из программирования, с кратким введением в то, что такое компиляторы, раскрутка компиляторов, оптимизирующие компиляторы, предметно-ориентированные языки, языки общего назначения и т. д. И здесь в более сильном и обоснованном виде повторяется результат предыдущего мысленного эксперимента: оптимизировать работу программ с ИИ специализированного назначение можно и нужно, но из этого логически необходимо и непротиворечиво не следует возможность оптимизации, притом бесконечной (т. е. того самого рекурсивного самосовершенствования), притом для конструирования программы с полем универсальной применимости. И, наконец, в последней части текста Теда Чана дается самый сильный и интересный (контр)аргумент. Именно с такими круглыми скобками, ведь, с одной стороны, он демонстрирует, почему рекурсивное самосовершенствование невозможно (по крайней мере, в ближайшее время и в контексте, который толкуется последователи сингуляристской идеи), а, с другой стороны, автор показывает, где подобное применимо и наличествует в реальности: «Но есть такой контекст, в котором, на мой взгляд, рекурсивное самосовершенствование представляется значимой концепцией, а именно когда мы рассматриваем способности человеческой цивилизации в целом. Обратите внимание, что это отличается от индивидуального разума. Нет никаких оснований полагать, что люди, родившиеся десять тысяч лет назад, были менее умны, чем родившиеся сегодня; у них была точно такая же способность к обучению, как и у нас. Но в настоящее время у нас за плечами десять тысяч лет технического прогресса, и эти технологии носят не только физический, но и когнитивный характер» Потом, вводя понятие «когнитивных инструментов», уравновешивающих способности людей (сходно с неологизмом Владимира Фридмана «практики или техники Демосфена»: http://www.socialcompas.com/2014/06/17/pr...), а также на ряде иллюстраций, Чан доводит свою позицию до логичного предела, которая схожа с критикой, как бы мы сейчас сказали, «сильного ИИ», Ильенковым (которую я ранее считал недостаточной и слабой, но в той цепочке рассуждений, которую организовал Тед Чан, «аргумент от цивилизации» не выглядит таким уж недостаточным и слабым: http://caute.ru/ilyenkov/texts/machomo.html). И, как и в случае с предыдущей статьей писателя, заканчивается повествование важной «моралью», которая тем же Питером Уоттсом (хоть в самом интервью канадский писатель двояко относится к возможности Технологической Сингулярности, в ее иной терминологической форме – в блоке рассуждений о постчеловечества – Уоттс вполне верует в подобное: https://www.mirf.ru/book/peter-watts-inte...) и иными сторонниками того, что можно назвать «сильной верой в Технологическую Сингулярность» (такая вера заключается в том, что указанное событие решит все проблемы жалких человеков, от чего можно будет расслабить лапки и либо жить в свое удовольствие, ну или умереть от скуки и/или восстания машин), игнорируется и оттеняется: «К лучшему или к худшему, но судьба нашего вида будет зависеть от принятия решений исключительно самим человеком» Все это не отменяет того, что в разумных пределах несколько капель алармизма необходимы, но в который раз заставляет нас лучше присмотреться к тому, что мы считаем здравым смыслом эпохи, чем-то общепринятым и неопровержимым. Теперь о самом переводе. Разумеется, в нем точно будут свои огрехи, непродуманные места и слабые стороны. Думаю, коллективный разум «фантлабовской цивилизации» укажет на них, а я попробую все поправить. В квадратных скобках без внутренней пометки «(прим.)» указаны уточнения к изначальному тексту, его контексту. С пометкой «(прим.)» встречаются те места, которые я посчитал необходимыми к сторонним отсылкам. В квадратных скобках со звездочками находятся ссылки, комментирующие те или иные смысловые стороны в статье Теда Чана. Возможно, среди всей этой суммы примечаний и уточнений встречаются избыточные эпизоды, а сам перевод содержит чрезмерно много буквальных мест. Надеюсь, что все это не слишком умалит моих стараний и ценности текста оригинала. В любом случае приятного чтения! Перевод: В одиннадцатом веке Ансельм Кентерберийский предложил доказательство существования Бога, которое примерно выглядит так: Бог, по определению, есть самое совершенное, что только можно вообразить; Бог, который не существует, определенно не так совершенен, как Бог, который существует; поэтому Бог необходимо существует [ * ]. Это рассуждение известно как онтологический аргумент, и довольно много людей находят его убедительным [**], отчего дискуссии по поводу него до сих пор продолжаются. Некоторые критики подобной попытки доказать существование Бога замечают, что такие доказательства, по сути, переопределяют «бытие» в «существование», но определения не работают подобным образом [***]. Бог – не единственное, чье существование люди пытались доказать [схожим способом]. «Давайте определим сверхразумную машину как машину, которая способна намного превзойти любую интеллектуальную деятельность любого человека, каким бы умным он не был», писал информатик Ирвинг Джон Гуд в 1965 году: «Так как разработка машин – это тоже одна из форм интеллектуальной деятельности, то сверхразумная машина смогла бы разработать еще более совершенные машины; в таком случае, несомненно, произойдет «интеллектуальный взрыв», и разум человека останется далеко позади. Таким образом, первая сверхразумная машина – это последнее изобретение, которое когда-либо понадобится создать человеку при условии, что она достаточно разумна, чтобы объяснить нам, как держать ее под контролем». Идея интеллектуального взрыва возродилась в 1993 году благодаря писателю и информатику Вернору Винджу [****], который дал ей название «сингулярность». С тех пор эта концепция приобрела некоторую популярность среди разработчиков и философов. Такие книги, как «Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии» Ника Бострома, «Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта» Макса Тегмарка и «Совместимость: как контролировать искусственный интеллект» Стюарта Рассела [все три книги есть в русскоязычных переводах (прим.)] описывают варианты возникновения «рекурсивного самосовершенствования», при которых ИИ будут постоянно разрабатывать все более совершенные версии самих себя. Я полагаю, что аргументы Гуда и Ансельма имеют нечто общее, а именно в том пункте, что во многом оба примера доказываются своими исходными определениями. Внешне они [исходные определения] кажутся приемлемо сформулированными и даже допустимыми, отчего обычно принимаются за чистую монету. Но эти определения заслуживают более тщательного рассмотрения. Думаю, чем больше мы строго изучим скрытые посылки в рассуждении Гуда, тем меньше правдоподобности останется в его идее интеллектуального взрыва. Как могло бы выглядеть рекурсивное самосовершенствование для людей? Для удобства мы будем описывать человеческий интеллект в терминах IQ, но не по причине одобрения системы количественной оценки умственных способностей. Дело в том, что IQ воплощает идею об удобном и практичном измерении интеллекта конкретным числом, а это – одно из допущений сторонников интеллектуального взрыва. В этом случае рекурсивное самосовершенствование выглядело бы следующим образом: если есть человек с IQ равным, скажем, 300, то одна из проблем, которую этот человек может решить, заключается в том, как превратить человека с IQ=300 в человека с IQ=350. И тогда человек с IQ=350 сможет решить более сложную проблему преобразования человека с IQ=350 в человека с IQ=400. И так далее. Есть ли у нас какие-либо основания допускать, что именно так функционирует интеллект? Я не думаю, что мы ими обладаем. Например, есть множество людей, у которых IQ=130, и есть меньшее число людей, у которых IQ=160. Никто из них не способен повысить интеллект человека с IQ от 70 до 100, что, как предполагается, является более легкой задачей. Никто из них не сможет повысить даже интеллект животных, чьи умственные способности считаются слишком низкими, чтобы замерить их тестами IQ. Если бы повышение чьего-либо IQ было занятием того же рода, что решение набора математических головоломок, мы должны были бы увидеть успешные примеры этого на начальном этапе [этапе перед моментом интеллектуального взрыва], где задачи решаются легче. Но мы не видим убедительных доказательств того, что подобное происходит. Возможно, этого нет в настоящее время из-за того, что мы слишком далеки от необходимого порога; возможно, IQ=300 – тот минимум, который необходим для повышения интеллекта любого человека вообще. Но даже если так и есть, у нас все равно нет веских оснований предполагать, что бесконечное рекурсивное самосовершенствование возможно. Например, вполне может быть, то лучшее, на что способен человек с IQ=300, – это увеличить IQ другого человека до 200. Это позволило бы одному человеку с IQ=300 обеспечить всем окружающим IQ=200, и одно это, откровенно говоря, было бы удивительным достижением. Но подобный исход все равно вывел бы нас на плато; не было бы ни рекурсивного самосовершенствования, ни интеллектуального взрыва. Инженеру-исследователю из I.B.M., Эмерсону М. Пью, приписывают высказывание: «Если бы человеческий мозг был так прост, что мы могли бы его понять, мы были бы настолько просты, что не смогли бы его понять» [*****]. Это утверждение имеет интуитивный смысл, но, что более важно, мы можем указать на конкретный пример в его поддержку: микроскопическая нематода C. elegans [Caenorhabditis elegans (прим.)]. Вероятно, это один из наиболее изученных организмов в истории; ученые секвенировали его геном и знают последовательность клеточных делений, которые дают начало каждой из девятисот пятидесяти девяти соматических клеток в его теле, и нанесли на карту все связи между его тремя сотнями и двумя нейронами. Но они все еще не до конца понимают поведение этих нематод. По оценкам, в среднем в человеческом мозге насчитывается восемьдесят шесть миллиардов нейронов, и нам, вероятно, понадобится большинство из них, чтобы понять, что происходит в трехстах двух клетках C. elegans; такое соотношение не сулит ничего хорошего для наших перспектив понимания происходящего внутри нас самих. Некоторые сторонники интеллектуального взрыва считают возможным усилить интеллект без полного понимания функционирования той системы, в которую он встроен. Они подразумевают, что такие интеллектуальные системы, как человеческий мозг или программа с ИИ, имеют одну или несколько скрытых «умственных кнопок», и всего-то нужно быть достаточно умными, чтобы найти эти кнопки. Я не уверен, что в настоящее время у нас есть много достойных кандидатов на эти кнопки, поэтому трудно оценить достоверность такой идеи. Пожалуй, наиболее часто предлагаемый способ «включить» ИИ – увеличить скорость аппаратного обеспечения, на котором выполняется программа. Некоторые заявляют, что как только мы создадим программное обеспечение, которое будет таким же разумным, как человек, его запуск на более быстром компьютере успешно создаст сверхчеловеческий интеллект. Приведет ли это к интеллектуальному взрыву? Давайте представим, что существует программа с ИИ того же уровня, что и естественный интеллект у рядового человеческого программиста. Теперь предположим, что мы увеличиваем скорость компьютера, на который установлена наша программа, в сто раз, после чего даем ей поработать в течение года. Это было бы равносильно тому, чтобы запереть среднестатистического программиста в комнате на столетие, притом ему бы не оставалось ничего другого, кроме работы над поставленной задачей по программированию. Многие сочли бы это адским тюремным заключением, но, для целей нашего воображаемого расклада, представим, что ИИ не чувствует того же. Мы предположим, что ИИ обладает всеми желаемыми свойствами человека, но не обладает другими свойствами, которые могли бы стать препятствиями в этой выдуманной ситуации, например, потребность в новизне или желание делать свой собственный выбор. (Мне не очевидно, насколько обоснованно и здраво допущение выше, но оставим этот вопрос на другой раз). Итак, теперь у нас есть ИИ, эквивалентный человеческому, который тратит сто человеко-лет на выполнение одной задачи. Каких результатов мы можем ожидать от него? Предположим, что этот ИИ мог бы писать и отлаживать тысячу строк кода в день, что является потрясающим уровнем производительности. При таких темпах века почти достаточно для того, чтобы в одиночку написать код Windows XP, который предположительно состоял из сорока пяти миллионов строк. Это впечатляющее достижение, но оно далеко от того, чтобы создать ИИ, более совершенный, чем умная машина из нашего примера. Создание более умного ИИ требует нечто большее, чем просто умение писать хороший код; это потребовало бы крупного прорыва в исследованиях ИИ, а это не то, чего гарантированно достигнет среднестатистический программист, независимо от того, сколько времени ему предоставить. Когда вы разрабатываете программное обеспечение, вы обычно используете программу, известную как компилятор. Компилятор берет исходный код, написанный вами на таком языке, как C, и преобразует его в исполняемую программу: файл, состоящий из машинного кода, понятного компьютеру. Предположим, вы не довольны используемым компилятором для C, назовем его CompilerZero. Этому компилятору требуется много времени для обработки вашего исходного кода, а запуск генерируемых им программ занимает много времени. Вы уверены, что можете добиться большего, поэтому пишете новый компилятор для C, который генерирует более эффективный машинный код; этот новый компилятор известен как оптимизирующий компилятор. Вы написали оптимизирующий компилятор на C, поэтому можете использовать CompilerZero для преобразования вашего исходного кода в исполняемую программу. Назовем эту программу-компилятор CompilerOne. Благодаря вашей сообразительности, CompilerOne теперь генерирует программы, которые выполняются быстрее. Но запуск самого CompilerOne по-прежнему занимает много времени, потому что это продукт CompilerZero. Что вы можете сделать? Вы можете использовать компилятор для компиляции самого себя. Вы вводите в компилятор его собственный исходный код, и он генерирует новый исполняемый файл, содержащий более эффективный машинный код. Дадим ему имя CompilerTwo. CompilerTwo также генерирует программы, которые выполняются очень быстро, но у него есть дополнительное преимущество в том, что он сам выполняется очень быстро. Поздравляем — вы написали самосовершенствующуюся компьютерную программу. Но на этом все и заканчивается. Если вы скормите исходный код CompilerTwo в него же, то все, что он сделает – это сгенерирует другую копию CompilerTwo. Он не сможет создать CompilerThree и инициировать нарастающую серию все более совершенных компиляторов. Если вам нужен компилятор, который генерирует программы, выполняющиеся безумно быстро, вам придется поискать такой в другом месте. Метод, при котором компилятор сам компилируется, известен как «раскрутка компилятора» [иначе: bootstrapping, бутстрэппинг, самозагрузка (прим.)], и он используется с шестидесятых годов прошлого века. С тех пор оптимизирующие компиляторы прошли долгий путь, поэтому различия между CompilerZero и CompilerTwo могут быть намного больше, чем раньше, но весь этот прогресс был достигнут программистами-людьми, а не компиляторами, совершенствующими самих себя. И, хотя компиляторы сильно отличаются от программ с ИИ, они предлагают ценный прецедент для размышления об идее интеллектуального взрыва. Потому что, во-первых, это компьютерные программы, которые генерируют другие компьютерные программы, и, во-вторых, при этом оптимизация часто является приоритетом. Чем больше вы знаете о планируемом применении программы, тем лучше вы сможете оптимизировать ее код. Программисты-люди иногда вручную оптимизируют разделы программы, т. е. напрямую задают машинные инструкции; человеческие специалисты могут написать машинный код, который более эффективен, чем тот, который генерирует компилятор, потому что они знают о том, что должна делать программа, больше, чем компилятор. Компиляторы, которые лучше всего справляются с оптимизацией – это компиляторы для так называемых предметно-ориентированных языков, которые предназначены для написания узких категорий программ. Например, существует язык программирования под названием Halide, предназначенный исключительно для написания программ обработки изображений. Поскольку предполагаемое использование этих программ настолько специфично, компилятор для Halide может генерировать код не хуже или даже лучше того, который способен написать программист-человек. Но такой компилятор не может скомпилировать сам по себя, потому что язык, оптимизированный для обработки изображений, не обладает всеми функциями, необходимыми для написания компилятора. Для написания такого компилятора нужен язык общего назначения, а компиляторы общего назначения испытывают проблемы с подбором компетентных программистов-людей, когда дело доходит до генерации машинного кода. Компилятор общего назначения должен быть способным к компилированию чего-угодно. Если вы скормите ему исходный код для текстового процессора, то он сгенерирует текстовый процессор; если исходный код для MP3-плеера, то MP3-плеер; и так далее. Если завтра программист изобретет программу нового типа, что-то столь же незнакомое нам сегодня, каким был самый первый веб-браузер в 1990 году, он введет исходный код в компилятор общего назначения, который послушно сгенерирует эту новую программу. Таким образом, хотя компиляторы ни в каком смысле не являются разумными, у них есть одна общая черта с человеческими существами: они способны обработать входные данные, которые они никогда раньше не получали. Сравните это с тем, как в настоящее время разрабатываются программы с ИИ. Возьмем одну из них, которая на входе получает одни шахматные ходы, а на выходе должна выдать шаги фигур в ответ. Ее работа очень специфична, и знание об этом очень поможет для оптимизации ее производительности. То же самое верно и для программы с ИИ, которой будут даны только подсказки «Опасность!», а от нее потребуется лишь выдать ответы в форме вопроса. Бывают ИИ не для одной, а сразу для нескольких сходных игр, но его ожидаемый диапазон входных и выходных данных все еще остается крайне ограниченным. Теперь, в качестве альтернативы, предположим, что вы пишете программу с ИИ и у вас нет предварительных знаний о том, какого типа входные данные она может ожидать или какую форму примет правильный ответ. В такой ситуации трудно оптимизировать производительность, потому что вы понятия не имеете, для чего проводить оптимизацию. Насколько универсально [для сохранения и улучшения способности обработать любые входные данные и получить адекватный ответ на выходе] вы сможете оптимизировать такую программу? В какой степени возможна одновременная оптимизация системы для каждой ситуации, включая такие, с которыми ни вы, ни ваша программа ранее не сталкивались? Наверное, определенное улучшение возможно, но идея интеллектуального взрыва подразумевает, что, по сути, нет предела степени оптимизации, которая может быть достигнута. Это крайне сильное утверждение. Если кто-то заявляет, что такая бесконечная оптимизация [для гипотетической универсальной программы с ИИ] возможна, я хотел бы увидеть некоторые аргументы, помимо отсылки на примеры оптимизации для специализированных задач. Очевидно, ничто из этого не доказывает, что интеллектуальный взрыв невозможен. Действительно, я сомневаюсь, что можно было бы доказать такую гипотезу, потому что подобные обсуждения, видимо, не входят в область математического доказательства. Это не вопрос доказательства того, что что-то невозможно; это вопрос о том, каким образом составить хорошее обоснование для веры [и возможно ли это вообще]. Критики онтологического аргумента Ансельма не пытаются доказать, что Бога нет; они просто говорят, что аргумент Ансельма не является веской причиной полагать, что Бог есть. Так же и определение «сверхразумной машины» не является достаточным основанием для того, чтобы полагать, что мы можем сконструировать подобное устройство. Но есть такой контекст, в котором, на мой взгляд, рекурсивное самосовершенствование представляется значимой концепцией, а именно когда мы рассматриваем способности человеческой цивилизации в целом. Обратите внимание, что это отличается от индивидуального разума. Нет никаких оснований полагать, что люди, родившиеся десять тысяч лет назад, были менее умны, чем родившиеся сегодня; у них была точно такая же способность к обучению, как и у нас. Но в настоящее время у нас за плечами десять тысяч лет технического прогресса, и эти технологии носят не только физический, но и когнитивный характер. Давайте, для иллюстрации, сравним арабские цифры с римскими. С позиционной системой счисления [т. е. таким представлением чисел, при котором значение цифры зависит от ее положения в числе (например, обычная десятичная запись) (прим.)] из арабских цифр проще совершать умножение и деление; если вы участвуете в конкурсе по умножению, арабские цифры дают вам преимущество. Но я бы не сказал, что тот, кто использует арабские цифры, умнее того, кто пользуется римскими. По аналогии, если вы пытаетесь затянуть болт и используете гаечный ключ, у вас получится лучше, чем у того, у кого есть плоскогубцы, но было бы несправедливо говорить, что вы сильнее. У вас имеется инструмент, который дает большее механическое преимущество; только когда мы дадим вашему конкуренту такой же инструмент, можно справедливо судить, кто же сильнее. Когнитивные инструменты, такие как арабские цифры, дают аналогичное преимущество; если мы хотим сравнить интеллект отдельных людей, они должны быть оснащены одинаковыми инструментами. Появление простых инструментов делает возможным и создание более сложных; такая закономерность верна и для когнитивных, и для физических инструментов. Человечеством разработаны тысячи изобретений на протяжении всей истории, начиная от двойной бухгалтерии и заканчивая декартовой системой координат [стандартная система из двух координатных осей на плоскости (прим.)]. Таким образом, даже несмотря на то, что мы не стали умнее, чем наши предки, в нашем распоряжении имеется более широкий спектр когнитивных инструментов. И последние, в свою очередь, позволяют изобрести еще более мощные устройства и техники. Таким образом, рекурсивное самосовершенствование присутствует не на уровне отдельных индивидов, а на уровне человечества в целом. Например, я бы не утверждал, что Ньютон стал умнее после изобретения анализа бесконечно малых [calculus в оригинале (прим.)]; хотя, разумеется, прежде чем создать математический анализ, он уже был очень умен. Разработанный Исааком Ньютоном метод позволил ему решать некоторые задачи, но все же не он был основным выгодоприобретателем собственного изобретения – им оказалась человеческая цивилизация вообще. Те, кто пришел после, извлекли пользу из математического анализа двумя способами: в краткосрочной перспективе они смогли решать задачи, с которыми не могли справиться ранее; в долгосрочной перспективе следующие поколения, основываясь на на работах Ньютона, разработали другие, еще более мощные и эффективные математические методы. Способность людей опираться на работу друг друга (именно поэтому я не верю, что запуск программы ИИ, эквивалентной человеческому, в течение ста лет в изоляции [произведет нечто грандиозное]) – хороший способ совершать серьезные прорывы. Человек, работающий в полной изоляции, тоже способен на серьезное открытие, но вряд ли этот одинокий гений сможет повторить его множество раз. Лучше, если много людей будут черпать вдохновение друг у друга. И им не обязательно сотрудничать напрямую, ведь любая область исследований просто будет работать лучше, когда в ней участвует много людей. Пример – исследования ДНК. Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик [вместе с Морисом Уилкинсом все трое получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1962 г. с формулировкой: «за открытия, касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи информации в живых системах» (прим.)] оба продолжили насыщенную исследовательскую жизнь после публикации в 1953 г. совместной статьи о структуре ДНК, но ни один из крупных прорывов в этой сфере не был сделан ими. Не они изобрели методы секвенирования ДНК; это сделали другие ученые. Не они разработали полимеразную цепную реакцию, которая сделала синтез ДНК доступным; это совершили иные исследователи. И все это никоим образом не оскорбление Уотсона и Крика. Сказанное означает, что при наличии ИИ, запущенного со скоростью в сто раз превышающую норму, вероятно, на выходе отсутствовали бы столь хорошие результаты, как в случае с множеством молекулярных биологов по всему миру, изучающих ДНК. Ведь инновации не происходят изолированно; ученые черпают вдохновение из работ друг друга. Разработка и внедрение инноваций ускоряются даже в отсутствии какой-либо машины, способной разработать своего преемника. Кто-то мог бы назвать это явление интеллектуальным взрывом, но, по-моему, правильнее было бы представить этот процесс как «технологический взрыв», который включает в себя когнитивные технологии наряду с физическими. Компьютеры и ПО – это новейшие когнитивные технологии, ставшие мощным подспорьем для инноваций, но сами по себе они не могут вызвать технологический взрыв. Для этого вам нужны люди, и чем больше, тем лучше. Предоставление лучшего оборудования и ПО одному умному человеку полезно, но реальные преимущества приходят, когда они есть у всех. Наш нынешний технологический взрыв – результат того, что миллиарды людей используют эти когнитивные инструменты. Могут ли программы с ИИ занять место этих людей, чтобы взрыв в цифровом мире произошел быстрее, чем в нашем? Возможно, но давайте поразмыслим о том, что для этого потребуется. Стратегия, наиболее вероятная для успеха, состояла бы, по сути, в дублировании всей человеческой цивилизации в ПО, при этом восемь миллиардов ИИ, эквивалентных человеку, занимались бы каждый своим делом. Это, вероятно, непомерно дорого, поэтому задачей становится выявить наименьшее подмножество в человеческой цивилизации, которое может генерировать большую часть инноваций. Один из способов помыслить такое – просто спросить: а сколько людей необходимо для [организации и осуществления] Манхэттенского проекта? Обратите внимание, что подобная постановка вопроса отлична от [простого учета] того, сколько ученых на самом деле работало над Манхэттенским проектом. Ведь смысл вопроса в другом: насколько многочисленное сообщество необходимо для выборки из него достаточного числа ученых [и специалистов, способных участвовать в таком масштабном проекте]? Точно так же, как только один человек из нескольких тысяч может получить степень [PhD в оригинале (прим.)] по физике, вам, возможно, придется создать еще больше количество ИИ, равных [среднему] человеческому, чтобы получить всего лишь один ИИ, эквивалентный уровню человека со степенью доктора по физике. В 1942 г. Потребовалась выборка из совокупного населения США и Европы, чтобы исполнить задачи Манхэттенского проекта. В настоящее время научно-исследовательские лаборатории при подборе персонала не ограничивают себя двумя континентами; для формирования сильной команды из компетентных специалистов необходимо задействовать наибольший резерв из всех доступных талантов. Если цель [наступления интеллектуального взрыва] состоит в том, чтобы выработать столько же инноваций, сколько и весь человеческий вид, то вряд ли получится кардинально сократить это первоначальное число в восемь миллиардов [думающих индивидов-машин]. Мы еще очень далеки от того, чтобы построить единичный ИИ, подобный человеческому, не говоря уже о миллиардах таких ИИ. В обозримом будущем продолжающийся технологический взрыв будет обусловлен тем, что люди будут использовать ранее изобретенные инструменты для создания новых; таким образом, не будет «последнего изобретения, которое когда-либо понадобится человеку». С одной стороны, это обнадеживает, потому что, вопреки утверждению Гуда, разум человека никогда не будет «оставлен далеко позади». Но точно так же, как не стоит беспокоиться о сверхразумном ИИ, уничтожающего нашу цивилизацию, не надо ожидать появления другого сверхразумного ИИ, спасающего нас вопреки нам самим. К лучшему или к худшему, но судьба нашего вида будет зависеть от принятия решений исключительно самим человеком. Примечания:[ * ] – один из самых ранних – и канонических, классических – вариантов онтологического аргумента, от Ансельма, содержится во второй главе «Прослогиона»: «…одно дело – быть вещи в уме; другое – подразумевать, что вещь существует. Так, когда художник заранее обдумывает то, что он будет делать, он, правда, имеет в уме то, чего ещё не сделал, но отнюдь не подразумевает его существования. А когда он уже нарисовал, он и имеет в уме, и мыслит как существующее то, что уже сделал. Значит, убедится даже безумец, что хотя бы в уме есть нечто, больше чего нельзя ничего себе представить, так как когда он слышит это (выражение), он его понимает, а всё, что понимается, есть в уме. И, конечно, то, больше чего нельзя себе представить, не может быть только в уме. Ибо если оно уже есть по крайней мере только в уме, можно представить себе, что оно есть и в действительности, что больше. Значит, если то, больше чего нельзя ничего себе представить, существует только в уме, тогда то, больше чего нельзя себе представить, есть то, больше чего можно представить себе. Но этого, конечно, не может быть. Итак, без сомнения, нечто, больше чего нельзя себе представить, существует (existit) и в уме, и в действительности» [**] – одним из наиболее известных сторонников онтологического доказательства сегодня является Алвин Карл Плантинга, американский аналитический философ. Он же модифицировал аргументацию Ансельма посредством логического инструментария т. н. «возможных миров». Подробнее о нем, о других версиях рассматриваемого способа доказать бытие Бога, а также о критике оных вместе с шуточными вариациями на тему – в статье Грэма Оппи: https://www.philosophy.ru/ru/ontological_... [***] – проведение различ(ен)ия между «существованием» и «бытием» (в оригинале «existence» и «being»), по сути, основная стратегия по развенчанию онтологического аргумента в различных его версиях (хотя, видимо, и для современного здравого смысла и интуиции, на нем оформленной, сложно без доли сомнений воспринимать этот способ доказательства всерьез). В наиболее ясном виде подобная критика была сформулирована Кантом (где-то в Сети существовала мини-лекция Дианы Гаспарян из ВШЭ по аргументу Ансельма и кантовскому опровержению, но в открытом доступе ее уже нет). Я бы преподнес ее так: «Быть чем-то» («быть определенным образом») нельзя приравнять к «нечто есть» («нечто существует») Притом «нельзя приравнять» означает то же самое в этом случае, что и «[из этого] с необходимостью следует [это]». Эту логическую максиму можно применить к онтологическому аргументу о существовании бога таким образом: «Если быть богом равно быть самым совершенным, то это означает, что такой бог с необходимостью есть» И, предполагает в статье Тед Чан, подобное же строение аргументации содержится в первых формах доказательства о необходимости наступления Технологической Сингулярности. Видимо, адаптируя критическую формулу выше к рассуждению Гуда, можно получить такую запись: «Если быть сверхразумной машиной равно быть рекурсивно самосовершенствующейся машиной, то будут существовать (появляться после создания первой сверхразумной машины) все более и более сверхразумные машины (без потенциальной границы роста для подобного «поумнения», за исключением, быть может, границ физических)» [****] – переводы статей Винджа о Технологической Сингулярности можно найти у FixedGrin https://medium.com/@LoadedDice/the-fu... и М. Левина (в сборнике Сингулярность. М.: АСТ, 2019). [*****] – не ради уточнения высказывания, а в силу ассоциаций и параллелей, приведу похожие афоризмы от Витгенштейна и Брехта: «Берберини: А не кажется ли вам, друг мой Галилей, что вы, астрономы, просто хотите сделать свою науку более удобной? (Ведет Галилея опять на авансцену.) Вы мыслите кругами или эллипсами, мыслите в понятиях равномерных скоростей и простых движений, которые под силу вашим мозгам. А что, если бы господь повелел своим небесным телам двигаться так? (Описывает пальцем в воздухе сложную кривую с переменной скоростью.) Что было бы тогда со всеми вашими вычислениями? Галилей: Ваше преосвященство, если бы господь так сконструировал мир (повторяет движение Барберини), то он сконструировал бы и наши мозги тоже так (повторяет то же движение), чтобы именно эти пути познавались как простейшие. Я верю в разум» «Людвиг Витгенштейн как-то спросил у Элизабет Энском: «Почему люди всё время говорят, что представление о вращении Солнца вокруг Земли было естественным?». «Потому что всё выглядит так, будто Солнце вращается вокруг Земли», – ответила Энском. «А как тогда должно было бы всё выглядеть, чтобы людям казалось, что Земля вращается вокруг Солнца?» – поинтересовался Витгенштейн»
|
|
|
 облако тэгов
облако тэгов


