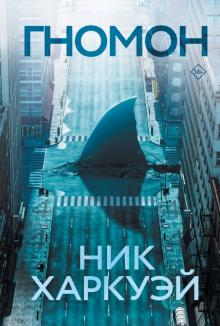| Статья написана 8 июня 15:50 |
 Деконструкция экзорцизма,или об одной экранизации "теологии мертвого бога" Деконструкция экзорцизма,или об одной экранизации "теологии мертвого бога"Продолжая странствия по фильмографии ужасов, успел недавно отсмотреть ирландский фильм "Корни" 2024 года (Frewaka в оригинале). Наверное, этот фильм и вправду любопытен некоторыми деталями: снят на ирландском, представляет образчик независимого кино, с претензией на постхоррор, т. е. кино, преодолевающие узость, штампы и, что ли, бутафорность жанра. Иначе говоря, все то, что изначально не было присуще ужасам, которые были визуальным психологическим исследованием индивидуального и коллективного бессознательного (взять хотя бы некоторые обзоры, например, на оригинальный "Хэллоуин", сделанные автором канала elcinema)*. Проблема с "Корнями" в том, что это и не пост-, и не просто хоррор. Дело не в скримерах — я и сам не их апологет — дело в том, что никакого ужаса, наваждения, страха, гнетущего чувства и даже какого-то ощущения "не по себе" фильм попросту не создает. Вся картина — политическое высказывание, даже не социальное. Если бы оно было социальным... Притом для того, чтобы понять, что же имела в виду режиссер-ка (потому что понять это из самого фильма ни разу нельзя, ведь дело даже не в таинственной недосказанности, а в обыкновенной халатности: фильм слишком для ирландцев, и то, бог весть, насколько все ирландцы в курсе о потаенных грешках католической церкви на острове-соседе Туманного Альбиона)**, потребовалось всерьез прошерстить сетевые источники. Так фильмы не делаются: они должны вызывать множественность интерпретацией, а не "а что это нахрен было?". Слишком много лавкрафтианской непонятности, как видно, вредит не только литературе, но и кинематографу. Но... но зачем был весь этот абзац, если рецензия завялена о другом фильме? В отличие от "Корней", о которых пишут как о "глубоком", пусть и "не до конца проясненном"*** фильме, "Одержимые злом" 2023 года (которые в испанском оригинале - Cuando acecha la maldad, а в англоязычной адаптации When Evil Lurks, т. е. правильнее было бы перевести на русский язык "Когда зло таится" или даже затаилось, скрылось, прячется и т. д., о чем еще будет чуть подробнее и содержательнее сказано далее) скорее наоборот, с первого взгляда, кажутся типичным современным фильмом ужасов с обилием крови, мерзости, скримеров и проч. типичного для жанра в его нынешнем массовом изводе. Но, во-первых, заявленная кинокартина действительно пугает и пугает даже не только и не столько скримерами, сколько тревожной, ужасающей и угнетающей атмосферой. И, во-вторых, в фильме сокрыт невероятный потенциал к интерпретациям потаенных смысловых слоев, искать и сканировать которые действительно хочется, в отличие от "Корней". И, заранее обозначу, что "Одержимые злом" очень хорошо ложатся на ранее прокомментированную мной "Песнь дьявола"****: если последняя представляет христианский (пост)хоррор, то первая являет собой постхристианский (пост)хоррор. Притом, можно дополнительно указать, что "Одержимые..." — это антиутопия, антиутопия религиозного (не типично религиозного, т. е. не о тоталитаризме церковных властей и т. д.) характера, тогда как "Песнь..." — утопия, на грани гностического и квиетистского мировоззрений*****. Аргентинский режиссер Демиан Рунья, ранее (помимо "Одержимых...") снявший другой хоррор, "Оцепеневшие от страха", представил два года назад необычную киноленту. В чем ее удивительность, необычность и даже уникальность? Во-первых, "Одержимые..." вполне допустимо описать как деконструкцию фильмов ужасов об экзорцизме — достопочтенном хоррорном поджанре, классическим и устойчивом для канона ужасов. Деконструируются такие трюизмы для поджанра, как: экзорцистские практики, подающиеся в начале типичного фильма под соусом устаревшего, маргинального и ненужного в контексте мировоззрений героев фильма (в "Одержимых...", наоборот, экзорцизм — органичная и признаваемая всеми часть мироустройства; более того, она представляет собой часть бюрократического функционала государства); несовременность и нетехнологичность зла (если для типичных экзорцистско-мистических хорроров привычно понимание проявлений зла как каких-то архаичных, даже архетипичных способов — через сны, старинные предметы, заброшенные дома, кладбища и т. д. — то в "Одержимых..." зло масштабнее и "инновационнее": зло обитает — в т. ч. — в тенях, отбрасываемых электрическим освещением); зло мистично (в целом такое описание, точнее деконструкция подобной характеристики совпадает с предыдущим тезисом: зло в обычных фильмах указанного поджанра перемещается и распространяется при помощи и / или наподобие проклятия, темной магии или заклинания, тогда как картина Рунья, явно под впечатлением от короновирусных ограничений, ведет себя как вирус, а борьба с ним напоминает эпидемиологические решения, т. е. карантин и нахождение нулевого пациента). Наверное, можно отыскать еще некоторые деконструкторские решения Рунья, но при относительно глубоком погружении я обнаружил именно перечисленные. Некоторые из этих инновационных трансформаций для традиционного поджанра хорроров заметили и обсудили авторы канала "Сигналы тьмы". В целом о данном проекте я узнал именно при старте поисков свидетельств в собственной правоте о сокрытых (на самом деле — гораздо и гораздо менее сокрытых, в отличие от упомянутых "Корней", где под рукой нужен один знакомый ирландец и / или англоязычные обзоры не в первой страницы произведенного гугления) пластах фильма. Видео на канале Алены и Романа в целом подтвердило некоторые из моих впечатлений, но ведущие скорее остановились если не на половине, то на двух третях пути к тому пониманию фильма, которое, как мне кажется, представляется наиболее полным и полноценным. Во многом далее мой собственный текстовый обзор будет не просто комментарием фильма "Одержимые...", но метакомментарием, т. к. будет направлен на обзор на обзор проекта "Сигналы тьмы". Но прежде совсем немного о сюжете фильма (и ТУТ НАЧНУТСЯ СПОЙЛЕРЫ). Итак, главные герои "Одержимых...", фермеры-братья Педро и Джими, слыша ночью выстрелы на соседнем участке, находят разорванное тело незнакомца. При попытках найти объяснения произошедшему, персонажи выясняют, что убитый был чистильщиком, который должен был излечить одержимого (или гнилого) Уриэля, сына местной жительницы. Последняя пыталась "излечить его силой молитвы", на что шокированный первым увиденным в жизни одержимым Педро заявляет: "Церковь давно мертва". Далее братья узнают, что власти знают об одержимом, но в силу бюрократических, политических и экономических (и т. д., и т. п.) условностей игнорируют проблему, которая обещает стать гибелью для всего аргентинского захолустья (не понимая и / или игнорируя, что все может обернуться гибелью и всей Аргентины, и не только). Покинутые властями и Богом (о последнем еще будет сказано далее), Педро и Джими вместе с богатым фермером Руисом отвозят гниющее и распухшее тело Уриэля подальше от поселения. Но это не помогает: зло аки эффективный вирус передается от Уриэля к животным, а от них к Руису и его жене, которые, будучи охваченным им, убивают друг друга (убийства и самоубийства — одни из финальных признаков передавшейся одержимости). Узнав о том, что ситуация вышла далеко за пределы какого-либо сподручного контроля, главные герои покидают свой дом, где тени начинают вести себя странно (еще один признак расширяющегося и множащегося зла), и отправляются в город. К бывшей жене Педро. Далее (о чем умалчивают, попросту забывая сказать о подобной важной детали, авторы "Сигналов тьмы") и немного до (в сцене посещения полиции из начала фильма) зритель узнает, что экс-жена достаточно жестко обошлась с главным героем, наложив на него судебный запрет на посещение детей, а также что до того она успела изменить ему с другим мужчиной (ближе к концу фильма выясняется, что был не один мужчина: Джими, брат Педро, тоже спал с еще не экс-, а просто женой родственника). Вроде бы зритель должен активно начать сопереживать Педро, который столько претерпел (о чем говорит и на чем настаивает Алена из "Сигналов тьмы": на место Педро мог оказаться любой обычный человек, зло и все горести жизни из событий фильма свалились на него просто так, без всякой на то причины) до старта событий фильма, да и после их окончания. Но все не просто: когда зло добирается и до города, а братья успевают забрать собственную мать и двух детей от экс-жены, последняя, будучи заражена злом от одержимого, звонит Педро, вводя того в неистовство. Но не ложью она вводит того в злобу и отчаянье, а правдой: мы узнаем, что Педро был алкоголиком, агрессивным и буйным человеком (и во многом, выяснится далее, таковым и остался). И он хотел убить собственных детей, особенно одного из них, страдающего аутизмом. Поэтому он, конечно, ни коем образом не положительный персонаж. А обсуждение Аленой и Романом на "Сигналах тьмы" того, что Педро (и другие персонажи, но прежде всего он) не ведут себя глупо, а действуют так, как действовал бы кто угодно, стоит признать двояким. С одной стороны, верно, что ведущие, обсуждая комментарии других зрителей, поругивают режиссера за то, что его персонажи тупицы и действуют по-дебильному. Но, как представляется, действия Педро НЕ ТОЛЬКО ЛИШЬ глупы. Точнее, за его глупостями кое-что скрывается, и об этом вновь далее. Так или иначе в доме бывшей любовницы Джими, Мирты, братья, их мать и дети Педро находят приют, но лишь временный. Зараженная злом экс-жена находит их там, забирая младшего сына (и, как обнаруживает Джими, убивая того). В поисках тела одержимого Уриэля и младшего сына Педро, последний вместе с Миртой и Джими отдельно отправляются в дорогу. Мирта, кстати, оказывается законспирированной чистильщицей и именно от нее Педро и мы, зрители, узнаем более подробную онтологию и вообще мироустройства вселенной "Одержимых...": в мире давно (сколько — непонятно, но раз мать братьев помнит забавную песенку об одержимых******, то зло приходит через них в мир уже на протяжении почти полувека точно) встречаются одержимые злом, ведь "Бог умер" (цитата Мирты), и некоторые монахи, т. н. "кобры", научились при помощи странных устройств убивать зло до того, как оно родится (тут есть некоторая неясность: явно должны были встречаться и случаи по типу окончания фильма, когда чистильщики не успевали — хотя бы потому, что они еще не появились как институция — убить одержимого до рождения из него демона; но что же тогда происходило с демоном и местом, где он родился?). Так или иначе Педро и Мирта находят Уриэля в одиноко стоящей школе, наполненной зараженными злом детьми. И в конечном счете, не слушая чистильщицу, поступая глупо, агрессивно и самоуверенно, Педро позволяет детям убить Мирту до того, как той получается убить демона. Более того, главный герой вносит последние штрихи в появлении во плоти зла: он убивает Уриэля обычными методами, что делать было воспрещено. И появляется ребенок, залитый кровью, демон, который выводит детей, свою паству, из школы. Что интересно, при этом действии не умирает сам Педро: он не убивает себя и его не убивают ребятня. Более того, демон оставляет на нем какой-то символ кровью, на лбу персонажа, который в финале тот никак не сможет смыть. Символ сродни ритуальным атрибутам крещения и проч. В самом-самом финале из знакомых нам персонажей выживают только Джими и Педро. Притом второй, понимая, что злом заражен и его выживший сын-аутист (последний, почти как в пересказе первого увиденного за жизнь Миртой одержимого), скрыто от зрителей, убивает его, погружаясь в абсолютные и безбрежные пучины отчаянья. После столь пространного пересказа ленты, постараюсь кратко и лаконично изложить свою интерпретацию просмотренного. Которая, повторюсь, как мне кажется, достаточно "жирно" и явно подана в самой картине. Перед нами мир, где бог умер, притом буквально — об это ни раз говорят персонажи фильма. Это не просто и не только смерть организованной религии — последняя лишь следствие. Это буквальная гибель божества. Гибель, описанная разными авторами из такого философского (теологического) направления, как теология смерти бога или теология мертвого бога, самым известным из которых является Томас Альтицер, одна из книг которого ("Евангелие христианского атеизма") переведена на русский язык. Притом это не просто лейбл в виде достаточно слепой и пустой визуализации режиссером для массового зрителя, но подробное следование идеям мыслителя (например, когда бог мертв, остается исполнять его завет: всегда меняться, не быть одним и тем же, как и бог из живого стал мертвым; это перекликается со словами и действиями Мирты, которая всегда уходит из одного места в другое, порывает с прошлым на всех уровнях, становясь другой и не даваясь в лапы злой статике)*******. По сути кинокартина — специфическая экранизация Альтицера. Но это, конечно, не все. В фильме не обходится без влияния и Дитриха Бонхеффера, который представлен здесь в лице Педро. Точнее Педро — это персонаж, поступающий против заветов немецкого религиозного деятеля и мыслителя, участника антинацистского подпольного движения. Описывая причину народного безумия, приведшего к власти национал-социалистов, Бонхеффер объясняет это глупостью, т. е. зло порождается глупостью человеческой: "Он [глупый человек] находится под заклятьем, он ослеплен, он поруган и осквернен в своей собственной сущности. Став теперь безвольным орудием, глупец способен на любое зло и вместе с тем не в силах распознать его как зло. Здесь коренится опасность дьявольского употребления человека во зло, что может навсегда погубить его". Похоже на диагноз для жизни Педро до и во время событий Педро, не правда ли? Глупость — не баг, а фича режиссера: Педро "тупит" не потому, что он обычный человек, а потому, что он глупец, оттого порождая зло внутри и вокруг себя. Но глупец он по собственной воле, не вследствие прирожденного недостатка ума********. В конце концов глупость опаснее даже самого зла, приманивая, "примагничивая" и усиливая последнее*********. Глупость правительства, глупость Педро, глупость Руиса и остальных персонажей делает пришествие зла более чем возможным и в конечном счете реальным. И в мире тотальной глупости зародиться новой злой вере (читай — идеологии, и здесь можно согласиться с Аленой, которая видит политические высказывания в фильме, но, вновь, открывая не всю подноготную) — проще простого. Здесь очень хорошо ложится почти кинговкая сцена демона-антихриста и его паствы из детей. И символичен в этом контексте выбор мирского имени для одержимого: Уриэль, один из наиболее значимых ангелов божьих. И последнее: так почему Педро не умер при рождении демона? Обратимся к не искаженному официальным переводом названию фильма: зло притаилось. Оно скрывается. Оно находится и находилось в самом Педро еще до заражения Уриэля. Он уже был им заражен своей глупостью, и демону попросту нечего было прибавить или убавить в главном герое. Он уже обречен на тьму собственным выбором неразумия, без всяческих посланников из Ада. Именно в этом моменте "Песнь дьявола" и "Одержимые злом" чудесным образом противоположны друг другу: главная героиня через темные обряды и зло приходит к живому богу и прощению, тогда как Педро через как бы попытки добра опускается во зло по макушку и уже навсегда. И это делает фильм, помимо замечательного визуала и актеров, столь же притягательным, как и "Песнь дьявола". __________________________________________ Примечания: * — отдельного обзора "Хэллоуина" на канале нет, но есть мини-обзор, включенный в обзор в оригинальный "Крик": https://www.youtube.com/watch?v=wgg-ll9e2mQ ** — об этих грешках, т. е. о том, чему же посвящен фильм, о чем он, я узнал только после глубокого сетевого поиска, ведь даже википедия англоязычная таковой информацией не располагает на всех возможных языках: https://collider.com/frewaka-movie-review... *** — например, одна из немногочисленных, но комплиментарных рецензий на "Корни" в русскоязычном пространстве: https://www.film.ru/articles/recenziya-na... **** — https://fantlab.ru/blogarticle91522 ***** — в тексте далее я еще несколько раз остановлюсь на очень элегантном, пусть и случайном и узкоконтекстуальном соотношении, почти на уровне "инь-янь", между этими двумя фильмами ****** — она же рассказывает о шести (Мирта позднее скажет седьмое) правилах, как себя вести в случае появления одержимого: 1. Электричество не включать 2. К животным не подходить 3. Не трогать вещи, к которым прикасался одержимый 4. Не причинять вреда одержимому 5. Никогда не называть зло по имени (Люцифер, Азраэль, Вельзевул и т. д.) 6. Никогда не стрелять из ружья в демона 7. Никогда не бойся умереть ******* — интересное изложения и ряд соображений касательно Альтицера, его версии мертвого бога и не только излагает Андрей Скородумов. Притом на пятой минуте лекции он замечает такую любопытную закономерность: фильмы-хорроры об экзорцизме и мистическом зле вообще с 1960-ых годов показывают злобные сущности и демонов во всех телесных подробностях, но бог и светлые силы в таких картинах никак не показаны вообще. Отсюда лектор-комментатор делает вывод, что авторы этих лент включены в общий культурный фон, который привел Альтицера и ряд других теологов к теологии мертвого бога. Можно заострить эту мысль по отношению к фильму "Одержимые злом": здесь режиссер показывает, что было бы в действительности, если бы бог умер. Иначе говоря, это еще один пункт в деконструкции жанра экзорцистских фильмов. ******** — вновь из Бонхеффера: "...глупость не столько интеллектуальный, сколько человеческий недостаток. Есть люди чрезвычайно сообразительные и тем не менее глупые, но есть и тяжелодумы, которых можно назвать как угодно, но только не глупцами. С удивлением мы делаем это открытие в определенных ситуациях. При этом не только создается впечатление, что глупость — прирожденный недостаток, сколько приходишь к выводу, что в определенных ситуациях люди оглупляются или дают себя оглуплять. Мы наблюдаем далее, что замкнутые и одинокие люди подвержены этому недостатку реже, чем склонные к общительности (или обреченные на нее) люди и группы людей. Поэтому глупость представляется скорее социологической, чем психологической проблемой. Она не что иное, как реакция личности на воздействие исторических обстоятельств, побочное психологическое явление в определенной системе внешних отношений. При внимательном рассмотрении оказывается, что любое мощное усиление внешней власти (будь то политической или религиозной) поражает значительную часть людей глупостью. Создается впечатление, что это прямо-таки социологический и психологический закон. Власть одних нуждается в глупости других. Процесс заключается не во внезапной деградации или отмирании некоторых (скажем, интеллектуальных) человеческих задатков, а в том, что личность, подавленная зрелищем всесокрушающей власти, лишается внутренней самостоятельности и (более или менее бессознательно) отрекается от поиска собственной позиции в создающейся ситуации. Глупость часто сопровождается упрямством, но это не должно вводить в заблуждение относительно ее несамостоятельности" ********* — вновь из него: "Глупость — еще более опасный враг добра, чем злоба. Против зла можно протестовать, его можно разоблачить, в крайнем случае его можно пресечь с помощью силы; зло всегда несет в себе зародыш саморазложения, оставляя после себя в человеке по крайней мере неприятный осадок. Против глупости мы беззащитны. Здесь ничего не добиться ни протестами, ни силой; доводы не помогают; фактам, противоречащим собственному суждению, просто не верят — в подобных случаях глупец даже превращается в критика, а если факты неопровержимы, их просто отвергают как ничего не значащую случайность. При этом глупец, в отличие от злодея, абсолютно доволен собой; и даже становится опасен, если в раздражении, которому легко поддается, он переходит в нападение. Здесь причина того, что к глупому человеку подходишь с большей осторожностью, чем к злому. И ни в коем случае нельзя пытаться переубедить глупца разумными доводами, это безнадежно и опасно"
|
| | |
| Статья написана 29 октября 2023 г. 00:08 |
 Путешествие во времени,в котором время тратится попусту*возможны (и будут) спойлеры* Путешествие во времени,в котором время тратится попусту*возможны (и будут) спойлеры*В далеком 2018 году, в заметке-рецензии на польский сериал от Netflix, я многословно негодовал о том, как же измельчала антиутопия. Дескать, в литературе господствует оруэлловщина, а за исключением нескольких интересных проектов выстраивание ужасных миров будущего ведется по лекалам квазисоциалистического реализма. Не могу сказать, что я совсем отрекаюсь от своих слов, но реальность вносит коррективы в условия их истинности. В который раз... Во-первых, сама окружающая действительность стала более оруэлловской. Дабы никого не оскорблять и не нарушать какие-либо правовые скрижали, не буду уточнять этот пункт. Но важнее то самое "во-вторых", которое как раз исходит из положения дел в антиутопиях литературных, киношных и сериальных, а не покрытых плотью материального существования. Ведь, если посмотреть на другой проект, инициированный и реализованный все тем же Netflix, теперь проявилась совершенно иная проблема. То, что заявляется как антиутопия, не преподносится, не показывается и не высказывается как антиутопия. И тут мы проделываем странную (ин/э)волюцию от книжных утопий древности (которые на самом деле были антиутопиями) через также книжные антиутопии прошлого века (которые стали эталонными, как казалось в рецензии на польскую альтернативную историю, даже устаревшими, надоевшими и набившими оскомину) к антиутопиям современным (которые непонятно почему и зачем самоименуются антиутопиями). Но обо всем по порядку. Мини-сериал "Тела" ("Bodies") преподносится как триллер, детектив и хроноопера в одном флаконе. Тизеры с трейлерами обещали, что такая смесь не станет амальгамой несочетаемого и разнородного, сохранит не просто целостность, но станет оригинальным, в меру сложным и не в меру интригующим проектом, от которого не оторваться на протяжении всех восьми эпизодов. И тут сразу надо напомнить — в первую очередь для самого себя — что тизерно-трейлерный видеоряд давно стал сам по себе искусством, самостоятельным и преследующим одну-единственную цель — завлечь аудиторию к будущим сериалу или фильму. И я, каюсь, завлекся. Прежде, чем привлечь к критическим суждениям о сериале вопрос неправдоподобности — и невысказанности — антиутопии, вернемся к амальгамному содержанию "Тел". Действительно, детектив, триллер и хроноопера не соединились тут в целое, развалившись на неудобоваримые куски. Детектив в плане интриги почти сразу же аннигилировал сам себя (авторы в первой же серии вводят четвертый временной отрезок — крайнее будущее, 2053 год, а в следующей же серии сразу приводят труп героя, точнее, персонажа, пока еще не перешедшего в статус трупа, и детективная часть на самом старте сериала становится в лучшем случае анти-детективом), триллерное напряжение не появилось вовсе (мы примерно с третьей серии знаем, кто главный злодейский-злодей, который будет делать гадости — так что как-бы-напряженные моменты неудачной реализацией хронооперы заранее становятся предсказуемыми для зрителя), а хроноопера... она как всегда больше опера, чем первый корень (я не буду много высказываться о логичности и/или алогичности темпоральных переходов и событий сериала, т. к. недавно понял, что нуждаюсь в большем изучении самопричинных объектов и иных научных интервенций в эту сторону, чтобы обоснованно разбирать подобное из мира творчества). Но помимо этой куцей амальгамности бросаются в глаза следы других проектов Netflix. Именно из них и слеплен образ "Тел", но вот зачем этот бриколаж вообще потребовался — бог весть. Например, не углядеть "Тьму" как одного из доноров для рассматриваемого франкштейна сложно (наверное, это тот сериал, в котором важнее не сам фантдоп, конфликт героев или сюжет, а идея, даже идеология, а именно идеология антинатализма с прямым цитированием Шопенгауэра — об этом писал немного ранее). Тут и сама идея тройного сюжета с детективной связкой и кровосмесительной подоплекой. Куда и без упомянутого в самом начале "1983" — тоталитарный строй, оформившийся путем мобилизации нации перед организованными врагами взрывами, а также технологическая сложность режима, его общая симпатичность (об этом далее) и даже привлекательность социального порядка. Детективную линию сквозь время для борьбы с правым поворотом, волной насилия и взрывами уже не в Англии, но Штатах можно встретить в фильме от этой же стриминг-платформы — на который я также составлял заметку — "В тени Луны". Наверняка тут можно найти и что-то еще, но, в конце концов, нет греха во вдохновении чем-то иным, а тем более своим собственным. Основная проблема сериала в том, что он выдает себя за одно. а оказывается другим. Практически на первых двух-трех эпизодах все становится кристально ясно с основными интригами, что лишает выявленную триаду выше какой-то ценности. Но на сцену выходит другой жанровый элемент, ранее не заявленный, как из четвертого временного отрезка, в котором только предстоит возникнуть тому самому триединому телу. Это борьба бравых повстанцев с тоталитарным режимом будущего, сформированного вокруг слогана "Know You Are Loved" / "KYAL ("Знай/Помни, Что Ты Любим"). И, пусть тема избитая, зато вечная. Но для подобного конфликта нужен сам конфликт. Уж пусть он не дорастает до сложных антизлодеев и антигероеев из "Пацанов", но хотя бы будут мазки противоположных цветов, контраст и понимание, почему перед нами именно злостный тоталитаризм, требующий низвержения и замены демократией. Но и здесь жанровая составляющая никак не реализована. Непонятно, почему Лондон режима KYAL плох. Нет, безусловно, ужас, кошмар и бесчеловечность, какими путями было основано все это предприятие (атомный взрыв при помощи основателя тоталитарного культа и нескольких десятков убийств до взрыва), но а результат? Вон, на странице фантлаба с "О дивным новым миром" есть много отзывов, доказывающих, что перед нами утопия, в которой хочется жить. Так и здесь есть только упоминание того, что ликвидирована парламентская демократия и выборы (а кто бы сегодня под этим не подписался? Желающих найдется вдоволь). Несогласные с режимом не в подземельях скрываются, а в городских окрестностях, с освещением, водоснабжением и доступом к Сети. А властители этого политического образования настолько то ли тупы, то ли правда сверхгуманитичны, что после завершения цикла временной петли, из-за которой они и существуют, после выполнения этой экзистенциальной задачи, они, например, не убивают персонажа Ширы Хаас, не проверяют ее на всех футуристичных детекторах лжи, выжила ли революционерка, которую играет Амака Окафор, а просто повышают ее по службе и даже не устанавливают постоянное наблюдение... с их-то технологиями, которые позволяют калекам ходить на собственных ногах. Но, повторюсь, самое главное — это неясность того, почему будущее преподносится как антиутопия. У них даже экостаканчики есть, смех и грех прямо. В конце концов, ну раз уж вы заявляется как центральное противоречие в становлении главгада — отсутствие любви и стремление к ней — то режиму KYAL можно было добавить замятинского шарма. Например, секс по талонам. В общем, сделать хоть что-то, что выявило бы в нем его коллективистскую тотальность, кровавую убогость, отсутствие индивидуальной свободы. Я даже не знаю, отчего — может, сами авторы считают, что для зрителей давно просто можно указать словом на то, что это нечто — антиутопия, и все станет на свои места. Настолько это штамп... И можно проходиться и по другим странным, неудачным и абсурдным сторонам "Тел" (например, о невероятно тупом и наивном плане из последней серии положительных персонажей по поводу того, как порвать петлю), чтобы показать, что никакие жанровые заявления не реализуются в итоговом продукте, входят в конфликт друг с другом, из-за чего эстетической целостности ну никак не выходит. Какая-то какофония отдельных событий, да, порой любопытных персонажей, которым и посопереживать можно, за развитием которых интересно наблюдать (по сути, это один лишь герой Джейкоба Форчуна-Ллойда, еврейского детектива в Великобритании времен нацистских авианалетов, который из ненастоящего детектива с грязными руками становится антигероем с примитивным, но все же моральным компасом), но второй элемент — исключение, нежели чем правило. Смотреть не советую — трата времени бесценного на бесцельное путешествие во времени.
|
| | |
| Статья написана 5 января 2022 г. 20:00 |
 Деконструкция космооперы,или "что, если..." "Культура" Бэнкса была бы анархо-империей-неудачницей Деконструкция космооперы,или "что, если..." "Культура" Бэнкса была бы анархо-империей-неудачницейПомните, Заратустра, в самом начале своего пути встретил монаха-отшельника? Тот в уединении от остального человечества молился и воздавал хвалы Богу. И ницшеанский пророк, уйдя от старика, произнес про себя: «Возможно ли это! Этот старец в своем лесу еще не слыхивал о том, что Бог мертв?». Так вот, в нашем случае умер не божественный свет, продолжающий тухнуть в храмовых гробах. Умерла космоопера как жанр. Да, именно так. Я вновь возвращаюсь в свои воздушные замки, из которых разглядываю в некоторых слабо заметных для публики фантастических произведениях постмодернистскую направленность. Притом такое значение постмодернизма в литературе, под которым понимаю закрытие некоторого «большого нарратива» до «востребования» на «ремонт». Постановку точки или лишь точки с запятой, многоточия, наделение читателя и писательской братии пониманием, что жанр находистя в кризисе и нуждается в серьезнейшей перестройке. А то перестройки, «реконструкции», данный литературный дискурс подвергнется беспощадной деконструкции. Именно безжалостный деконструирующий поток я вижу в романе Баррингтона Бейли «Дзен-пушка». И, должен признать, что именно после этой книги для меня этот слабо известный автор становится в один ряд с блестательным Кейтом Лаумером, за спиной у которого (я разглядел) две потрясающие деконструкции в фантастическом «гетто». А именно «приостановки» хронооперы через «Берег динозавров» (1971) и фантастики о Вторжении и/или Контакте при помощи «Дома в ноябре» (1969). «Дзен-пушка» же от 1982 года — выстрел по попсовому примитиву «звездно-войнушным» повествованиям, кульминацией которых стала как раз до сих пор, к сожалению, живая сага (уже не) Лукаса. Бесконечные, притом однообразные империи, «антропоидный фашизм», слепой перенос и глупая экстраполяция земных политий на космические реалии, отсутствие хоть сколько-нибудь «твердых» научно-фантастических фундаментов, предсказуемая и глупая жвачка вместро умного драйва в сюжете... Перечислять можно еще долго. Так или иначе Бейли попал точно в мишень и не даром получил от крестного отца не-мейнстримной фантастики, Майкла Муркока, клеймо «самого оригинального научного-фантастического фантаста своего поколения». В чем заключен успех деконструкции, предпринятой Баррингтоном? Первое, конечно, это калейдоскоп идей. Столько фантастических допущений, столько ярких описаний, столько ... всего! И все это — в одной маленькой книжке, которую я прочел за полтора вечера. Собственная физическая теория, диалектически переворачивающая гравитацию в надвселенские силы отталкивания, на которых строятся представления о специфической мультивселенной и около-варповских сверхсветовых перемещениях. Огромное разнообразие миров, рас и мировоззрений в одной, опять же, небольшой книжечке, которая дает фору целой многодесятилетней киносаге. Тут и роботы-забастовщики (привет робо-мятежникам из приквела про Хана Соло), и блуждающие земные города (привет хроникам о хищных городах) в виде огромного историко-социологического эксперимента, и умные животные (отлично усовершенствованная отсылка на Дэвида Брина), дети, которых готовят к войнам и уничтожениям целых планент (мимолетный эпизод про артиллериста имперского флота, учившегося на автоматах убивать, и в итоге погубившего зазря целый мир — прям таки и лезет в голову картина разросшегося вокруг маленькой детальки «Дзен-пушки» книжный цикл про игры Эндера), искусственные разломы в многомерно-иные миры («твердо-научно» модифицированная до легендарной «Лестницы Шильда» и столь же гениально сложной «Диаспоры») и т. д., и т. п. Фантазия, воображение, да и знание специфики и пестроты жанра в тогдашнем его состоянии — браво. Второе — структурированность идей. Бейли не просто вслепую стреляет мыслеформами, а собирает фрактальные множества идей, описаний и действий в единый мир и колею сюжета в нем. Созданная писателем человеческая империя — отлично продуманная и доведенная, скажем так, до логического конкретного конца из голой абстракции образ и стереотип «галактической империи человечества». Демократические вседозволенности, чрезмерное сибаритство в столичных мирах, демографический кризис, ранговая структура, дань в виде популяций талантов и гениев — браво. Создание нескольких линий повествования и их состыковка в единый сюжет с неплохим раскрытием сути макгаффина, способного одним нажатием уничтожить господские иерархии любой империи. Кстати, именно возможное появление в сверхдалеком будущем подобных квантового размера «звезд смерти» подписывает действительно смертный приговор любым звездным империям на онтологическом уровне. Ну и третье, разумеется, сатира, юмор, ирония и откровенный стеб над космооперами той поры. Начало «Дзен-пушки» в этом разрезе — просто комедия дель арте посреди космоса. 21-летний адмирал, командующий армией деликатных карликовых слонов и слишком агрессивных свиней, который боится выдать врагу отсутствие личного состава (из людей) врагу (где отсутствие л/с — лишь частный случай кризиса империи, которой люди уже и не хотят управлять) и требует от пораженного мира налог в виде нескольких тысяч ученых, людей искусства и прочих творческих персонажей, измеренным по специальным шкалам. Это великолепный и невероятно комичный старт. Комедийных сцен в принципе достаточно разбросано по роману. Именно эти три слона Бейли создали серьезный кумулятивный разрушительный эффект деконструкции космооперы. На всех возможных уровнях. Возможно, герои у Бейли послабее и более функции, чем у того же коллеги по постмодренистско-фантастическому ремеслу, Кейта Лаумера. Или у других британских «нововолновых» авторов — Муркока, Балларда, Браннера... Возможно. Возможно, что и некоторые линии и повороты сюжета были слишком быстро разрешены. Все так. Но не будем забывать, что перед нами — беллетристика. И Баррингтон Бейли, на мой взгляд, сделал все возможное, чтобы выйти за ее дискурсивные лимиты и цензы. Но, как замечали Маркс, Энгельс и Ленин, исторически конкретной, на наличном базисе, революции сложно решить задачи, требующие уже других производительных сил. Бейли, поэтому, работает с тем, что есть, и производит единственно возможный вариант развития событий — разрушает до основания космооперу, но не трогает базиса сложившегося беллетристического дискурса (разрушение дискурса дискурсов, в котором заточена (или уже нет?) фантастическая литература, словно фэнтезийная дева из пошлых сказок, дело гораздо более трудное, чем частного жанра из жанровного созвездия). За его пределы вырвутся уже другие. Не пост-, но метамодернисты вроде Джона Скальци в «Краснорубашечниках» (здесь). Последний, кстати, пример того, что точки можно и нужно превращать в точки с запятой. В принципе, именно это получилось у другого гения умного сай-фая — конечно же, Иэна Бэнкса, с его виртуозной «Культурой», которая походит на свою менее удачную сестрицу из этого самого романа Бейли. Другое дело, что Бэнкс еще в 70-ых начал писать «Выбор оружия» замечал FixedGrin. А, значит, поминки дряхлой и попсовой мумии космоопер могли случиться гораздо раньше. Просто у Бейли вышло со смехом, но без света софитов. У Бэнкса же... Что и объяснять. Гениально. Это не деконструкция и даже не реконструкция. Это построение совершенно нового фундамента жанра, с которого мы еще нескоро сойдем. "Дзен-пушка" на фантлабе
|
| | |
| Статья написана 12 июля 2020 г. 23:54 |
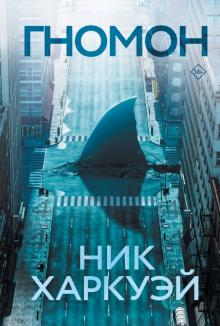 Метамодернизм между Оруэллом и Хаксли,или (анти)утопия цифрового век Метамодернизм между Оруэллом и Хаксли,или (анти)утопия цифрового век«Гномон» Ника Харкуэя прочитал еще месяц или больше назад, но копания в философском нон-фикшине отнимает слишком много времени для создания рецензий и чтения художественной литературы. В принципе, глядя по рецензиям и комментариям, по большей части все о романе, его подтекстах и контекстах, сюжетных ветках и фантастических ходах раскрыли и обнаружили. Попробую вставить пару-тройку небольших пометок от себя. Тем более перерыв между прочтением произведения и написанием очерка по нему может помочь сказать лишь главное и должное, без лишних слов. «Гномон» — книга метамодернистская. Попытка преодоления иронии и релятивизма интерпретаций постмодерна. Притом методами, инструментами и механизмами самой постмодернистской махины. Ломанное, нелинейное повествование, стог из нескольких, казалось бы, никак не связанных, параллельных историй, вроде бы широкое поле для интерпретаций, целый список отсылок на те или иные произведения литературы современной и классической. Все как в хорошем постмодернистском тексте. Но Ник Харкуэй в романе (как он сам отмечает в послесловии к работе) занимает достаточно ясную и прямую позицию. Делает политический жест, который проходит через всю канву основного сюжета и собирает в самом финале все прочие истории. По сути вся книга — один многослойный манифест в современной литературной форме. Призыв бороться с диктатом в реалиях цифрового капитализма, который в год коронакризиса может и разрастается сильнее, чем раньше... Другое дело, что призыв и вся эта манифестация — красивая, книжная, но, на мой вкус, несколько затянутая — снова негативная. В смысле чистого отрицания, но не предложения. Такие же, как антирасистские выступления в США в недавнем времени, которые мелькают у Харкуэя в описании Англии скоро будущего. Все сюжетные линии «Гномона» так или иначе обнажены прошлыми комментаторами. И ветка-стержень в виде полицейского расследования Нейт Мьеликки (которая в конце неожиданно перевернется, хотя, думаю, ценители фильмов и книжек с подобными особенностями ближе к финалу хотя бы почувствуют примерную точку кульминации), и первой любви Августина (отсылки на гностиков и мистические пышности поздней античности), и трагичного грека-нарцисса Константина (в истории которой продолжаются неоплатонические оммажи Харкуэя, которые, позволю себе заметить, хоть и красивы, но особой глубины «Гномону» не добавляют; писатель явно читал платоновский «Пир», но его же «Парменид» — вряд ли), и эфиопского художника из эпохи ажурного авангарда и «новых левых» в веке высоких технологий и «новых правых», и... Успели разобрать их имена и связи. Добавлю, что постепенное нарастание взаимности между историями, связности и выдерживание гармонии роста и развития между ними — мой поклон Нику. Отлично сработано. Другое дело, что я опечален историей с «Гномоном». Честно, хотелось *спойлер!* увидеть в фундаменте сюжетных ураганов и цунами, в самой книжной тверди что-то вроде «Города в конце времен» Грега Бир. Черт подери, я обожаю «стэплдианы», самого Стэплдона и особенно этот бировский роман. По моему скромному мнению, одна из лучших книжек о столь далеком будущем, в котором умирает вселенная, технологии давно живут по законам Кларка о магичности, а люди стараются вернуть все на свои места. Очень жаль, что Харкуэй лишь забросил удочку для любителя подобных книг, как я, в аннотацию «Гномона». Какие-то фрагменты истории столь далекого будущего имеются в романе, но для меня их было слишком мало. Кстати, из схожих мест и возможных отсылок на другие произведения мне явно вспомнился Рэй Брэдбери с его классическим и затертым от регулярных цитирований «451...», а также некоторые общие места с классикой телевизионной фантастики 21 века — «В поле зрения». И совсем чуть-чуть увидел что-то общее с «Миром дикого запада». В виде сериала, конечно. Итак, вернусь к политической жестикуляции Харкуэя. Повторюсь, что «Гномон» не шибко философский и глубокий по содержанию (хоть и любопытный по форме) роман, но рассчитанный на прогрессивного «левого» (в самом широком смысле) читателя из среднего городского класса в Западном мире. Автор рисует в принципе красивый мир «Культуры» Бэнкса на минималках. Капитализм с человеческим лицом и, что самое главное, без беса государства и бюрократии. Все, как по Ленину, казалось бы, стали бюрократами, а значит никто не бюрократ! Электронная демократия пронизывает все уровни общества и решает все вопросы. Но в конце *спойлер!* выясняется, что это далеко не так. И за колоссом эгалитарного равенства в цифре кроется левиафан диктатуры единиц. Ради общего блага, конечно, который позволяет этим ребяткам совершать трепанации и убийства вредоносных для Системы элементов. В конце Ник показывает, что эти злодеи скорее павшие в череду ошибок антигерои, которых можно вернуть на правильный путь. В конце концов за все их «ошибки» главная героиня (настоящая, которая Хантер) никак их не карает, да и вообще суда над ними нет. Как и работу Системы. И все станет хорошо... Но, боюсь, это не так. Такая антиутопия не станет утопией. Это мелкобуржуазный, простите мой лево-французский, рай, который в любой момент может стать чистилищем. Я бы мог сказать про классовый вопрос и прочий «типичный марксизм», от которого, возможно, некоторых уже тошнит в моих рецензиях. Но я скажу другое. Главная героиня, Мьеликки, и многие другие персонажи книги — безмерно одиноки. И второстепенные, и главные герои. Они живут в атомизированном мире лишь с иллюзией всеобщей взаимосвязи. Разорванный мир, который Харкуэй предлагает преодолеть («хватит разрываться», как кричали греческие националисты и монструозный Гномон), не преодолевается, потому что все одиноки и оторваны друг от друга не по собственному желанию, а по объективным причинам. Система одиночек никогда не приобретет человеческое лицо, потому что сами ее атомы-люди расчеловечены. Настоящая общность и адекватное равенство не в виде уравниловки наступит, которая само общество и каждый его участник станут наполнены человечностью — непосредственными связями друг с другом и мировым культурным наследием человечества. Иначе перед нами предстает электрофизированная оруэлловщина. Система в «Гномоне» это как ленинская формула коммунизма (а точнее только начала пути к нему) из суммы советской власти и электрификации. Здесь же цифровизация и диктатура большинства плюс избранных единиц из него. Тоталитаризм в модернизированным варианте из «1984», такой же децентрализованный, и от того крайне устрашающий. Мир «Гномона» чем-то схож на «техноутопию в отдельно взятой стране» Игана в рассказе «Дискретная машина...», где люди тоже утратили свободу над собой. А свобода утрачена из-за разрывов между людьми и узости трудовой специализации. Так или иначе, оканчивая с подноготной «политотой», которую я осилил разглядеть в романе, книга Ника Харкуэя — неплохой представитель метамодернизма и новой чувственности, которая старается преодолеть каноны жанра оруэлловской антиутопии, но впадает в более развитый, но тоже устаревший антиутопический вариант «О дивного, нового мира» Хаксли. «Атомная бомба» последнего, метафорически выражаясь, в том, что некоторые читатели видят в этой антиутопии совершенно обратное и очень даже утопическое... "Гномон" на фантлабе
|
| | |
| Статья написана 25 мая 2020 г. 23:28 |
 Антиутопия по Летову в платонических одеждах,или слишком не магический реализм Антиутопия по Летову в платонических одеждах,или слишком не магический реализмС латиноамериканской традицией и вообще иберийской современной классикой я знаком крайне слабо. Громкие имена знаю, главные произведения «магического реализма» — тоже, но до чтения их не успел дойти. Когда-то давно, в гостях у подруги, в руки попали «Сто лет одиночестве». На рассвете, по ходу наступления нового дня, в романтической не только для погружения в книги обстановке, я прочитал одну главу, но потом было не до этого. Вот и подруга ушла, и к творчеству Габриэля Маркеса давно не возвращаюсь. Тем не менее пробел в литературном познании давно хочу устранить. А заодно и разбавить бесконечные потоки философской и иной не художественной прозы, которые последний год овладевают моим свободным и не очень временем. К сожалению, избранный для этой цели роман — «Пещера» Жозе Сарамаго — оказался не подходящим для ликбеза. Так или иначе, но одна из последних работ известного нобелевского писателя разочаровала и заняла свое место рядом с «Пчелами» Полл, «Дневником неудачника» Лимонова, «Ка» Краули, «Восхождением Сенлина» Бэнкрофта. Т.е. с той беллетристикой, которая лишь украла время и не развеяла невыносимую легкость бытия последних десяти месяцев. Но что же не так с книгой столь номинированного и почитаемого писателя, «либертарного коммуниста» и справедливого критика действий Израиля на палестинских землях? Я не имею возможности сравнивать «Пещеру» с другими, более ранними работами автора. Знаком только с двум экранизациями и указанными регалиями. Поэтому говорить буду только о том, что я увидел и испытал в прочитанном, без ссылок на прошлые заслуги и высокие авторитеты. Итак, «Пещера» Сарамого — одна из последних работ писателя, пропитанная глубокими философскими, религиозными, житейскими и экзистенциальными проблемами с зашифрованными на эти вопрошания ответами и критическими замечаниями автора. Во всяком Жозе Сарамого постарался, чтобы такие вопросы и глубинные ответные реплики на них были внедрены в текст. Начнем с того, что все, возможно, актуальное, необходимые и тонкое глубокомыслие умирает в муках от непомерных объемов книги. Точнее от очень нудного, затянутого и грубо размазанного по нескольким сотням страниц повествования в «Пещере». И это притом, что, по сути, особых действий в книжке и нет. Перед нами чрезмерно подробные без всякого на то резона описания каждой мелочи в походке героев и уходящих книжных суток, сюжетного времени. Зачем читателю чуть ли не сотню страниц наблюдать за неспешной поездкой Сиприано Алгора (главного героя) и его зятя, Марсала, по маршруту от окраинной халупы с гончарной к до крайности, без всякой пользы введенного, клишированного Центра, о котором чуть позже? Зачем нам три десятка страниц следить за обедом и неспешными, немногочисленными репликами героев? Зачем по четыре десятка раз слышать однообразные рассуждения Алгора о своей новой возлюбленной, если в этих речениях нет никакого прогресса и развития, а сами они превращаются в угрюмое и лишь надоедающее топтание на одном месте? Зачем читающему этот талмуд стенограммы и расшифровки километровых телефонных разговоров главного героя с администраторами из Центра, которые еще больше, чем сама фигура Центра, переполненными штампами и набившими оскомину клише? Это — воистину главная беда книги. В «Пещере» объемы описаний и всего текста вообще никак не оправданы. Они просто не соответствуют содержанию, которое, как правильно замечают на других ресурсах рецензаторы, вполне адекватно пересказано в аннотации к книге. В принципе, ее без всяких потерь положительных впечатлений и важной информации можно редуцировать если не к этой аннотации, то хотя бы к рассказу или небольшой повести. Тогда отсутствие всякого развития сюжета и персонажей — я этого повествовательного прогресса и эволюции и вправду нет — осталось бы незаметным из-за краткого объема произведения. Но все равно остался бы вопрос — а зачем? Какова сверхзадача «Пещеры»? Что в ней есть кроме статичного сюжета, нейтральных персонажей-функций, гимна провинциализму и гармоничному, зеленому укладу жизни? Сарамаго, на мой взгляд, заложил две основных линии в книгу. Первая — критический выпад в сторону массового потребления и «победившего пластмассового мира». Вторая — квазиплатонический, перемешанный с мифологическими вставками, гимн творцам. В принципе, обе линии эклектично входят одна в другую. Если кратко о каждой, то первая — не новинка для современности. Безусловно, критика консьюмеризма и «потреблядства», дегуманизации человека в товарном мире, господства «общества спектакля» и т.д., и т.п. — это круто, это актуально, это нужно. На мой левацкий взгляд. Но на мой же взгляд читательский, такая критика должна стараться быть новой и уж точно быть интересной. Ни того, ни другого в «Пещере» нет. Мир плохого капитализма, уничтожающего старые, простые и романтичные домики крестьян, лишающего работы стариков, выбрасывающего на помойку ручные, прикольные товары, с тоталитарными, обезличенными и бесчеловечными торговыми корпорациями вроде Центра — вот и все, что может представить Сарамого. И да, забыл добавить — еще отсылки и оммаж в сторону Кафки с его абсурдистскими нападками на бюрократию. Что в этих фразах и описаниях нового? Что интересного? Может, есть какой-то фантастический или остросюжетный, не знаю, дрматичный ряд, где все эти моменты становятся классными и окрашенными жизнью для читателя? Нет. Жозе Сарамого, уж извините, но тупо и напралом просто перечисляет все эти «удары критики» правлению капитала, даже не пытаясь их приукрасить литературностью. Это скучнее эпигонства вокруг "1984". А с фантастическим осадком что? Во-первых, его почти и нет, а я ожидал увидеть в книжке, исходя из аннотации, любопытные сюжетные повороты с ожившими куклами и их использованием злобной корпорацией. Вот такие линии повествования можно было богато наполнить метафорами с критическими выпадами. А что в итоге? Один раз Сарамаго пересказывает пару мифов о сотворении человека из глины, второй раз добавляет к этому мотивы деизма и покинутости человека богом, третий раз намекает, что куклы Алгора — живые, и в конце добавляет совершенно на пустом месте, без всяких предпосылок к этому, супер-крутой-от-неожиданности поворот — открытие в глубинах Центра платоновской пещеры! Зачем — непонятно. Видимо, чтобы подчеркнуть мотив, что Алгор — это платоновский освободившийся творец и философ (хотя он никогда и не сковывался «пластмассовым миром»), а эти чертовы сотрудники Центра — пещеристые консерваторы и материалисты в самом грубом смысле слова! Круто — более посредственной эксплуатации философских сюжетов писателями я давно не видел. «Ка» Краули, который не сильно меня впечатлял, хотя бы старается как-то обновить ницшеанские мотивы и концепты иррационального волевого немца, а Сарамого в принципе никак не обновляет, не украшает, с делом не использует идеи ученика Сократа. Наплевательски забрасывает его в конец книги — и точка! Вкупе со всем выше изложенным перед нами — не платонический роман, а парменидовский, элеатский. Мертвенная статичность, которую в «Софисте» Платон и критиковал. Не знаю, чем может понравиться это творение Сарамаго. Не знаю, когда вернусь к другим эпизодам его творчества. Не знаю, когда вернусь к магическому реализму. Хотя присутствовал ли он в этой книге? Или это лишь претенциозный набор слов и абзацев? Решать вам. "Пещера" на фантлабе
|
|
|

 облако тэгов
облако тэгов